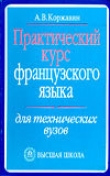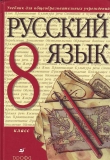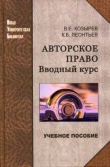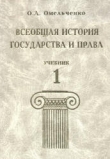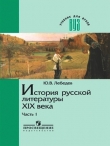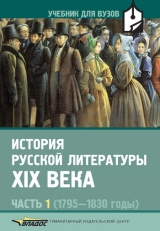
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 45 страниц)
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
Недаром они стали крылатыми. Здесь пик эмоционального напряжений, после которого естествен спад, что соответствует и тематической композиции («года минули, страсти улеглись…»). Но это временно затишье перед новым всплеском душевной энергии: «Плачь, русская земля, но и гордись…».
Самое потрясающее впечатление, однако, производит последняя "тихая" строфа. Всего три стиха. Без рифмы. Последний, ударный в смысловом отношении, – на две стопы короче предыдущих. Чрезвычайно резкий ритмический перебой останавливает внимание на финале. В полном соответствии с трагической оборванностью жизни – горестная оборванность стихотворения о ней как на строфическом, так и на стиховом уровне. Крупные совмещенные блоки предыдущих строф жестко отграничены от заключительной, подчеркнуто неполной строфы, внутри которой своя иерархия, своя диспропорция. После первых двух стихов мы еще вправе ожидать обычного катренного продолжения. Но третий обманывает наши ожидания: нарушает рифмическую инерцию, оказывается короче остальных и к тому же резко обрывает на себе все произведение. В результате именно этот заключительный стих, как уже отмечалось, особо выдвигается по смыслу. А смысл чрезвычайно важен. Итог! Как выбитое на века изречение! Но не надгробная надпись. Жизнь и смерть единичной личности переводятся в обобщенно-философский план: бессмертие таких людей – залог вечно обновляющегося бытия.
Не менее характерно для стихотворной поэтики Некрасова стихотворение, написанное двумя годами ранее, – "Рыцарь на час". Перед нами 4-ст. астрофический анапест с неупорядоченной системой рифмовки. Весь текст членится на разновеликие тематические абзацы: 6+70+3+28+16+16+16+44…+11+12. Из десяти абзацев восемь завершается многоточием…
Если пасмурный день, если ночь не светла,
Если ветер осенний бушует.
Над душой воцаряется мгла.
Ум, бездействуя, вяло тоскует.
Только сном и возможно помочь,
Но, к несчастью, не всякому спится…
Слава Богу! морозная ночь –
Я сегодня не буду томиться.
По широкому полю пойду…
В зачине первый стих на стопу длиннее остальных. Это обеспечивает необходимый разгон для главной мысли, которая содержится в третьем стихе. 4-ст. анапест с мужским окончанием без метрического зазора (гиперкаталектики) соединяется с 3-ст. анапестом второго стиха благодаря союзу «если», играющему роль сквозного анафорического повтора, фиксирующего нарастание душевного напряжения. Любопытен «строфический перерыв» после шестой строки, разрывающий перекрестную рифмовку. Им отмечен переход от реального к ирреальному видению мира. Далее на протяжении семидесяти (!) стихов изображается «рыцарское» возбуждение лирического героя, которое вновь сменяется психологической и – в переносном, символическом плане – социально-политической депрессией (бессонницей):
Спи, кто может, я спать не могу,
Я стою потихоньку, без шуму,
На покрытом стогами лугу
И невольную думаю думу.
Не умел я с собой совладать,
Не осилил я думы жестокой…
Концовка «рыцарского» абзаца отмечена весьма выразительной инструментовкой – ассонансом на "у", подчеркивающим (именно подчеркивающим, а не изображающим, так как сам по себе звук "у" нейтрален, ср.: «поцелуй») «угрюмость» думы, как в «Железной дороге»:
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою… –
и уже привычным многоточием на разрыве перекрестной рифмовки. Так обозначается резкий тематический бросок. Неожиданно всплывает, как сон наяву, тема матери:
В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далекой,
Где лежит моя бедная мать…
Второй стих на стопу укорочен. Тем самым он выдвигается прежде всего семантически, привлекая к себе повышенное внимание. Заодно предваряется дальнейшее изображение кладбища (два абзаца, между которыми отсутствует почти обязательное в системе этого стихотворения многоточие: звуки колокола переходят из одного абзаца в другой).
Наконец, в шестом, седьмом и восьмом абзацах развертывается обращение к матери; центральная в идейно-тематическом плане всего произведения часть отмечается, как курсивом, весьма резким ритмическим перебоем: чередование мужских и женских клаузул сменяется характерным "некрасовским" чередованием дактилических и мужских окончаний. Дактилические рифмы при анапестическом размере дают особый ритмический эффект:
Повидайся со мною, родимая…
о о +| о о +|о о + оо
Это явление известно под названием гиперкаталектики, наращением последней в стихе стопы. В нашем случае она – пятисложная. Между последним сильным слогом первой строки и первым сильным слогом второй кроме межстиховой паузы размещаются четыре (!) слабых слога. В этих ритмически экстремальных условиях рифмующиеся дактилические клаузулы и, естественно, содержащие их слова звучат с форсированной весомостью и значимостью, способствуя закреплению высокой исповедальной интонации:
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билося,
Что умел он любить…
Восьмой абзац, как видим, обрывается на самой высокой ноте. Именно обрывается, поскольку последний стих недосчитывается стопы, которая должна быть заполнена рифмующимся с «доказать» словом. Напрашивается: «и страдать», но вместо этого… многоточие. И еще целая строчка точек – явление, названное Ю. Н. Тыняновым значимым «эквивалентом текста».
Более широкий, чем обычно, просвет между абзацами и недвусмысленная ремарка ("Утром в постели") накладываются на только что упомянутый ритмический перебой в полном соответствии с названием стихотворения и его идеей: кончился час прозрения и одушевления, настало трезвое пробуждение. Возвращается прежнее чередование мужских и женских клаузул. А открывающее девятый абзац восклицание приобретает насмешливо-иронический смысл. Это впечатление усиливается переносом:
О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы –
Все в душе угнетенной моей
Пробудилось… Но где же ты, сила?
Я проснулся ребенка слабей.
Знаю: день проваляюсь уныло,
Ночью буду микстуру глотать,
И пугать меня будет могила,
Где лежит моя бедная мать.
Знаменательна перекличка финальных строк третьего и пятого абзацев.
Между девятым и десятым абзацами отсутствует многоточие. Тематически они продолжают друг друга: от частного (индивидуальной судьбы) к общему (судьбе всего поколения):
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано… –
так заканчивается «злая песнь» насмешливого «внутреннего голоса», так выносится (изнутри!) приговор целому поколению, так завершается это беспощадно искреннее стихотворение.
Пристрастие Некрасова и поэтов его школы к пародийному передразниванию сопровождалось переосмыслением вместе с хрестоматийно известными текстами ("И скучно, и грустно…", "Колыбельная"), их также хрестоматийно известной метро-ритмической и строфической формы:
Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки –
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
В другом случае поэт добивается того же эффекта, соединив одическое десятистишие с триолетным ходом в концовке и с отнюдь не одическим содержанием в сатире «Нравственный человек», 1847:
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Жена моя, закрыв лицо вуалью,
Под вечерок к любовнику пошла:
Я в дом к нему с полицией прокрался
И уличил… Он вызвал: я не дрался!
Она слегла в постель и умерла,
Истерзана позором и печалью…
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Тем же путем, разоблачая враждебные эстетические принципы, шел Д. Минаев: в стихотворении «Холод, грязные селенья…», 1863, пародийно обыгрываются не только метрика, интонационные ходы и безглагольность нашумевшего стихотворения А. Фета «Шепот, робкое дыханье…», (1850), но и скандальная конкретика цикла его статей «Из деревни», опубликованного в «Русском вестнике» за 1863 г.; в стихотворении «Чудная картина!…», 1863, помимо одноименного произведения Фета, отразились такие его известные вещи, как «Знакомке с юга», «Георгины», «У камина», «Грезы», «Певице», наконец, в цикле «Мотивы русских поэтов», ‹1865› стилистические доминанты адресатов творческой полемики сформулированы даже в заголовках: «1. Мотив мрачно-обличительный», «2. Мотив слезно-гражданский», «3. Мотив ясно-лирический», «4. Юбилейный мотив (Кому угодно)» и «5. Мотив бешено-московский».
Разрушающую жесткую связь между определенной стихотворной формой и определенным жанром работу начал, как мы помним, еще Державин, бурлескно снижая адресат своих поздних од ("Милорду, моему пуделю", "Привратнику").
Строфика Некрасова, равно как и других представителей возглавляемого им демократического направления, в целом эволюционировала от эпизодического использования самых нейтральных строф к астрофическим построениям, все более и более прозаизирующим стих. Иной стратегии придерживались их антагонисты – Ф. Тютчев, А. Фет, Ап. Григорьев, А. К. Толстой, Я. Полонский и др. Продолжая и развивая романтические традиции, они предпочитали в поэзии строфические формы, насыщенные определенными культурными ассоциациями и способные насытить текст дополнительными смысловыми обертонами.
Таковы три весьма характерных примера строфического мышления Ф. Тютчева, творчество которого пришлось на завершающую стадию романтизма и на зрелый период реализма в русской поэзии. В стихотворении 1851 г. "Как весел грохот летних бурь…" поэт использует чрезвычайно редкую и необычайно эффективную форму 8-стишия, составленного из двух катренов охватной рифмовки. На фоне нормативной модели со сплошной перекрестной рифмовкой подобные восьмистишия воспринимаются как строфы с отмеченной изобразительно-выразительной функцией. Главные признаки, характеризующие их, – округлость, универсальная архитектоническая замкнутость, пространственно-временной герметизм, уравновешенность, статика, торможение движения или его цикличность.
Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!…
Как под незримою пятой,
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой, –
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу…
Философский пафос пейзажной лирики Тютчева проявляется прежде всего в том, что он воссоздает не конкретную картину природы или какое-либо единичное событие в ней, а то, что происходит всегда как неопровержимое доказательство космической вечности бытия. Вот почему так естественны и уместны в приведенном стихотворении две строфы, состоящие из двух катренов охватной рифмовки, напоминающие тем самым, конечно чисто умозрительно, две горизонтальные «восьмерки» как символ бесконечности:
aBBaCddC + eFFeGhhG.
Впрочем, гораздо чаще у Тютчева в одном произведении сочетаются восьмистишия однородной и разнородной рифмовки. Последние тяготеют к финалу, как бы разрешая сюжетное или идейно-эмоциональное напряжение неким пуантом:
Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
"Я поздно встал – и на дороге
Застигнут ночью Рима был!"
Так!., но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавой!…
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
(Ф. Тютчев, Цицерон, 1830)
Два восьмистишия представляют две части стихотворения. Его строфическая композиция выглядит весьма эффектно:
aBBaCddC + aEEaFaFa
В первой строфе обыгрываются известные слова Цицерона, исполненные мрачного поэтического пафоса и гражданской скорби о закате грандиозного римского государства. Цитата завершается как раз на стыке двух полустрофий – катренов охватной рифмовки. Довольно глубокая пауза между ними подчеркнута восклицанием римского оратора и в то же время заметно смягчена столь же энергичным восклицанием вступившего с ним в диалог автора: "Так!., но…", кстати, возмущающим ровное ритмическое движение эффектным хориямбом. Таким образом, два перетекающих один в другой охватных катрена равномерно заполняют воображаемое пространство первой "восьмерки", захватывающей в единый временной цикл античность и современность, диалог двух равномощных сознаний, тезис и антитезис: "но"!
Вторая часть – мгновенное и неотвратимое, как удар грома после молнии, философское обобщение (синтез): вначале дается афористический тезис: "Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые!", а затем исчерпывающее разъяснение его сокровенного образного смысла. Афоризм в зачине строфы занимает два первых стиха такого же охватного катрена, как и в первой части стихотворения; два следующих стиха зеркально отражаются в нем. В заключительном катрене нас подстерегает эффект обманутого ожидания: благодаря замене охватной рифмовки на перекрестную кардинально меняется интонация. Строфа и стихотворение в целом завершаются как бы укороченной мужской клаузулой, производящей впечатление убедительного заключительного аккорда. Отказавшись от рамочной композиции последнего полустрофия, поэт сохранил ее по отношению к строфе и всему стихотворению, усилив ее ассонансом ("мир-пил") и рифмой ("говорил-пил"). Что касается второго "законного" ее члена ("был"), он находят абсолютное соответствие в первой строфе и тем самым резко выдвигается по смыслу. С одной стороны, лишний раз уравниваются в правах частный случай, выражений в словах Цицерона, и общая закономерность. С другой стороны, многообразно, с предельной четкостью варьируется главная мысль произведения: истинного бытия удостаивается лишь тот, кто "застигнут ночью Рима был", кого "призвали на пир всеблагие" и кто "был допущен в их совет".
Так строится стройный Космос удивительного создания Тютчева, заключающий в себе сложную систему притяжений и отталкиваний, симметричных и асимметричных линий, напряженное поле образных и смысловых ассоциаций, живо напоминающих мерцающую бездну звездного неба.
Контрастный переход внутри восьмистишия от охватной рифмовки к перекрестной, который можно сравнить с внезапной сменой аллюра при верховой езде, в стихотворной поэтике Тютчева не единичен. К примеру, в стихотворении "Еще земли печален вид…", ‹1836›, также состоящем из двух строф, применен тот же самый прием, хотя и продиктованный, естественно, другими изобразительно-выразительными задачами:
Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она,
И ей невольно улыбнулась…
Душа, душа, спала и ты…
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?…
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь…
Или весенняя то нега?…
Или то женская любовь?…
Стихотворение необыкновенно симметрично. В нем все сравнивается со всем – первая строфа со второй, полустрофия – друг с другом. При этом обнаруживаются не только сходства, но и различия. Как и в «Цицероне», самый эффектный удар по клавишам прибережен к финалу.
Смена рифмовки мотивирована и предупреждена эмоционально яркой вопросительной интонацией, оформляющей к тому же самое важное в стихотворении сопоставление ("весенняя нега = женская любовь"). Поменяв местами последние две строки, поэт приурочивает эффект обманутого ожидания к неожиданному мотиву "женской любви", заставляя нас мысленно вернуться назад, чтобы убедиться в наличии тонких, едва различимых сигналов его грядущего явления: это и дышащий весною воздух, и невольная улыбка еще не проснувшейся природы, и лукавое обращение "Душа, душа, спала и ты", вначале несколько сбивающее нас с толку (не обращается ли поэт действительно к своей душе?), и вполне естественный вопрос о том, что волнует возлюбленную, ласкает и целует ее сон и золотит ее мечты, и, наконец, играющая кровь перед заключительным ответом-вопросом.
Носители романтической стиховой культуры, как уже отмечалось, сохраняли ей верность и в рамках реалистического направления. Пушкинско-лермонтовская линия в лице Ф. Тютчева, Ап. Майкова, Я. Полонского, А. Фета, Ап. Григорьева, Л. Мея, А. К. Толстого адаптировала применительно к новым содержательным комплексам не только традиционную строфику, но также метрику, ритмику и фонику с рифмой. Наряду с использованием уже апробированных временем форм упомянутые поэты много и охотно экспериментировали, существенно обогатив арсенал отечественной версификации в целом.
Безусловный лидер этого направления А. Фет в глухие 40-е годы имитировал элегический дистих как в собственно античных переводах (элегии из "Книги любви" Овидия, "О поэтическом искусстве" Горация) и в античных стилизациях ("Кусок мрамора"):
Тщетно блуждает мой взор, измеряя твой мрамор начатый,
Тщетно пытливая мысль хочет загадку решить… [126]126
Как это часто и бывает у Фета, в стихотворении органично переплелись аллю– зии пушкинских стихотворений: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы...», 1829, «Художнику»/1836, и отчасти стихотворений В. Жуковского, впи– санных им в 1837 г. в альбом Пушкина, подаренный покойному поэту когда-то Ев– докией Петровной Растопчиной.
[Закрыть],
так и в оригинальных произведениях обыденно-бытовой тематики («Право, от полной души я благодарен соседу…», «Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно…», ‹1842›).
Зрелый Фет, видимо, вслед за Лермонтовым, охотно прибегал к нетривиальным трехсложникам с вариацией анакруз, симметрично сочетая 3-ст. анапест и 3-ст. дактиль:
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый,
Влево бегущий пробор.
(3 апреля 1883)
Того же происхождения были, очевидно, и опыты 4-ударного дольника в "раздвоившемся" в процессе написания стихотворении: "1. Измучен жизнью, коварством надежды…" и "2. В тиши и мраке таинственной ночи…", 1864. Возможно, некоторое воздействие на его появление оказал очень популярный в это время "русский Гейне", точнее, метрические кальки его фирменных дольников, главным образом у М. Лермонтова и М. Михайлова. В начале первого стихотворения две первых строфы представляют собой логаэд 1122.1, в последующих катренах (кроме 5-го) чередование 1-сложных и 2-сложных междуиктовых промежутков становится непредсказуемым. Следовательно, метрическую форму стихотворения правильнее квалифицировать как переходную (ПМФ).
Отказ от рифмы и равностопности в стихотворении "Я люблю многое, близкое сердцу…" позволяет рассматривать его как вольный белый дольник или, по классификации B. C. Баевского, как дольниковый верлибр:
Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я…
Чаще всего мне приятно скользить по заливу, –
Так, – забываясь
Под звучную меру весла,
Омоченного пеной шипучей, –
Да смотреть, много ль отъехал…
Повышенное внимание к звуковому составу поэтического текста знаменовало у А. Фета и его единомышленников один из важнейших моментов творческого акта. Не удовлетворяясь нейтральным благозвучием, они целеустремленно добивались различных импрессионистических эффектов. Так в своем экстравагантном безглагольном стихотворении «Шепот, робкое дыханье…» Фет на фоне общей фонетической гармонии актуализирует основные образные узлы, уравновешивая слышимую (в первом катрене) и видимую (в двух последних) картину мира:

Как показывает вокалическая решетка, среди гласных звуков превалирует "а", занимающий к тому же наиболее активные позиции: в начале и в конце стиховых рядов, в начале и концовке стихотворения, благодаря чему ярко выделяются отмеченные им «ключевые» слова: зарифмованные «дыханье – колыханье», «соловья – ручья», «без конца – лица» и «янтаря – заря», а также «ряд», «лобзанья» и еще раз «заря». На уровне аллитераций вне конкуренции сонорный звук "р", восемь раз форсированный как опорный предударный и еще несколько раз подхватывающий опорные, составляя с ними неразрывное целое, передающее или единый звуковой образ: «трели соловья», «серебро… ручья» или – колористический: «пурпур розы», «отблеск янтаря» «и заря, заря». Чуть менее заметны аллитерационные цепи «длинного» "н": «дыханье», «колыханье сонного ручья», «свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений…» и «розового», цвета «зари» "з": «пурпур розы» «и лобзания и слезы, и заря, заря!…»
4.
1880–1890-е годы в истории русской стиховой культуры, как и стихотворной поэзии в целом, получили весьма прозрачное наименование «эпохи безвременья». К этому времени завершили свой творческий путь наиболее крупные поэты обоих противоборствующих направлений – тютчевско-фетовского и некрасовского. Активно действующее ядро российского Парнаса составили Д. Минаев, С. Надсон, К. Случевский, К. Р. (К. К. Романов), П. Бутурлин, B. C. Соловьев и другие поэты, для которых стихотворная форма не была предметом первостатейной заботы, если не считать виртуозных фокусов с каламбурной рифмой Д. Минаева:
Область рифм – моя стихия,
И легко пишу стихи я;
Без раздумья, без отсрочки
Я бегу к строке от строчки,
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с каламбуром.
(В Финляндии, ‹1876›)
Пожалуй, наиболее одиозным поэтом безвременья, стихотворцем, с пафосом рифмующим публицистические клише, беззаботно балансирующим на грани графоманства, был Семен Надсон, столь адекватно высмеянный Багрицким, прочувствованно продекламировшим его стихи, по свидетельству К. Паустовского, просящему подаяние нищему:
Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой.
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, –
Верь: настанет пора – и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!
Конечно, эти стихи даже не притворяются стихами: чередование 4-х и 3-ст. анапеста с почти регулярным, но ничем не мотивированным отягощением первой стопы, примитивные банальные рифмы (чего только стоит предосудительно-запретная пресловутая рифмопара «кровь – любовь»!) и незамысловатые восьмистишия, сложенные из давно позабывших о своей строфической принадлежности катренов перекрестной рифмовки, практически не участвуют в «концерте для смысла с оркестром» (Т. Сильман). Впрочем, ни сами стихи, ни их автор никакой ущербности не испытывали. Напротив, они имели шумный успех, восторженных почитателей и даже в общественном мнении котировались достаточно высоко. И дело тут не в отсутствии таланта. Такова была литературная ситуация в целом. Техническая сторона поэтического творчества отошла на второй план. Главным критерием художественности в литературе утвердилась естественность [126]
[Закрыть], а, следовательно, в ряду прочего незаметность стихотворной формы при полном безразличии к ее культурно-ассоциативным ореолам и эклектическом смешении жанровых, стилистических и смысловых предпочтений. К. Фофанов, к примеру, непринужденно обращается к Кольцовскому пятисложнику для передачи едва ли уместной для него ситуации политического вольнодумства:
Потуши свечу, занавесь окно.
По постелям все разбрелись давно.
Только мы не спим, самовар погас,
За стеной часы бьют четвертый раз!
До полуночи мы украдкою
Увлекалися речью сладкою:
Мы замыслили много чистых дел…
До утра б сидеть, да всему предел!…
Ты задумался, я сижу – молчу…
Занавесь окно, потуши свечу!…
(1881)
Поразительная нечувствительность поэта к разрешающим возможностям в данном случае метрической формы объясняется вовсе не скудостью его версификационного мастерства (К. Фофанов, между прочим, пользовался репутацией стихийного предтечи символистов), а, скорее, его принципиальной невостребованностью. Причины такого положения очевидны: усилившееся господство реалистической прозы, равнение на нее поэтов, торжество процесса прозаизации стиха, начатого зрелым Пушкиным и продолженного Некрасовым и, наконец, почти синхронный уход со сцены представителей романтической школы версификации.
И тем не менее, эпоха безвременья не была совершенно бесплодной для развития отечественного стиха. Среди ее ведущих поэтов были и такие, кто незаметно, исподволь готовил невиданный ренессанс стихотворчества, который принято называть серебряным веком русской поэзии. Таковы прежде всего А. Майков, Я. Полонский, Л. Мей, П. Бутурлин, В. Соловьев, К. Фофанов.
Как это ни парадоксально, но окончательное преодоление "технического одичания" (выражение В. Я. Брюсова), которое постигло русскую поэзию на исходе XIX в., взяли на себя поэты, пользовавшиеся репутацией декадентов: Н. Минский, И. Анненский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус. Опираясь отчасти на опыт западных мастеров, отчасти "припоминая" исконно русскую традицию, они в корне изменили отношение к стихотворной форме, переставшей после них быть внешним, случайным и малосущественным элементом поэтического творчества. Наиболее продуктивной их преобразующая деятельность оказалась в области строфики. По достоинству оценили они, в частности, эстетические возможности таких канонических твердых форм, как терцины и сонет.
Цепная строфическая композиция, основанная на рифмовке нечетных стихов с перебросом рифмических цепей через четные из трехстишия в трехстишие и замыканием всего произведения или обособленной его части одинарным стихом (aba bcb cdc ded e), получившая наименование терцин, воспринималась в европейской поэзии в неразрывной связи с шедевром ее канонизатора Данте Алигьери "Божественной Комедией". У нас в России ее полномочным Вергилием стал Пушкин ("В начале жизни школу помню я…", 1830, и вольный перевод двух отрывков из "Ада", 1832). К терцинам обращались также И. Козлов (пер. отрывка из "Чистилища", 1832), П. Катенин (пер. трех песен "Ада"), Ап. Майков ("Нимфа Эгерия", 1844, отрывок "Вихрь", 1856, тематически связанный с V песней "Ада"), А. Фет ("Встает мой день, как труженик убогой…", 1865), Д. Минаев (неудачный пер. "Божественной Комедии", 1874), П. Вайнберг (пер. III песни "Ада", 1875), А. К. Толстой ("Дракон", 1875) и другие русские поэты.
К концу 80-х и особенно в 90-е годы интерес к терцинам в русской поэзии вспыхивает с новой силой. Исключительную роль в их популяризации и осмыслении сыграли старшие символисты. Как бы принимая эстафету от А. К. Толстого и П. Вейнберга, Д. С. Мережковский публикует свою поэму-стилизацию "Уголино", снабдив ее подзаголовком "На мотив Данте":
В последнем круге ада перед нами Во мгле поверхность озера блистала Под ледяными, твердыми слоями.
На эти льды безвредно бы упала,
Как пух, громада каменной вершины,
Не раздробив их вечного кристалла.
И как лягушки, вынырнув из тины,
Среди болот виднеются порою,
Так в озере той сумрачной долины
Бесчисленные грешники толпою
Согнувшиеся, голые сидели
Под ледяной, прозрачною корою…
В том же духе выдержана еще одна «легенда из Данте», представляющая собой импровизацию на тему «Божественной комедии», – «Франческа да Римини». Наконец, терцинами же написано стихотворение «Микельанджело», в котором рассказывается о ночной прогулке по Флоренции – родному городу «величавого выходца из Ада»:
‹…›
И мраморные люди, как живые,
Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Боккачио с приветливым лицом.
Маккиавели, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый.
И тот, кого прославила молва,
Не разгадав, – да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва
Похожий и во всем необычайный.
Как тут не вспомнить, с одной стороны, «мраморных бесов» из пушкинского стихотворения «В начале жизни школу помню я…» и описание «уголка поэтов» во время путешествия Данте с Вергилием по лимбу – первому кругу Ада, с другой! Мережковский целенаправленно, со знанием дела эксплуатирует шлейф тематических и стилистических ассоциаций, тянущийся за избранной им строфической формой. Они как бы вписываются в содержание его стилизованного произведения.
‹…›
Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой
Поник на грудь, подавленный мечтами…
Далее следует панегирик Микельанджело Буанаротти. Ударная, как всегда, концовка венчает стихотворение:
И вот стоишь, непобедимый роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаяньи спокойном и глубоком,
Как демон безобразен – и велик.
И здесь, в самой последней строке, обнаруживается косвенная отсылка к «изображеньям» сразу двух пушкинских бесов:
Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.
(Пушкин. «В начале жизни школу помню я…»)
Не менее поучительно возвращение на новом витке спирали к отошедшему было на периферию сонету, получившему в серебряном веке невиданное ускорение.
Особенно преуспели на первых порах в овладении изысканным искусством сонетной формы Николай Минский и Иннокентий Анненский. К ним следует присоединить их младшего, но рано умершего современника Петра Бутурлина.
Все трое разрабатывали сонет по западным – французским и итальянским – образцам. Показательна в этом отношении жизненная и творческая судьба Петра Бутурлина, родившегося и выросшего в Италии, получившего там отменное образование, но всегда остро ощущавшего свою кровную причастность к древней Отчизне:
Родился я, мой друг, на родине сонета,
А не в отечестве таинственных былин, –
И серебристый звон веселых мандолин
Мне пел про радости, не про печали света.
В моей душе крепка давнишняя любовь,
Как лавры той страны, она не увядает,
Но… прадедов во мне заговорила кровь.
Все в этом стихотворении пронизано солнечным бризом «приемной родины» поэта, страны, подарившей миру одну из самых пленительных поэтических форм; ритмика его изящна и гармонична, как жизнерадостная ликующая тарантелла; слово склоняется к слову легко и непринужденно, высветляя свой и чужой смысл; «серебристый звон веселых мандолин» заполняет паузы; «лавры» косвенно намекают на ставшее нарицательным имя возлюбленной Петрарки. Но кровь предков позвала в «отечество таинственных былин» и изящный сонет итальянского происхождения «перепрофилировался» в добром согласии с ладом славянской мифологии. Столь же пластично пришлась его форма к жутковатым сюжетам российской истории.
Поистине замечателен в этом отношении триптих "Царевич Алексей Петрович в Неаполе", в котором три сонета выступают в ярко выраженной нарративной функции как повторяющиеся строфы (здесь Бутурлин действует в унисон с Ап. Григорьевым, написавшим в 1856 г. сонетный цикл "Титания" и сонетную поэму "Venezia la belle"):
Графу П. И. Капнисту
1
К окну он подошел в мучительном сомненье:
В руке – письмо от батюшки-царя;
Но взор рассеянный стремился в отдаленье,
Где тихо теплилась вечерняя заря.
Без волн и парусов залив забыл движенье,
Серебряным щитом меж синих скал горя.
И над Везувием в лиловом отраженье,
Как тучка, дым играл отливом янтаря.
И Алексей смотрел на яркий блеск природы,
На этот край чудес, где он узнал впервой,
Что в мире есть краса, что в жизни есть покой,
Спасенье от невзгод и счастие свободы…
Взбешен молчанием, Толстой за ним стоял
И губы до крови, томясь, себе кусал.
2
В невольном, сладком сне забылся Алексей…
И вот его опять терзает речь Толстого:
"Вернись, вернись со мной! Среди чужих людей
Позоришь ты царя, отца тебе родного:
Но кара, верь, тебя с наложницей твоей
Найдет и здесь. Вернись – и с лаской встретит снова
Он сына блудного. Простит тебе… и ей!
В письме державное на то имеешь слово".
И пред царевичем знакомый призрак встал
Как воплощенный гнев, как мщение живое…
Угрозой тайною пророчило былое:
"Не может он простить! Не для того он звал!
Нещадный точно смерть, и грозный, как стихия,
Он не отец! Он – царь! Он – новая Россия!"
3
Но сердце жгли глаза великого виденья;
Из гордых уст не скорбь родительской мольбы,
Казалося, лилась, – гремели в них веленья,
Как роковой призыв архангельской трубы.
А он, беспомощный, привычный раб судьбы,
В те быстрые, последние мгновенья
Он не сумел хотеть – и до конца борьбы
Бессильно пал, ища минутного забвенья.
«Спаси, о господи! помилуй мя, творец!» –
Взмолился Алексей, страдальчески вздыхая,
Потом проговорил: «Я покорюсь, отец!»
И на письмо царя скатилася, сверкая,
Горючая слеза… Какой улыбкой злой,
Улыбкой палача, торжествовал Толстой!
(1891)