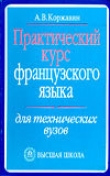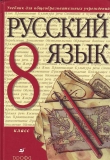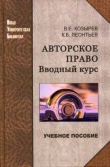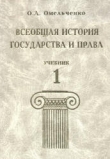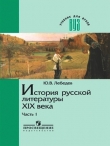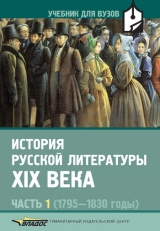
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 45 страниц)
В «Чайке» тема сложности и запутанности человеческих отношений рассматривается через призму искусства, к которому причастны четыре главных героя пьесы, представляющие два разных поколения. Старшее поколение – знаменитая актриса Аркадина и ее любовник, известный писатель Тригорин, придерживающиеся традиционного, «реалистического» направления в искусстве. Младшее – сын Аркадиной Костя Треплев, завидующий известности Тригорина и матери и в психологической борьбе с ними отстаивающий «новые формы» в искусстве и пишущий «символистскую» драму в духе Метерлинка, и его возлюбленная Нина Заречная, страстно влюбленная в театр и не менее страстно мечтающая со временем стать такой же знаменитостью, как Аркадина и Тригорин. Но по мере развития сюжета пьесы выясняется, что мечтания молодых героев – иллюзорны. При всей их субъективной искренности и возвышенности они разбиваются объективным ходом жизни. Причем их иллюзорную природу автор подчеркивает с самого начала, знакомя читателя (и зрителя) с человеческими несовершенствами тех, кто достиг славы в искусстве. Талантливая и нежно привязанная к своему сыну, Аркадина в то же время невероятно скупа, тщеславна, капризна. Тригорин – не понимает своего писательского назначения и едва ли не тяготится своим литературным даром, а как у человека у него нет ни нравственного духовного стержня, ни силы воли: соблазнивший влюбленную в него Нину, он в конце концов бросает ее на произвол судьбы.
Тема жестокости Жизни, смеющейся над человеческими планами и надеждами, находит свое воплощение также в цепочке "однонаправленно" – один в другого – влюбленных персонажей, которые все словно поражены одним и тем же недугом безответной любви. Так, учитель Медведенко влюблен в дочь управляющего имением Аркадиной – Машу Шамраеву, Маша влюблена в Треплева, не замечающего ее любви из-за своей слепой и пылкой влюбленности в Нину Заречную, Нина влюблена в Тригорина, который после разрыва с Ниной вновь возвращается под крыло Аркадиной. В финале пьесы Нина и Треплев, казалось бы, обретают какое-то подобие веры: Нина начинает понимать, что главное в искусстве и в жизни "не слава, не блеск", а умение "нести свой крест"; Треплев догадывается, что дело не в "новых формах" и не в борьбе с литературными "староверами", а в наличии таланта. Но эта вера не помогает им освободиться от тенет Жизни, распутать хотя бы один из ее мучительных узлов. Пьеса завершается тем, что Нина признается в своей неспособности вырвать из сердца бросившего ее Тригорина и любит его "даже сильнее, чем прежде", и после этого признания Треплев, которого за время разлуки с Ниной любовь к ней не оставила так же, как и писательская зависть к более талантливому Тригорину, кончает жизнь самоубийством.
«Дядя Ваня»Основа сюжета «Дяди Вани» – также история утраты веры, обернувшейся иллюзией, и последствий этой утраты для человека, неспособного жить без веры. Иван Войницкий, он же дядя Ваня, всю жизнь поклонялся профессору Серебрякову, своему родственнику, в котором видел великого ученого и работал для его благополучия и процветания. Когда же он открывает, что в действительности в Серебрякове нет ничего от великого ученого и что как человек он весьма далек от нравственного совершенства, то существование его превращается в сплошное мучение. Он считает загубленными свои лучшие годы, потраченные на служение профессору, и однажды даже, пытаясь отомстить ему за свою собственную ошибку, в аффекте ненависти стреляет в него из пистолета. Несчастлив он и в любви. Молодая, красивая жена профессора Елена Андреевна не отвечает на чувства дяди Вани, так же как не отвечает она и на любовь его друга и психологического двойника доктора Астрова – талантливого, яркого человека, тихо спивающегося в провинциальной глуши. Нелепое покушение дяди Вани на профессора ни к чему не приводит, кроме того что Серебряковы уезжают из усадьбы, куда они приезжали на лето, и все остается по-прежнему. В самом финале, как нередко бывает у Чехова, вдруг появляется некая робкая надежда на возможность иного типа существования, которая высказывается религиозно настроенной племянницей дяди Вани Соней, предлагающей ему смириться с существующим и найти счастье в каждодневном, мелком труде «для других». Однако ценность этой надежды подрывается как тем, что труд, предлагаемый Соней, для потерявшего веру дяди Вани не является по-настоящему спасительным, поскольку не несет в себе никакой одухотворяющей цели, так и тем, что сама Соня, накануне своего проникновенного монолога о счастье смиренного труда получила неопровержимые доказательства равнодушия к ней и ее одинокой судьбе любимого ею доктора Астрова.
«Три сестры»В пьесе «Три сестры» тема иллюзорности веры сплетена с темой неуловимости счастья. Душевно тонкие, интеллигентные, получившие прекрасное воспитание три сестры, заброшенные судьбой в глухую провинцию, каждая по-своему мечтают о счастье. Незамужняя Ольга мечтает о браке, рано и неудачно вышедшая замуж Маша томится по идеальной любви, Ирина собирается наполнить свою «праздную» жизнь благородным, самоотверженным трудом, дающим сознание цели жизни. Но мечты их разбиваются одна за другой, и виноватой в этом, по Чехову, оказывается не только Судьба, т. е. объективная, независимая от воли человека сила угнетающих бытовых обстоятельств, но и человеческая неспособность самих героинь выйти за пределы своего собственного субъективного видения, существенно ограничивающего их духовный кругозор. Так, Ольга, тоскующая по семейной жизни, и видит и как бы не видит, как несчастны в браке ее сестра Маша и брат Андрей; Ирина, разочаровавшись в профессии телеграфистки и собирающаяся в конце пьесы сменить ее на профессию учительницы, и видит и не видит, как мучается и страдает на своем благородном учитёльском поприще «начальница гимназии» Ольга. Так же расплывчаты и отвлеченны, при всей своей возвышенности, разговоры о неизбежности пусть отдаленного, но неизменно прекрасного будущего, которые ведут в пьесе полковник Вершинин и барон Тузенбах.
Финальные – слезные и трогательные – монологи трех сестер опять оставляют читателю и зрителю известную надежду на возможность грядущего преображения мира, когда станет окончательно ясно, зачем существуют все эти душевные муки и страдания, смысл которых, пока люди живут в настоящем, непонятен никому. Но насколько велика возможность прихода такого будущего – неизвестно. Вполне допустима точка зрения, что она вовсе равно нулю. Пока сестры произносят свои красивые монологи, на сцене появляется муж Маши Кулыгин – воплощение неотменимости скучного, пошлого, унылого настоящего, а спившийся и ко всему равнодушный военный доктор Чебутыкин изрекает свою любимую фразу: "Все равно! Все равно!", выражающую идею трагической абсурдности всего, что происходило, происходит и будет происходить в мире.
«Вишневый сад»Последняя пьеса Чехова «Вишневый сад», в отличие от предшествующих, более насыщена социально-исторической проблематикой и на первый взгляд кажется более оптимистической по настрою. Ее герои – люди разных поколений и разных социальных слоев, сосуществовавших в России конца XIX – начала XX в. Старшее поколение – дворяне Раневская и ее брат Гаев, трогательные, милые, оба (особенно Раневская) обладающие «культурной аурой» истинно интеллигентного человека, но совершенно бездеятельные и бесхозяйственные. Более молодое поколение, идущее им на смену, – это купец Лопахин, деятельный, предприимчивый, энергичный, также тянущийся к интеллигентному образу жизни, но плохо понимающий, что такое настоящая культура. Не чувствуя, в отличие от Раневской, красоты «дворянского» вишневого сада, который должен быть продан за долги, он предлагает вырубить его, чтобы на освободившемся месте настроить дач, которые приносили бы изрядный доход. Самое молодое поколение – это «вечный студент» Петя Трофимов, придерживающийся социалистических убеждений (Лопахин для него – представитель буржуазного «хищничества») и свято верующий в зарю прекрасного будущего, а также дочь Раневской Аня, с детской наивностью разделяющая взгляды Пети и, как и он, нимало не сожалеющая о гибели вишневого сада, поскольку его смерть воспринимается ими обоими как неизбежный в преддверии новой свободной эпохи расчет с «деспотическим» прошлым. Однако финал пьесы, названной комедией, трагичен. Старый слуга Фирс остается умирать в доме, покинутом и запертом его прежними хозяевами, что выражает не только идею закономерного расчета с прошлым, но и важнейшую для Чехова идею неизбывного трагизма человеческого существования – вне зависимости от смены исторических периодов, времен и эпох.
Основные понятия
Анекдот, безыдейный юмор, бессобытийность, бытовая драма, герой-двойник, драма абсурда, импрессионизм, комедия, комический диалог, комический эффект, лирическая эмоция, маленький человек, мировоззренческая позиция, многогеройность, натурализм, обличительная тенденция, «общая идея», «пейзаж настроения», поэтика объективности, психологическая драма, психологический подтекст, социальный мотив, стилистический штамп, сценка, трагедийное начало, футлярное сознание, экзистенциальная трагедия, эпоха «безвременья», юмористика, юмористический журнал.
Вопросы и задания1. В чем специфика идейной позиции Чехова по отношению к писателям-предшественникам – классикам русской литературы середины XIX в.?
2. В чем суть "безыдейного" юмора Чехова? Охарактеризуйте философские подтексты чеховского комизма.
3. Каково соотношение социального и философски-экзистенциального начал в прозе Чехова 1880–1890-х годов?
4. Что такое "пейзаж настроения"? Каким образом в чеховском творчестве преломились принципы импрессионистической эстетики?
5. Какую роль мотив поисков "общей идеи" играет в философских повестях Чехова конца 1880-х – первой половины 1890-х годов?
6. В чем своеобразие звучания социальной проблематики в "деревенских" повестях Чехова "Мужики" и "В овраге"?
7. Каков социально-исторический и философский смысл темы будущего в творчестве Чехова?
8. Как соотносятся бытовое, комическое и трагедийное начала в драматургии Чехова?
9. Что связывает чеховскую драму с русской классической драмой XIX в. и что отличает от нее?
10. Охарактеризуйте основные принципы чеховской драмы.
Литература
Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
Катаев В. Б. Литературные связи Чехова. М., 1989.
Катаев В. Л. Проза Чехова: Проблемы интерпретации. М., 1979.
Паперный З. С. "Вопреки всем правилам…" Пьесы и водевили Чехова. М., 1982.
Паперный З. С. "Тайна сия…" Любовь у Чехова. М., 2002.
Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972.
Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. Л., 1987.
Тихомиров С. В. А. П. Чехов и О. Л. Книппер в рассказе "Невеста" // Чеховиана. Чехов и его окружение. М., 1996.
Тихомиров С. В. Творчество как исповедь бессознательного. Чехов и другие. (Мир художника – мир человека: психология, идеология, метафизика). М., 2002.
Толстая Е. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х – начале 1890-х годов. М., 1994.
Чудаков А. П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986.
Заключение
Завершившееся знакомство с курсом истории русской литературы XIX в. позволяет подвести некоторые итоги, касающиеся развития русской литературы, ее своеобразия и закономерностей.
Во-первых, русская литература постоянно расширяла освоение тех пластов жизни, из которых черпала темы и сюжеты своих произведений и все глубже проникала во внутренний мир человека, в тайны его души.
Во-вторых, история русской литературы – это история смены жанров и стилей. От почти безусловного господства поэзии в начале и в первой трети XIX в. русская литература неуклонно двигалась к прозе. Торжеством повествовательных форм отмечена последняя треть XIX столетия. Это не значит, что поэзия прекращает свое существование. Она лишь уступает первое место на литературной арене прозе, но при всяком благоприятном случае готова взять реванш в состязании за власть над умами и чувствами читателей.
В-третьих, русская литература, преодолев в ходе своего движения жанровое мышление, перешла к мышлению стилями, как это наглядно выступает в творчестве Пушкина, Лермонтова и Гоголя, а затем к господству индивидуально-авторских стилей, когда каждый писатель мыслил в духе индивидуальной стилистической системы. Это хорошо видно на примерах Тургенева и Гончарова, Л. Толстого и Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Лескова и Чехова. При этом жанры никуда не исчезают, но стиль не находится в жесткой зависимости от жанра, а освобождается от строгой жанровой нормативности. Поэтому в русской литературе особенное распространение получили гибридные жанровые формы, спаянные из различных жанров. Например, "Евгений Онегин" – роман в стихах, "Мертвые души" – поэма, "Записки охотника" – рассказ и очерк. То же самое можно сказать о романах Л. Толстого (роман-эпопея "Война и мир"), Достоевского (философско-идеологический роман) и т. д.
Изучив процессы, происходившие в литературе XIX в., можно лучше понять сдвиги, характерные для художественного мышления XX-XXI веков.
Приложение Русская стиховая культура XIX века
XIX век вместил в себя небывалый взлет отечественной поэзии классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма и только-только зарождающегося модернизма. Каждое направление выработало адекватную своим эстетическим установкам систему версификации на уровне метрики, ритмики, строфики, фоники и рифмы. Это была эпоха триумфального шествия таких мощных творческих индивидуальностей, как Г. Державин, В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Н. Некрасов, А. Фет, И. Анненский и А. Блок. Их поэтический идиостиль не был однородным – каждый, согласно своему темпераменту, воспитанию, художническим предпочтениям, симпатиям и антипатиям, притяжениям и отталкиваниям, опирался на те или иные традиции, обнаруживал склонность к новаторским экспериментам. История русской версификации XIX в. может быть описана как многоструйный поток сосуществующих и сменяющих друг друга литературных направлений и неповторимых творческих индивидуальностей, сложно взаимодействующих в текущем литературном процессе.
1.
Становление русского классицизма знаменательно совпало с реформой отечественного стихосложения, которая в основном завершилась к середине XVIII в. Зрелый, уже отцветающий классицизм перешел в XIX в. под аккомпанемент четкого ритма силлаботонического стиха. Российский Парнас к тому времени был безраздельно «окружен ямбами», а рифмы стояли «везде на карауле». Рациональная правильность логически выверенного движения поэтической мысли нуждалась в соответствующих, предельно симметричных метроритмических и строфических формах. Метрический репертуар подчинялся канонизировавшейся жанровой иерархии. Жанры-аристократы: эпическая поэма и торжественная ода – обслуживались 4-х и 6-ст. александрийским ямбом, а жанры-плебеи: басня и сатира – вольным ямбом. Духовные оды, песни и анакреонтическая лирика тяготели к 3-ст. ямбу и 4-ст. хорею. Трехсложные метры, в основном дактили и анапесты, употреблялись эпизодически и бессистемно.
Ориентация на античные образцы предопределила повышенный интерес к имитациям гекзаметра и элегического дистиха:
Урна времян часы изливает каплям подобно:
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли
И на дальнейшем брегу изливают пенистые волны
Вечности в море; а там нет ни предел, ни брегов…
(А. Радищев. Осьмнадцатое столетие, 1801)
Львиную долю всей стихотворной продукции эпохи классицизма занимал наиболее регламентированный строфический стих, причем явным предпочтением пользовались крупные строфы, в первую очередь одическое десятистишие, а также разнообразные модификации 8– и 6-стиший. Среди стандартизированных, а потому стилистически нейтральных во все времена четверостиший выделялись неравностопные, с усеченным четвертым стихом (Г. Державин. "Весна", "Лето", 1804; "Евгению. Жизнь Званская", май-июль 1807).
Воспитанный на образцах русской и немецкой классицистической поэзии XVIII в., Г. Р. Державин был поэтом сугубо строфического сознания. Последний период его творчества, пришедшийся на 1800-е годы, отмечен: 1) одическими эпитафиями – великому русскому полководцу А. В. Суворову ("Снигирь", "На смерть графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского, князя Италийского ‹1800› года", "Всторжествовал – и усмехнулся…", 1800); самому себе (!) ("Ареопагу был он громом многократно…", Между 1803 и 1816, "На гроб N. N.", 1804); задушевному другу Н. А. Львову ("Память другу", 1804); 2) пиндарически-анакреонтическими мотивами в сопровождении гитары ("Гитара", 1800, "Цыганская пляска", 1805); 3) одическими славословиями иронического свойства с необычным адресатом: художнику, писавшему его портрет ("Тончию", 1801), мальчику-виночерпию ("Хмель", 1802), девятому валу жизненных испытаний ("Мореходец", 1802), Маккиавели ("Махиавель", 1802), проявившему некогда малодушие Павлу I ("Мужество", 1797; 1804), символическому воплощению революционных событий во Франции – грому, возвестившему появление "князя ада" – Наполеона ("Гром", 1806), анахорету и бонвивану графу Стейнбоку ("Графу Стейнбоку", 1807), атаману Платову и возглавляемому им войску Донскому ("Атаману и войску Донскому", 1807), вплоть до белого пуделя Милорда и собственного привратника, принявшего по ошибке депешу, адресованную однофамильцу поэта – священнику И. С. Державину ("Привратнику", 1808); 4) таким оксюморонным жанровым коктейлем как одическая идиллия или идиллическая ода, да еще и с явными рудиментами эпистолы и сатиры ("Евгению. Жизнь Званская", 1807).
Одоцентризм державинской лирики общеизвестен. Он дает о себе знать не только на жанровом, но и на строфическом уровне. Перенося апробированные классицистической одой XVIII в. строфы в новые и неожиданные для них жанровые формы, Державин сообщал им соответствующие стилистические свойства и тем самым готовил почву для радикального перепрофилирования их амплуа.
8– и 12-стишия лишились в результате своей одической приуроченности, а исключительно одическое 10-стишие, резко сократив свое присутствие в русской поэзии, поколебало обыкновение адресовать оду исключительно высокому лицу:
Осанист, взрачен, смотришь львом,
Подобно гордому вельможе;
Обмыт, расчесан, обелен,
Прекрасен и в мохнатой роже.
Велик, кудряв, удал собой:
Как иней – белыми бровями,
Как сокол – черными глазами,
Как туз таможенный какой,
В очках магистер знаменитой,
А паче где ты волокитой.
Бываешь часто сзади гол,
Обрит до тела ты нагого;
Но как ни будь кто сколько зол,
Не может на тебя другого
Пороку взвесть и трубочист,
Который всех собой марает,
Что вид твой мота лишь являет,
Который сзади уже чист
Имением своим богатым,
Но виден лишь лицом хохлатым.
(Милорду, моему пуделю)
Оценивая стихотворный идиостиль Державина, нельзя не учитывать его в высшей степени нетривиальную творческую индивидуальность, не вмещающуюся ни в какие локальные рамки. В поэтическом слове «видел он материал, принадлежавший ему всецело. Нетерпеливый, упрямый и порой грубый, он и со словом обращался так же: гнул его на колено, по выражению Аксакова. Не мудрено, что плоть русского языка в языке державинском нередко надломлена или вывихнута. Но дух дышит мощно и глубоко. Это язык первобытный, творческий. В нем абсолютная творческая свобода, удел дикарей и гениев» [122]122
Ходасевич В. Державин. М., 1988. С. 200.
[Закрыть]. «Всю жизнь относился он почтительно к просодическому канону и не смел на него посягать. Только органические особенности русского языка дали ему простор и возможность осуществить некоторые ритмические и фонетические вольности. Таковы обильные пиррихии и спондеи среди хореев и ямбов, введение рифмоидов, квазифоническая инструментовка – все, с чем при жизни Державина и после него боролись более или менее успешно и к чему в конце концов все-таки обратились: иногда лет через сто и больше» [Там же. С. 199].
Универсальное тяготение поэтического текста к благозвучию естественным образом увязывалась с общим принципом классицистической эстетики – стремлением к гармонии, которое усиливалось в высоких жанровых формах и ослабевало до определенного уровня в низких, а также с соблюдением важнейшего критерия художественности – ясности:
Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
(В. Л. Пушкин. Послание к Жуковскому, 1810)
Органическим компонентом звуковой организации стихотворного произведения почиталась рифма, преимущественно точная, суффиксальнофлективная – результат интонационно-синтаксического и образно-смыслового параллелизма в развитии поэтического дискурса, – получившая теоретическую и практическую апробацию еще в рамках сумароковской школы рифмования:
Я ведаю, что мной ты, князь, прельщен и страстен,
Не полюбить меня ты прежде был не властен;
Взаимно полюбить тебя я не властна;
Винна ли стала тем, что Вьянкою страстна?
(М. М. Херасков. Освобожденная Москва, 1798)
В исключительных случаях знаком высокого стилистического регистра могли оказаться приблизительные созвучия, прежде всего усеченные:
Терзают грудь мою мученья нестерпимы,
И в сердце злобы огнь горит неукротимый.
Здесь Рюрик царствует: я в рабстве жизнь влачу;
Здесь Рюрик царствует: я стражду и молчу.
‹…›
Пронзает грудь отца твой жребий ныне лютый,
Я с трепетом познал его в сии минуты.
Оплакивай меня, коль любишь ты отца,
И жди позорного ты дней моих конца.
(П. А. Плавильщиков. Рюрик, 1806)