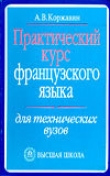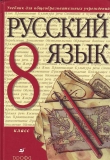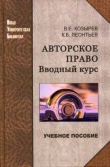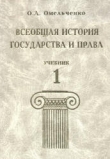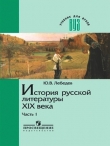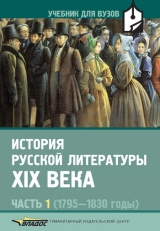
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 45 страниц)
«Гусев», «Дуэль», «Скрипка Ротшильда», «Студент», «Дом с мезонином»
Распространенное в критике 1890-х годов представление о Чехове как о писателе-пессимисте, человеке меланхолического склада, певце «сумеречных» настроений не так уж беспочвенно и вряд ли может считаться всего лишь праздным вымыслом недальновидных критиков, неспособных разобраться в якобы слишком сложной для их узкого восприятия поэтике большого художника. Не подлежит сомнению, что Чехов не только сопротивлялся подобным упрекам, противопоставляя им свою поэтику объективности, но и всерьез страдал от них, в глубине души чувствуя их небезосновательность, и постоянно – и как человек, и как писатель – предпринимал усилия для того, чтобы выйти за пределы меланхолического круга переживаний, в котором отчаянно бьются его теряющие веру герои. К человеческим попыткам самопреодоления следует отнести его изумившую современников, одновременно странную и героическую поездку в 1890 г. на «каторжный остров» Сахалин и сближение с либералами как с людьми, чей последовательный социальный критицизм был оборотной стороной их веры в возможность преобразования наличного несовершенства в иной – более гуманный, более мягкий и свободный – строй бытия. В художественном творчестве Чехова усилия по размыканию меланхолического круга также заметны на всем протяжении 1890-х годов. У Чехова этого периода можно выделить ряд произведений, в которых ситуация «духовного тупика» не то чтобы преодолевается, но как бы высветляется изнутри неожиданно открывающейся возможностью взглянуть на нее несколько со стороны, вследствие чего она на какие-то мгновения перестает восприниматься как абсолютно безнадежная. Впервые этот смысловой сдвиг появляется в написанных непосредственно после сахалинской поездки рассказе «Гусев» (1890) и повести «Дуэль» (1891).
В "Гусеве" смерть от чахотки обоих главных героев рассказа – простоватого и грубоватого денщика Гусева и его идейного и психологического оппонента "протестанта" Павла Иваныча (тип, родственный либералу Громову из "Палаты № 6"), с одной стороны, уравнивает их перед лицом общей трагедии Жизни, пресекающей существование любого человека вне зависимости от его взглядов и убеждений, с другой – описывается как отчасти теряющая свою всесокрушающую мощь, когда океан, в который с корабля сбросили трупы обоих героев, заливается изумительным по своим разнообразным оттенкам светом тропического заката, божественная красота которого словно искупает ужас человеческой смерти и позволяет, в высшем смысле, примириться с ней.
В "Дуэли" – произведении, построенном на переосмыслении ряда классических для русской литературы ситуаций (в частности – ситуации дуэли, занимавшей важное место в романах Пушкина, Лермонтова и Тургенева), – Лаевский, главный герой повести, эгоистичный, капризный, нравственно слабый, изолгавшийся человек (чеховский вариант типа "лишнего человека"), пережив духовное потрясение, находит в себе силы "скрутить себя" и начинает постепенно меняться в лучшую сторону, – черта, отличающая его от многих и многих чеховских героев, неспособных, несмотря на все усилия, добиться такого же результата. Появляется в сознании изменившегося Лаевского и намек на возможность одолеть человеческим усилием – пусть и в отдаленной перспективе – повсеместную трагедию Жизни. Повторяя в конце повести фразу: "Никто не знает настоящей правды", близкую по смысловому наполнению Заключительной сентенции "Огней": "Ничего не разберешь на этом свете", – герой не ставит здесь точку, а дополняет ее мыслью о том, что люди, ищущие "настоящей правды" (понятие, равносильное в чеховском языке понятию "общей идеи"), быть может, когда-нибудь и "доплывут" до нее.
Ненадолго, но размыкается меланхолический круг одиночества и отчаяния и в рассказах "Скрипка Ротшильда" (1894), "Студент" (1894), "Дом с мезонином" (1896). В "Скрипке Ротшильда" гробовщик Яков Бронза, всю жизнь считавший убытки и не чувствовавший страданий самых близких к нему людей, проникается состраданием к своей заболевшей жене и к бедному еврею Ротшильду, которого прежде презирал и ненавидел. Новые чувства, переполняющие его душу, выливаются в чудесную мелодию, которую он перед смертью играет на скрипке, и хотя мелодия эта бесконечно печальна, ее красота, подобно закату в "Гусеве", воспринимается как наполненная высоким смыслом, способным открыть людские души для взаимной любви и глубокого, сочувственного понимания друг друга. В рассказе "Студент" главному герою – студенту духовной академии Ивану Великопольскому, благодаря общению с простыми крестьянками, которым он пересказал евангельскую историю об отречении Петра, удается избавиться от владевших им накануне мрачных мыслей о бесперспективности исторического движения человечества. Чувствуя себя, подобно отрекшемуся от Христа Петру, предателем по отношению к смыслу, не всегда заметному, но всегда действующему в истории, студент резко меняет направление своих мыслей и точно впервые с радостным изумлением открывает для себя, что в мире есть и всегда были "правда и красота" (еще одна словесная параллель к понятиям "общая идея" и "настоящая правда"), ради которых стоит жить. В "Доме с мезонином" полюбившим друг друга героям, Художнику и хрупкой, чистой, доверчивой дёвушке Жене, как это бывало и в прежних чеховских рассказах о любви, не удается соединиться, однако в самом конце рассказа у героя, насильно разлученного с Женей, отправленной в другую губернию по настоянию старшей сестры Лиды, не симпатизировавшей Художнику, тем не менее возникает предчувствие, что они – "встретятся". Важно отметить и то, что чуткая Женя, когда Лида спорит с Художником о том, как и во имя чего должен жить человек, – принимает сторону Художника, утверждавшего, что люди должны стремиться не к мелким и частным целям, а к "вечному и общему", к радикальному пересмотру оснований общественного бытия современного человека. По существу, герой отстаивает точку зрения, имеющую соответствия как в массовой либеральной, так, и в радикально демократической идеологии, что "правда" может быть найдена только при условии тотального отрицания всех ныне существующих форм человеческой жизнедеятельности, как социальных, так и политических, признаваемых устаревшими и не отвечающими новым представлениям об истинной свободе.
«У знакомых», «Случай из практики», «Невеста»
С 1898 г. нотки оптимизма все активнее начинают звучать в чеховском творчестве. Писатель окончательно сближается с либеральным лагерем, знаком чего стал полный разрыв его отношений с Сувориным, который отныне воспринимается им исключительно как «консерватор» в уничижительном смысле этого слова. Именно с этого года в творчестве Чехова появляется тема будущего – как некой радужной перспективы или идеальной светящейся точки, одно только мысленное притяжение к которой дает душе необыкновенные силы и, по контрасту с ее чарующим светом, заставляет видеть все прошлое и настоящее как бесконечно затянувшееся время тьмы. Впервые образ такого будущего возникает в рассказе «У знакомых» (1898), герой которого Подгорин мечтает услышать от кого-нибудь «призыв к новым формам жизни, высоким и разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда…» В рассказе «Случай из практики» (1898) мечта о прекрасном будущем, во всем отличном от тяжелого, мучительного настоящего, в котором одинаково страдают и богатые, и бедные, объединяет двух внутренне одиноких и страшащихся непонятной жизни героев – доктора Королева и девушку Лизу, которые, благодаря проникновенной, задушевной беседе друг с другом, преодолевают свое одиночество и духовно выздоравливают от терзавшего их обоих недуга неверия в себя и добрые силы жизни. В «Невесте» (1903) – последнем рассказе Чехова – будущее из воображаемой идеальной точки превращается в почти непосредственно ощущаемую реальность, настолько близкую, что в нее – практически на глазах читателя – «уходит» героиня рассказа Надя Шумина, решительно порывающая с консервативным бытом своей семьи, не понимающей ее устремлений и неспособной разделить переполняющей ее радости оттого, что она смогла, наконец, освободиться от постылого прошлого, скинув его с себя, как скидывают изношенную одежду.
«Маленькая трилогия»
Идеал будущего косвенно предопределяет оценку настоящего и в написанной в 1898 г. «маленькой трилогии» – трех небольших рассказах, объединенных общими героями и темой «футлярной» закрытости человека от пугающего и беспокоящего его мира. Жизнь, от которой закрываются герои, предстает здесь не столько трагической и жестокой, как это почти всегда было прежде, сколько захватывающе неизвестной, непредсказуемой и втайне вынашивающей в себе образ новой свободы, от лица которой автором словно бросается вызов неспособности героев открыться ей и принять ее.
В первом рассказе "трилогии" – "Человек в футляре" – таким закрытым человеком является гимназический учитель греческого языка Беликов, весь и по интеллектуальному кругозору, и по болезненно-невротическим реакциям на все живое и новое принадлежащий "консервативному" прошлому, восходящему к тем диким и жутким временам, когда, как говорится в рассказе, "предок человека не был еще общественным животным" и в страхе перед всем существующим "жил одиноко в своей берлоге".
Во втором рассказе – "Крыжовник" – с необычной для Чехова резкостью обрисована жизнь человека, всецело сосредоточившегося на низменной материальной цели приобретения собственного имения с прудиком, садом и кустами любимого им крыжовника. Такая скудость цели расценивается в рассказе как предательство истинных целей, стоящих перед человечеством и, по словам одного из героев, состоящих в том, чтобы когда-нибудь в будущем человек мог овладеть "всем земным шаром, всей природой", чтобы во всей красе и силе "проявить все свойства и особенности своего свободного духа".
В третьем рассказе – "О любви" – нежно любящие друг друга герои, помещик Алехин и молодая замужняя женщина Анна Луганович, не могут соединить свои сердца и судьбы из ложного, как это видится автору, страха перед общественным мнением, которое, доверься они своей любви, конечно, осудило бы их за безнравственность, но, по мнению прозревающего к концу рассказа Алехина, было бы не право, поскольку оценивало бы все происходящее с позиций традиционной морали, испокон веков стесняющей свободу человеческого самопроявления и давно уже воспринимаемой всяким подлинно живым сознанием как ненужные, бессмысленные оковы.
«Ионыч», «Дама с собачкой», «Душечка», «Архиерей»
Тема, затронутая в «Крыжовнике», получает развитие в рассказе «Ионыч» (1989), повествующем о судьбе человека, разменявшего свои былые возвышенные стремления на пошлый идеал материального благополучия и в итоге деградировавшего как личность. Тема по-новому свободной любви, готовой усомниться в моральной оправданности и незыблемости традиционного института брака, продолжена в рассказе «Дама с собачкой» (1899). Главные герои рассказа – Гуров и Анна Сергеевна; он – женатый человек, она (как и героиня «О любви») – честная, порядочная, интеллигентная замужняя женщина, одинаково несчастливы в браке. Спасением от его унизительного, подавляющего «футляра» для них становится их любовь друг к другу, родившаяся из легкомысленного курортного романа и со временем превратившаяся в большое серьезное чувство. Чувство разделенной любви не только избавляет героев от одиночества, но и выводит к новым духовным горизонтам, они становятся чуткими к красоте мира, задумываются о «высших целях бытия» и, подобно герою «Студента», начинают ощущать жизнь человека и человечества как "непрерывное движение к «совершенству». Параллельно им открывается возможность примириться со смертью, приняв ее не как страшный знак неотменимой и неискупимой трагедии Жизни, а как закономерную составляющую таинственного мирового процесса, наличие которой не опровергает его хода, не диссонирует с ним, а, напротив, способствует (хотя и непостижимым для человеческого сознания образом) его осуществлению.
Мысль о возможности преодоления трагедии смерти присутствует и в рассказе "Архиерей" (1902), герой которого архиерей Петр в целом ряде отношений напоминает главного героя "Скучной истории". И тот и другой на пороге смерти вспоминают свою жизнь, которая у обоих внешне сложилась так удачно: один стал известным профессором, другой – архиереем; и тот и другой страдают оттого, что у них разладились отношения с близкими людьми, что они одиноки; и тот и другой вынуждены признать, что ни жизненный опыт, ни природный ум не дали им подлинного, глубинного понимания происходящего в мире. Но не менее существенна и разница между ними. Если профессор внутренне никак не может примириться со смертью, хотя, как медик, и признает ее неизбежность, то архиерей, которому также "не хотелось умирать", относится к ней с большей легкостью, во всяком случае – с меньшим напряжением. Сама же смерть архиерея, согласно прямому авторскому указанию, не вносит в мир никакой дисгармонии: все так же поют птицы, ярко светит солнце и радуются и веселятся люди, празднующие пасху, накануне которой умирает герой. Есть в "Архиерее" и тема неожиданно возникающего теплого душевного взаимопонимания между людьми. Такова сцена, когда мать архиерея вдруг начинает видеть в нем не церковного иерарха, перед которым следует раболепно благоговеть, а своего родного "сыночка Павлушу", нуждающегося в заботе и ласке. Сходный мотив – искренней материнской заботы о маленьком ребенке – появляется и в финале рассказа "Душечка" (1899). Его героиню, Оленьку Племянникову, при желании можно рассматривать как еще один вариант "футлярного" человека. Не имеющая никаких своих "мнений", она послушно повторяет мнения каждого из своих мужей, а когда остается одна, чувствует свое полное бессилие разобраться в том, что происходит в жизни. Но авторская насмешка над героиней, заметная в начале рассказа, в итоге полностью нейтрализуется указанием на ее готовность, не задумываясь, отдать жизнь "за чужого ей мальчика", гимназиста Сашу – ее последнюю, самую сильную и самую бескорыстную привязанность. Тем самым Душечка оказывается героиней, чей "футляр" распался и раскрылся, освободив путь для чистой энергии любви, нежности и сострадания, всегда переполнявшей ее, но прежде не имевшей для себя выхода.
Приведенные примеры показывают, что будущее, на которое уповают некоторые чеховские герои, для самого Чехова не является в строгом смысле историческим. Скорее, оно имеет философско-психологическое измерение. Дело не в реальном приходе идеально-прекрасного будущего, а в изменении точки зрения на настоящее, которое поверяется неким – уже сейчас присутствующим в авторском сознании – идеалом свободы от всех "футлярных" форм существования в сопряжении с этическим идеалом душевной открытости, милосердной и сострадательной любви и искренней веры в неиссякающий Смысл вечно обновляющейся жизни. Таков "символ веры" позднего Чехова, сформулировать который более конкретно представляется едва ли возможным.
В то же время старые чеховские темы: безысходного одиночества, страха перед Жизнью, беззащитности перед трагедией смерти, – хотя и уходят на второй план, никогда не перекрываются полностью новообретенной верой, – может быть, как раз по причине ее внеисторичности и, следовательно, отвлеченности и некоторой расплывчатости, имеющих определенно утопический привкус. Утопия будущего, пусть даже и открываемого в настоящем, не может, какими бы светлыми и прекрасными ни были породившие ее идеи, разрешить кардинальные проблемы человеческого существования – такова вполне трезвая, писательская и человеческая позиция позднего Чехова, парадоксальным образом уживающаяся с его отвлеченными и радужными надеждами на возможное коренное изменение существующего порядка вещей. В этом отношении характерны и показательны мысли героя "Дамы с собачкой", обретшего счастье в любви, но, подобно многим запутавшимся героям Чехова, не понимающего, как ему строить свою дальнейшую жизнь, и горько сожалеющего о том, что счастье к нему и его возлюбленной пришло так поздно и уже начинает омрачаться неотступно приближающейся старостью, вестницей никого не щадящей смерти. В благостную, примирительную концовку "Архиерея" ноту диссонанса вносит упоминание о том, что мать героя, рассказывающая после его смерти о нем своим знакомым, не вполне верящим ей, сама чуть ли не сомневается в правдивости своего рассказа – тем самым вновь вводится тема неодолимой разобщенности близких людей, а также тема полного безразличия времени и смерти к жизни человека и к памяти о нем. Не менее характерно, что Художник в "Доме с мезонином" после пламенного монолога о необходимости веры в "вечное и общее" сам стыдится своих слов и даже, в противоположность прогрессистской вере в лучшее будущее, заявляет о возможном "вырождении" всего человечества.
Драматургия Чехова
Для своих современников Чехов прежде всего был прозаиком. Его драматургические опыты многими рассматривались как оригинальное, но отнюдь не равное по значению дополнение к его прозаическому творчеству. Подлинное значение Чехова-драматурга в полной мере было осознано позднее. Большую роль здесь сыграли постановки чеховских пьес, осуществленные Московским Художественным театром К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, впервые сумевших найти ключ к новаторской драматургии писателя. Сегодня слава Чехова-драматурга всерьез соперничает со славой Чехова-прозаика, если не превосходит ее. Чехов признан одним из величайших драматургов XX столетия, его пьесы – основа репертуара ведущих театров мира.
Уже первая серьезная драматическая вещь Чехова, поставленная на сцене, – драма "Иванов" (1887) – отличалась оригинальностью построения и непривычной сложностью в разработке характера главного героя. В образе русского интеллигента Иванова, некогда поклонявшегося высоким "либеральным" идеалам социального переустройства общества, но "надорвавшегося" и пытающегося принять в качестве нормы серое, обыденное, безыдеальное существование, в которое погружены другие герои пьесы, Чехов изобразил характерный для 1880-х годов тип человека, утратившего веру, болезненно переживающего эту утрату, но не умеющего ни понять причин случившегося, ни найти в себе силы для духовного возрождения. Самоубийство Иванова в финале пьесы, символически выражающее тупиковость жизненной ситуации, в которой оказался герой, вместе с тем представлено так, что сколько-нибудь однозначно определить авторское отношение к этому событию невозможно: герой – в глазах автора – одновременно оказывается и "сильным" и "слабым", и достойным осуждения предателем былой веры и невинной жертвой трагических обстоятельств Жизни.
Однако в полную силу драматургическое новаторство Чехова проявилось в последующих его четырех пьесах: "Чайка" (1895), "Дядя Ваня" (1897), "Три сестры" (1900) и "Вишневый сад" (1903).
Эстетические принципы и поэтика Чеховской драмыВ широком смысле эстетика Чехова-драматурга соотносима с эстетикой творцов европейской «новой драмы» – Г. Ибсена, М. Метерлинка, А. Стриндберга, Г. Гауптмана с характерным для них переносом «взрывной» энергии театрального действия в подчеркнуто бытовую сферу частной, семейной жизни средних слоев и тенденцией (главным образом у Метерлинка) к нарочитой символизации действительности. Не менее значима для Чехова и опора на русскую «реалистическую» драму середины XIX в. – в первую очередь И. С. Тургенева и раннего А. Н. Островского с их установкой на замедление живого драматического действия, ослабление сюжетной интриги и приглушение конфликта за счет тщательной обрисовки посторонних для основного сюжета сцен, положений и характеров, приобретающих вполне самостоятельное значение и из условного бытового фона превращающихся в необходимые моменты общего «потока жизни».
Бытовое течение жизни в ее мелких и случайных обыденных проявлениях, не знающее ни глобальных конфликтов, ни радикальных поворотов событий, становится отличительной чертой и главным объектом изображения в чеховской драматургии. Если в драме и происходят какие-либо яркие, значимые события – такие как страшный городской пожар в "Трех сестрах" или продажа с аукциона усадьбы и сада Гаева и Раневской в "Вишневом саде", – они неизменно оказываются на периферии основного действия и принципиально ничего не меняют в судьбах героев. "Бессобытийность" чеховских пьес напрямую связана с их "многогеройностью" или, по-другому, отсутствием центрального, главного персонажа, носителя определенной идеи или важной ценностной установки, состоятельность и жизнеспособность которого проверялась бы через столкновение с действительностью или идеями и установками других героев. Разделение на главных и второстепенных персонажей у Чехова остается, но первых (в одной пьесе) всегда больше, чем один или два: в "Чайке" и "Вишневом саде" их, как минимум, четверо, в "Трех сестрах" – семеро, и один не более важен, чем другой. Целенаправленное обытовление традиционного драматургического повествования проявляется и в "смысловой разряженности" диалогов героев, в речах которых постоянно смешивается важное с неважным, глубоко серьезное со смешным и нелепым, подчас анекдотическим. Для создания впечатления большего бытового правдоподобия Чехов также использует звуковые и шумовые эффекты: звуки набата, звон колокольчика, игру на скрипке или фортепьяно, стук топора по деревьям и др. Сопровождая или перемежая ими разговоры и реплики персонажей, он добивается слияния словесного, "значимого", и несловесного, "незначимого", звукового ряда в одно общее звуковое целое, в котором традиционная жесткая граница между "значимым" и "незначимым" начинает сдвигаться и размываться.
Понижение в статусе событийного, или "внешнего" начала резко повышает у Чехова статус начала "внутреннего", или психологического. Драма Чехова – психологическая драма и в самом общем, и в самом прямом смысле этого слова. Переживания, эмоции, душевные терзания и страдания, упования и чаяния героев – вот что изнутри наполняет и динамизирует их лишенное ярких событий каждодневное бытовое существование. По словам самого Чехова, люди в его пьесах "обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни". Отсюда резкое усиление в драме Чехова, по сравнению с драмой традиционной, роли психологического "подтекста", сферы скрытых душевных переживаний героя, не получающих отражения в его сознательной речи, но находящих выражение в его случайных "странных" репликах, обмолвках, реже – в молчании и ситуационно немотивированных жестах.
Специфической особенностью пьес Чехова является и их жанровая неопределенность: обладая всеми признаками бытовой и психологической драмы, они в то же время любопытным образом объединяют в себе черты традиционных жанров комедии и трагедии. Чисто комические, иногда водевильные, даже фарсовые эпизоды и персонажи встречаются во всех пьесах Чехова, а жанр "Чайки" и "Вишневого сада" сам автор определил как комедию. Но юмор Чехова не строго комической природы, для этого в нем слишком мало веселья и оптимизма. Комические приемы нередко используются драматургом для выражения атмосферы общего разлада и взаимонепонимания, в которой так или иначе пребывают герои всех его пьес. Такова, в частности, функция оборванных, "пустых" (т. е. никак не двигающих идею или сюжет драмы) и немотивированно перебивающих друг друга монологов и диалогов, в высшей степени характерных для чеховской драматургии и позволяющих рассматривать ее как своего рода предсказание или первый опыт расцветшей в XX в. "экзистенциалистской" и "абсурдистской" драмы. Помимо атмосферы абсурда, скрыто трагедийное начало чеховских пьес реализуется также в их сюжетике: как бы ни переплетались и ни сталкивались линии жизни разных героев, сами герои всегда остаются внутренне одинокими, потерянными, независимо оттого, тоскуют ли они по идеалу, которого по непонятным причинам никогда не могут достигнуть, или, довольствуясь каким-либо его суррогатом, убеждают себя и других в том, что сумели его обрести.
Трагический отсвет лежит и на символике чеховских пьес, к которой как к новому выразительному средству прибегает автор, опираясь на опыт Ибсена и Метерлинка. С одной стороны, сквозные, лейтмотивные образы, организующие символическое пространство "Чайки" (чайка, подстреленная Треплевым), "Трех сестер" (Москва, в которую мечтают уехать сестры), "Вишневого сада" (прекрасный вишневый сад, продаваемый за долги), есть символы утраченного или предвосхищаемого в будущем Идеала, с другой – его трагической недостижимости, невоплощаемости в реальной жизненной практике и, следовательно, иллюзорности.
В содержательном отношении четыре великие чеховские пьесы продолжают и развивают проблематику прозаического творчества писателя, на первый план выдвигая проблему духовной состоятельности личности перед лицом жизненной трагедии и поисков ею истинной веры, способной дать ответы на главные вопросы существования.