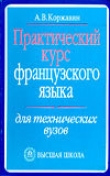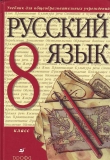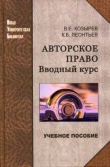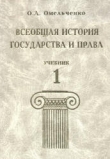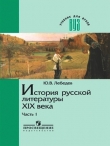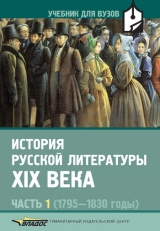
Текст книги "История русской литературы XIX века. Часть 3: 1870-1890 годы"
Автор книги: H. Вершинина
Соавторы: Наталья Прокофьева,С. Сапожков,Б. Николаева,Александр Ауэр,Л. Крупчанов,Людмила Капитонова,Валентин Коровин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Каковы же мотивы убийства? – Взять несправедливо нажитые процентщицей деньги, "посвятить потом себя на служение всему человечеству", сделать "сотни, тысячи добрых дел…"? Такова форма самозащиты, самообмана, попытка скрыть за добродетельным фасадом истинные причины. В минуты жестокого самоанализа герой осознает это.
И Достоевский, по словам Ю. Карякина, открывает «тайную корысть видимого бескорыстия» [77]77
Карякин Ю. Самообман Раскольникова (Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»). М., 1976. С. 38.
[Закрыть]. Она основывается на суровом жизненном опыте Раскольникова, на его «правде», по-своему понятой молодым человеком, на личном неблагополучии, неустроенности, на правде о мытарствах родных, на правде о недоедающих детях, поющих ради куска хлеба в трактирах и на площадях, на беспощадной реальности обитателей многонаселенных домов, чердаков и подвалов. В подобных ужасающих реалиях справедливо искать социальные причины преступления-бунта против действительности, которые первоначально воплощались лишь в умозрительных (мысленных) построениях героя.
Но мысленно отрицая существующее зло, он не видит, не хочет видеть того, что противостоит ему, отрицает не только юридическое право, но и человеческую мораль, убежден в тщетности благородных усилий: "Не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить". Больше того, герой убеждает себя в ложности всех общественных устоев и пытается на их место поставить придуманные им самим "головные" установления вроде лозунга: "да здравствует вековечная война". Это неверие, подмена ценностей – интеллектуальный исток теории и преступной практики.
Современный мир несправедлив и незаконен в представлении Раскольникова. Но герой не верит и в будущее "всеобщее счастье". Идеал социалистов-утопистов представляется ему недостижимым. Позиция писателя здесь совпадает с позицией главного героя, как и со взглядами Разумихина на социалистов вообще. "Я не хочу дожидаться "всеобщего счастья". Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить".
Этот мотив хотения, возникший в "Записках из подполья", в "Преступлении и наказании" будет повторяться ("Я ведь однажды живу, я ведь тоже хочу…"), перерастая в мотив своенравия, самоутверждения любой ценой. "Самолюбие непомерное", присущее герою, рождает культ абсолютного своеволия. В этом психологическое основание теории преступления.
Сама теория излагается в газетной статье Раскольникова, напечатанной за полгода до преступления, и пересказывается двумя участниками одной встречи: следователем Порфирием Петровичем и Раскольниковым. Диалог после убийства на квартире следователя – важнейший, кульминационный в идейном развитии конфликта эпизод. Главная мысль, в которую верит (!) Раскольников, выражена лаконично: "Люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низших (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в своей среде новое слово".
Уже сама мысль Раскольникова как бы разделила, расколола общество – не отсюда ли еще один смысл фамилии героя? В формулировке ее – идея элитарности (избранности), презрение к основной части человечества.
Подкрепить теорию призваны имена выдающихся личностей, исторических деятелей, примеры из всемирной истории. Образ Наполеона из фигуры конкретной, исторической превращается в голове Раскольникова в символическую. Это воплощение абсолютной власти и над людьми, и над ходом истории, а главное – над кардинальными законами жизни, символ безусловной "разрешенности".
В ход идут и рассуждения о законах природы, и размышления о движении человечества к цели, о смене настоящего будущим. Раскольников, даже излагая статью устно, умело прибегает к хитроумным демагогическим доводам, опирается и на философские законы, и на точные житейские наблюдения. Но в демагогии таится скрытая ловушка, страшная опасность. Все аргументы призваны убедить в том, что материал, масса, низшие обязаны быть послушными, а необыкновенные – разрушители настоящего во имя лучшего – имеют право перешагнуть через любые преграды: "через труп, через кровь". Возникает ключевая фраза: "Право на преступление".
Раскольников пытается самовластно отменить то, что – плохо или хорошо, – но сохраняло человечество от самоуничтожения: содержащееся в религиозных заповедях, писаных или неписаных законах, моральных запретах – вето на преступление, как бы исторически изменчиво ни было это понятие. "Я принцип убил", – самоуверенно и цинично заявляет герой после кровавой расправы над беззащитными. Преграды, отделяющие моральный поступок от аморального, гуманный от антигуманного, не раз сдерживающие людей у края бездны, по убеждению Раскольникова, – "предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград".
Одним из ведущих мотивов конкретного преступления стала попытка утвердить само право на вседозволенность, "правоту" убийства. М. М. Бахтин говорил об испытании идеи в романе: герой-идеолог экспериментирует, практически стремится доказать, что можно и должно переступать, "если вы люди сколько-нибудь талантливые, чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое".
Отсюда вытекает второй важнейший мотив преступления: проверка собственных сил, собственного права на преступление. Именно в этом смысле следует понимать слова, сказанные Раскольниковым Соне: "Я для себя убил". Разъяснение предельно прозрачно: проверить хотел, "тварь ли я дрожащая или право имею…"
Одержимый непомерным тщеславием, герой хотел освободиться от "предрассудков": совести, жалости ("Не жалей, потому – не твое это дело!"), встать "по ту сторону добра и зла". Теургические амбиции Раскольникова – оборотная сторона бунта против бога. И это важнейший мотив преступления, как и важнейшая часть проблематики романа. Раскольников пытается ниспровергнуть бога, несмотря на заявления, что верует, верует и в бога, и в Новый Иерусалим, т. е. в окончательное установление царства Божьего. Вспомним кстати: Порфирий Петрович намекает Раскольникову на несовместимость его учения и истинной веры.
В теории Раскольникова воплотились исподволь набирающие силу представления об особых качествах и правах личности, чьи возможности едва ли не превосходят земные пределы. В художественной форме романа Достоевский предвосхитил идеи времени, которые парили в интеллектуальной атмосфере реальной – не романной – Европы. Спустя пол тора-два десятилетия немецкий философ Фридрих Ницше создаст поэтическую теорию, почти мифическое учение об идеальном сверхчеловеке, освободившемся от морали, призванном уничтожить все лживое, болезненное, враждебное жизни ("Так говорил Заратустра"). В европейской культуре возникнет культ сильной личности, индивидуалиста, преодолевающего все на своем пути благодаря собственной воле и без оглядки на этические и религиозные нормы. Раскольникова с известной долей справедливости можно назвать ницшеанцем до Ницше.
Но если немецкий философ будет воспевать сверхчеловека, превратив его в поэтический культурный миф, то Достоевский – предупреждать об опасности, которую несет с собой нигилизм и волюнтаризм, столь популярные в умах некоторых современников.
Эта опасность наиболее наглядно выражена в последнем – каторжном сне Раскольникова: массы людей, уверенных в единоличном обладании истиной, "убивали друг друга в какой-то бессильной злобе", убивали бестрепетно и беспощадно.
Ночные кошмары каторжанина Раскольникова – последняя фаза наказания. Суть его заключается в болезненных переживаниях содеянного, в мучениях, доходящих до предела, за которым лишь два взаимоисключающих исхода – разрушение личности или душевное воскресение.
Но наказание, как и преступление, – неодномотивно. Оно многолико, многосоставно, оно вне Раскольникова и внутри него. Сразу же после убийства, проснувшись в собственной каморке, Раскольников ощущает физический ужас от того, что он совершил. Лихорадка, остолбенение, тяжелое забытье, ощущение, что он сходит с ума, – писатель не скупится на характеристику ненормального состояния, явного нездоровья. Это наказание (страдание), которое сама природа неизбежно накладывает на того, кто восстает против нее, против живой жизни, какой бы малой и непроявленной она ни казалась.
Неизбежным оказывается и отчуждение, отчаянное одиночество даже в кругу самых близких, родных ему. "О, если бы я был один", – восклицает герой-индивидуалист, все же чувствующий ответственность перед сестрой, матерью, другом за собственные поступки, за свою и их судьбу. Совершив тягчайший грех, Раскольников понимает, что "ножницами отрезал себя от людей". Это и было "мучительнейшим ощущением из всех" / Это было наказание Раскольникова, обусловленное социальной сущностью всякого человека.
Наказание тем особенно сурово и болезненно, что "теория" захватила и сердце Раскольникова: "теоретически раздраженное", – ставит диагноз Порфирий Петрович. "Зараженный дух" привел к озлоблению, к неверию: "Он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток", – такую психологическую связь убеждений, эмоций и характера героя выявляет автор.
На этом фоне возникает неверное, извращенное осмысление собственного поступка. Естественные для каждого сколько-нибудь нормального, без патологических, преступных наклонностей человека чувства страха, омерзения от содеянного, оторванности, наконец, робкий голос совести Раскольников принимает за слабость, никчемность своего Я, собственной личности, не справившейся с проверкой, экспериментом, не достойной Теории. "Убить-то убил, а переступить – не переступил. Натура подвела". Он мучается от того, что не выдержал своего преступления. Это наказание, которое сам Раскольников накладывает на себя. По большому счету оно – ложно, искусственно, это те же греховные, с точки зрения автора-христианина, бесноватые страсти, а не истинные страдания.
Освобождение от них – подспудное, медленное – начинается тогда, когда Раскольников находит человека, способного до конца понять его, деятельным сочувствием, любовью облегчить страдания и отважиться на долгую, отчаянную борьбу за преодоление чужой "правды". По парадоксальной логике художественного мира Достоевского таким человеком становится проститутка. Кульминационным в морально-психологическом конфликте добра и зла становится эпизод, когда блудница, читающая убийце евангельскую притчу о воскресении Лазаря, подвигает его к раскаянию. В грешнице Софье Семеновне Мармеладовой писатель высвечивает облик святой, христианской воительницы. Поэтому не требует ответа риторический вопрос критика Д. И. Писарева: "Как вы назовете ее за этот поступок: грязной потаскушкой или великодушною героинею, приявшею с спокойным достоинством свой мученический венец?"
Жертвенность Сони осветила новым светом жертвенность матери и сестры Раскольникова. "Сонечка… вечная Сонечка! Покуда мир стоит!" – восклицание героя придает трем женским образам "Преступления и наказания" общечеловеческую глубину и библейский колорит.
Жизнь сталкивает Раскольникова с теми, кого он презрительно именовал "материалом". Оказывается, что большинство из них обладает "живой душой", подлинностью. Конечно, эти герои романа – разные по масштабу, личностным качествам, идеалам. Эпизодический персонаж маляр Миколка берет на себя вину за несовершенное убийство. Кто он: юродивый, полоумный или просто раздавленный прессом городской жизни бывший крестьянин? Для Достоевского важно другое – Миколкой движет религиозная жажда страдания.
Среди второстепенных героев важное место занимает Разумихин, в ком русская разбросанность, беспорядочный образ жизни сочетаются с готовностью бескорыстно прийти на помощь. В уста этого героя Достоевский вложил некоторые почвеннические идеи и отрицание рассудочных построений русских утопических социалистов.
На болезненном пути избавления от теории Раскольников волею автора знакомится с настоящими, а не книжными хозяевами жизни – Лужиным и Свидригайловым. Образы явившихся в Петербург из провинции аморальных господ демонстрируют степень распространения зла, его всеохватность. Образ Свидригайлова по праву считается художественным открытием Ф. М. Достоевского. В нем воплощен тип личности, способной, с одной стороны, цинично наслаждаться плодами своих преступных деяний, с другой, – искать идеала, высокой любви. Этот мотив в повествовании приглушен, но все же очень существен. Раскольников видит в личности Свидригайлова свое, пусть деформированное отражение. Эти герои – психологические двойники. Но Раскольников все же находит для себя собственный выход из трагической ситуации – не самоубийство, а покаяние.
Профессионально подталкивает к нему Раскольникова пристав следственных дел Порфирий Петрович. Их разговоры – поединки двух абсолютно разных сознаний. Следователь воплощает существующий в капиталистическом обществе законопорядок, несовершенный и даже несправедливый, но освещенный традицией, религией и моралью. Он, когда-то сочувствующий революционным идеям, теперь советует Родиону отказаться от утопий, отдаться жизни не мудрствуя, не рассуждая. "Прямо на берег вынесет и на ноги поставит". В практическом плане это значит признаться и добровольно принять наказание, пострадать, ибо страдание – "великая вещь… в страдании есть идея".
Достоевский, как правдивый писатель, "поправляет" Достоевского – идеолога почвеннического движения. В эпилоге реалистичные эпизоды взаимоотношений героя с обитателями сибирской каторги корректируют почвеннический миф: Раскольников отчужден от народа. Но в неприкосновенности остается религиозно-нравственная доктрина Достоевского: человек, очистившись страданием, обретя истинную веру, способен к духовному возрождению. Возрождение Раскольникова в романе описано достаточно условно, вернее – только намечено. "Темой нового рассказа" стала и необычная – на основе заповедей Христа – жизнь героев. Попытку воплотить эту тему писатель предпримет в следующем романе, изобразив появление в обычной жизни активного носителя веры.
Столкновения идей в "Преступлении и наказании" породили столкновение критиков разных эстетических и общественно-политических ориентаций. Две статьи 1867–1868 годов наиболее показательны в этой полемике: "Наша изящная словесность" Н. Н. Страхова и "Борьба за жизнь" Д. И. Писарева.
Почвенник Н. Н. Страхов увидел главный смысл произведения в отражении модных и опасных теорий демократической молодежи 60-х годов. Д. И. Писарев, сторонник позитивизма и ненавистник "почвы", социалист-утопист по убеждениям, утверждал, что идеи Раскольникова не имеют ничего общего с революционно-демократической идеологией, что преступление героя есть результат общественных условий, порождающих нищету и безвыходность.
Роман «Идиот»
Роман, над которым писатель трудился в Швейцарии и Италии, был опубликован в 1868 г. Прошло два года после написания «Преступления и наказания», но писатель по-прежнему пытается изобразить своего современника в его «широкости», в крайних, необычных жизненных ситуациях и состояниях.
Только образ амбициозного преступника, пришедшего в конце концов к Богу, уступает здесь место человеку-идеалу, уже несущему в себе Бога, но гибнущему (по крайней мере как полноценная личность) в мире алчности и неверия.
Если Раскольников мыслит себя "человекобогом", то главный герой нового романа Лев Мышкин, по замыслу писателя, близок идеалу воплощения божественного в человеке. "Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете и особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто брался за изображение прекрасного человека, всегда пасовал. Потому что задача – безмерная… На свете есть только одно положительно прекрасное лицо – Христос".
На первый взгляд идея романа кажется парадоксальной: в "идиоте", "дурачке", "юродивом" изобразить "вполне прекрасного человека". Но в русской религиозной традиции слабоумные, как и юродивые, добровольно принявшие вид безумца, виделись угодными богу, блаженными, считалось, что их устами говорят высшие силы. В черновиках к роману автор и называл своего героя "князь Христос", а в самом тексте настойчиво звучат мотивы Второго Пришествия.
Первые страницы произведения подготавливают читателя к необычности Льва Николаевича Мышкина. Оксюмороном (сочетанием несочетаемого) звучат имя и фамилия; авторская характеристика внешности скорее похожа на иконописный портрет, чем на облик человека во плоти. Он является из швейцарского "далека" в Россию, из собственной болезни – в больное, одержимое социальными недугами петербургское общество.
Петербург нового романа Достоевского – иной, нежели Петербург "Преступления и наказания", ведь автор реалистически воссоздает специфическую социальную среду – столичный "полусвет". Это мир циничных дельцов, мир приспособившихся к требованиям буржуазной эпохи аристократов-помещиков, таких как владелец поместий и фабрик генерал Епанчин или член торговых компаний и акционерных обществ Тоцкий. Это мир чиновников-карьеристов, вроде "нетерпеливого нищего" – секретаря Тоцкого Гани Иволгина, мир купцов-миллионеров, каковым является Парфен Рогожин. Это их семьи: жены, матери, дети; это их содержанки и слуги; их особняки, квартиры и дачи… Здесь, в обществе "без нравственных оснований" (впрочем, как и во всей России) торжествуют, говоря словами самого писателя, хаос, сумбур, беспорядок. В романе со всей полнотой актуализируются архетипическая схема противостояния хаоса и космоса, христианская мифологема дьявольской энтропии и божественного миропорядка.
Лев Мышкин – потомок обедневшего княжеского рода. Пристрастие писателя к неожиданным сюжетным ходам, имеющим истоки в авантюрном романе, обуславливает наделение героя неожиданным состоянием – солидным наследством. В кротости, искренности, незлобивости, даже ребяческой неловкости Мышкина очевидна сознательная идейная установка писателя-христианина: в Евангелии говорится об особой близости детей Царствию Небесному. Воспитывался Мышкин, по всей видимости, последователем Руссо. Имя французского писателя и философа актуализирует в читательском восприятии теорию "естественного" человека. Мышкин близок героям Руссо своей непосредственностью и душевной гармонией. Явственна в характере героя еще одна литературная параллель – с образом Дон Кихота, наиболее почитаемого Достоевским в мировой литературе героя. Как и Дон Кихот, Мышкин поражает всех своей наивной верой в добро, справедливость и красоту.
Он страстно выступает против смертной казни, уверяя, что "убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье". Он чуток к любому чужому горю и деятелен в своем сочувствии. Умиротворение пытается внести в душу бедной Мари и изверившегося, озлобившегося и отчаявшегося Ипполита Терентьева: "Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье".
Но, прежде всего, по замыслу писателя испытать на себе ощутимое положительное влияние Мышкина должны были главные герои романа: Настасья Филипповна, Парфен Рогожин и Аглая Епанчина.
Отношения Мышкина и Настасьи Филипповны освещены легендарно-мифологическим сюжетом (избавление Христом грешницы Марии Магдалины от одержимости бесами). Полное имя героини – Анастасия – в греческом означает "воскресшая"; фамилия Барашкова вызывает ассоциации с невинной искупительной жертвой. Особые художественные приемы использует автор, подчеркивая значимость образа, готовя восприятие героини Мышкиным: это разговор в поезде Лебедева и Рогожина о блистательной петербургской "камелии" (от названия романа А. Дюма-сына "Дама с камелиями", где в мелодраматическом, "романтизированном" ключе изображается судьба парижской куртизанки); это поразившее князя портретное изображение женщины, изобилующее, в его восприятии, прямыми психологическими деталями: глаза глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное.
Поруганная честь, чувство собственной порочности и вины сочетаются в этой женщине с сознанием внутренней чистоты и превосходства, непомерная гордость – с глубоким страданием. Она бунтует против намерений Тоцкого «пристроить» бывшую содержанку и, протестуя против самого принципа всеобщей продажности, как бы пародируя его, на собственном дне рождения разыгрывает эксцентрическую сцену. Морально-психологический эксперимент, черта мениппейной жанровой праосновы, разворачивается в ситуации конклава – оригинального элемента романной поэтики Достоевского. Дословно конклав – совет кардиналов, собирающийся для избрания папы. Предложенный в качестве термина Л. П. Гроссманом для обозначения многолюдных и бурных сцен, споров, скандалов, словно «сотрясающих все построение романа» [78]78
Гроссман Л. Н. Достоевский – художник // Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959. С. 344.
[Закрыть], конклав рассматривается в современных исследованиях как оригинальный элемент романной поэтики Достоевского. В композиции он играет роль критической точки, после которой переструктурируются заявленные конфликты, система персонажей. В содержательном плане произведения начинает доминировать этико-философский аспект, а жанровая природа кристаллизует черты романа-трагедии [79]79
См.: Щенников Г. К. Художественное мышление Достоевского. Свердловск, 1997.
[Закрыть].
Такое жанровое определение ввел в научный обиход Вяч. Иванов, полагая, что в основе всех романов Достоевского лежит «трагедия конечного самоопределения человека, его основного выбора между бытием в Боге и бегством от Бога к небытию» [80]80
Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 298.
[Закрыть]. Судьба Настасьи Филипповны как нельзя лучше иллюстрирует трагическое отрицание личностью мира. Предложение Мышкиным руки и сердца оценивается Настасьей Филипповной как жертва, жертва бессмысленная, ведь она не сможет позабыть прошлое, не чувствует себя способной к новым отношениям: «Ты не боишься, да я буду бояться, что тебя загубила да что потом попрекнешь». Внутренне ощущая себя «уличной», «рогожинской», она бежит из-под венца и отдает себя в руки Парфена. И вновь на поверхности конфликта обнажается интерес Достоевского к низменному, здесь – к осознанному низменному. Самоунижение у Достоевского – не только всем известная изнанка гордыни, но и особый вид протеста против унижения.
Неспособная поддержать в душе Рогожина добрые ростки, прорвавшиеся из глубин его расхристанной души под влиянием любви, Настасья Филипповна становится для него, как и для Мышкина, воплощением злого рока. Говоря о поруганной красоте в мире денег и социальной несправедливости, Достоевский одним из первых повернул проблему красоты в иную смысловую плоскость: увидел не только известное всем облагораживающее ее влияние, но и губительные начала. По Достоевскому, в неизбывной внутренней противоречивости человека, как его родовой черты, таится амбивалентность красоты, неразрывно соединяющей божественное и дьявольское, Аполлоновское и Дионисийское. Неразрешимо-трагическим в романе остается вопрос, спасет ли красота мир.
Только Мышкин глубоко понимает ее затаенную мечту о нравственном обновлении. Он "с первого взгляда поверил" в ее невинность, в нем говорят сострадание и жалость: "Не могу я лица Настасьи Филипповны выносить". Считаясь женихом Аглаи Епанчиной и переживая по отношению к ней чувство влюбленности, он все же в момент решающего свидания с обеими женщинами, устроенного Аглаей, бессознательно выбирает Настасью Филипповну. Нерациональный, импульсивный порыв Мышкина подтверждает существо глубинных оснований его личности, реализует осмысленное жизненное кредо героя: "Сострадание есть главный и, может быть, единственный закон бытия всего человечества". Метания героя между двумя женщинами, со времен "Униженных и оскорбленных" ставшие устойчивой чертой художественного метода писателя, в "Идиоте" свидетельствуют не о раздвоенности натуры Мышкина, а, скорее, – о ее безмерной отзывчивости.
Аглаю Епанчину – соперницу Настасьи Филипповны в романе – отличают незаурядный ум и горячее сердце. Именно она распознала голубиную душу Мышкина, точно сравнив его с пушкинским "рыцарем бедным", всецело посвятившим себя служению Богоматери. Гордость и самоотверженность – едва ли не главные ее достоинства. Не случайно наблюдательная, но "ординарная" по натуре, как и ее брат, Варя Иволгина говорит: "Не знаешь ты ее характера: она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду, на чердак, с удовольствием бы побежала, вот ее мечты!" Вновь Достоевский исследует крайности человеческого характера. Болезненное самолюбие, гордое самоотречение привели ее в комитет эмигрантов-поляков, борющихся за восстановление Польши, в среду католиков. Одержимый идеей православия, Достоевский считал католическую ветвь христианства ложной, а католиков – вероотступниками, "искаженного Христа проповедующими", виновниками многих исторических катаклизмов. Мышкину не удается довести Аглаю, как планировал писатель, "до человечности".
"Сильное действие" Мышкина "на Рогожина и на перевоспитание его", также вынашиваемое в писательских замыслах, оказалось в самом тексте романа недолговременным, ограничилось братанием героев-антиподов в мрачном родовом особняке Парфена. В свете трагического финала эпизод этот выглядит как мрачное предзнаменование: обмениваясь крестами, герои символически разделяют общую страшную судьбу – судьбу двух страстотерпцев, по-разному вырванных из нормальной жизни. Одному грозит пятнадцатилетнее искупление убийства на каторге, другому – вечный мрак безумия.
Знаменательная деталь интерьера жилища Парфена Рогожина как бы бросает трагический отсвет на все жизненное пространство героев произведения. Это копия картины Ганса Гольбейна младшего "Мертвый Христос", изображающая тело снимаемого с креста мертвого Спасителя жестко натуралистически, от которой, по словам Мышкина, "у иного вера может пропасть". Ее художественный смысл в романе можно трактовать как смерть без надежды на воскресение. Поражением заканчивается миссии князя Мышкина, публично им провозглашенная: "Теперь я к людям иду… наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо". Бескорыстная любовь, смирение и добро оказались бессильными в жестоком мире человеческой гордыни, сладострастия, алчности и расчета. Возникает в романе прямая проекция мотивов Апокалипсиса на "текущую" жизнь, на художественно воссозданную современность: один из четырех всемогущих всадников, явившихся при Конце Света, будет держать в руке "меру" – весы: "Мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий" (динарий – серебряная монета в Древнем Риме). Мотив разрушительной власти денег в современной писателю России в "Идиоте" звучит особенно сильно. Преобразование мира на основе евангельской любви осталось недостижимым идеалом, а сам Мышкин – героем и жертвой, с одной стороны, собственных иллюзий, с другой – религиозно-утопического мировидения самого писателя. Жестокая логика реальности продиктовала писателю трагический финал романа.
Кажется, не только в социальной, нравственной, но и в "метафизической" сфере, в сфере высших философских идей терпят фиаско идеи, проповедуемые центральным персонажем. Не примиренным с самими основами бытия умирает Ипполит Терентьев – идеологический противник Мышкина в романе. Подобно подпольному человеку жаждущий веры, он не принимает ее из-за "наглой", "бессмысленно вечной", все разрушающей силы природы.
На важнейшие вопросы человеческой жизни в "Идиоте" нет однозначного ответа, но есть свет надежды, воплощенный не только в образе "положительно прекрасного человека", но и в образах Веры Лебедевой, Бурдовского, Коли Иволгина. Коля – первый представитель "русских мальчиков", ищущих идеала, справедливости и всемирной гармонии молодых людей, представленных в "Подростке" Аркадием Долгоруким, в "Братьях Карамазовых" – Колей Красоткиным и, конечно, Алешей Карамазовым.
Жизнеутверждающие устремления, пронизывающие собой творчество писателя, позволили Г. С. Померанцу оспорить понятие «романа-трагедии»: «Роман Достоевского скорее может быть определен как антитрагедия, как полемика с эстетикой достойной и величественной гибели» [81]81
Померанц Г. С. Открытость бездне: Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 16–19.
[Закрыть].
Историческим оптимизмом, верой в Россию преисполнена проповедь общественных взглядов писателя, вложенная в уста вдохновленного Мышкина. "Кто почвы под собой не имеет, тот и бога не имеет". Пропагандируя русскую идею, писатель уверен, что безбожный или католический Запад, порожденные им социализм или буржуазность должны быть побеждены "только русскою мыслью, русским богом и Христом". Сюжетно обращая слова героя к лицемерной, озабоченной лишь собственными хищническими интересами высшей знати, Достоевский в какой-то мере преодолевает тяготение художественной условности, размыкает границы эстетической реальности и обращает патетические слова о судьбоносных для человечества взаимоотношениях России и Европы не только к героям романа, но к современному читателю, к потомку.