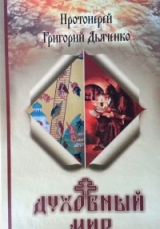
Текст книги "Духовный мир"
Автор книги: Григорий Дьяченко
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 65 страниц)
– Как это случилось, – спросил я его, что вы из гвардии офицеров решились сделаться монахом? Верно, в вашей жизни случилось что-нибудь необыкновенное?
– Охотно передал бы я вам – отвечал о. Г… – повесть о моей жизни, или, лучше сказать, о милости Божией, посетившей меня грешного, но рассказ мой длинен. Скоро прозвонит звонок – и нам придется расстаться. Мы ведь в разных вагонах.
Я пересел к моему собеседнику в вагон. По счастью, там не было никого, кроме нас и он рассказал мне следующее. Грустно и стыдно вспомнить мне прошлое, – так начал о. Г… – Я родился в знатном и богатом семействе; отец мой был генерал а мать урожденная княжна. Мне было семь лет, когда отец мой умер от раны, полученной в Лейпцигском сражении; мать умерла еще прежде. Круглым сиротою поступил я на воспитание к моей бабушке, княгине. Там приискали мне наставника француза, бежавшего в Россию от смертной казни. Этот самозванный учитель не имел ни малейшего понятия о Боге, о бессмертии души, о нравственных обязанностях человека. – Чему я мог научиться у такого наставника? – Говорить по– французски с парижским произношением, мастерски танцевать, хорошо держать себя в обществе, обо всем прочем – страшно теперь и подумать!… Бабушка, старинная дама высшего круга, и другие родные любовались ловким мальчиком, и никто из них не подозревал сколько гнусного разврата и всякой преждевременной мерзости скрывалось под красивой наружной оболочкой. Когда минуло мне 18 лет я был уже юнкером в гвардейском полку и помещиком 2000 душ под попечительством дяди, который был мастер мотать деньги и меня обучил этому нетрудному искусству. Скоро я сделался корнетом в том же полку. Года через два я был помолвлен на княжне *** одной из первых красавиц того времени. Приближался день, назначенный для свадьбы. Но Промысел Божий готовил мне другую участь, видно, что над бедной душой моей сжалился Господь!
За несколько дней до предполагаемого брака, 15 сентября, я возвращался домой из дворцового караула. День был прекрасный; я отпустил своего рысака и пошел пешком по Невскому проспекту. Мне было скучно, какая-то необъяснимая тоска стесняла грудь, какое-то мрачное предчувствие тяготило душу… Проходя мимо Казанского собора, я зашел туда: впервые от роду мне захотелось помолиться в церкви! Сам не знаю, как это случилось, но я молился усердно пред чудотворною иконою Божией Матери, молился об удалении какой-то неведомой опасности, о брачном счастье. При выходе из собора, остановила меня женщина в рубище, с грудным ребенком на руках, и просила подаяния. До тех пор я был безжалостен к нищим, но на этот раз мне стало жаль бедной женщины, я дал ей денег и промолвил: «помолись обо мне!» Идучи далее, я стал чувствовать себя дурно, меня бросало то в жар, то в озноб, мысли мутились. Едва дошедши до квартиры, я упал без памяти, к ужасу моего верного Степана, который находился при мне с детства и часто (но, увы! безуспешно) предостерегал меня от многих дурных поступков. Что было после – не помню, только представляется, как будто во сне, что около меня толпились врачи и еще какие-то люди, что у меня страшно болела голова и все как будто кружилось вокруг меня. Наконец я совсем обеспамятел. Беспамятство продолжалось (как я узнал после) – двенадцать суток, и я как будто проснулся. Сознаю себя в полной памяти, но не имею сил открыть глаза и взглянуть, не могу открыть рта и испустить какой-нибудь звук, не могу обнаружить ни малейшего признака жизни, не могу тронуться ни одним членом. Прислушиваюсь – надо мной раздается тихий голос.
«Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя, на воде покойне воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради Своего. Аше бо и пойду посреде сени смертные, не убоюся зла, яко Ты со мною еси» [90] [90] 1 Псалом Давида. Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,
3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня.
5 Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
6 Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
[Закрыть] (Псал. XXII).
А из угла комнаты слышу разговор двух моих сослуживцев; я узнал их по голосу. «Жаль бедного В…» – говорил один; «еще рано бы ему… Какое состояние, связи, невеста красавица».
– Ну, насчет невесты жалеть много нечего, – отвечал другой. Я уверен, что она шла за него по расчету. А В… точно жаль, теперь и занять не у кого, а у него всегда можно было перехватить, сколько нужно и надолго…
– Надолго! иные и совсем не отдавали. А кстати, вероятно, лошадей его продадут дешево, хорошо бы купить парадера (лучшего верхового коня).
Что же это? – думал я, неужели я умер? Неужели душа моя слышит, что делается и говорится подле меня, подле мертвого моего тела? Значит есть во мне душа, отдельная от тела, бессмертная душа? (Бедный грешник! еще в первый раз встретился я с этою мыслию). Нет, не может быть, чтоб я умер. Я чувствую, что мне жестко лежать, чувствую, что мундир жмет мне грудь – значит я жив! Полежу, отдохну, соберусь с силами, открою глаза, как все перепугаются и удивятся!
Прошло несколько часов (я мог исчислять время по бою стенных часов висевших в соседней комнате). Чтение псалтири продолжалось. На вечернюю панихиду собралось множество родных и знакомых. Прежде всех приехала моя невеста, с отцом своим, старым князем. «Тебе нужно иметь печальный вид постарайся заплакать, если можно», – говорил отец. – Не беспокойтесь, папа, – отвечала дочь, кажется, я умею держать себя, но, извините, заставить себя плакать не могу. Вы знаете, я не любила В…, я согласилась выйти за него только по вашему желанию; я жертвовала собой для семейства…
– Знаю, знаю, мой друг – продолжал старик – но что скажут, если увидят тебя равнодушною? эта потеря для нас большое горе: твое замужество поправило бы наши дела. А теперь, где найдешь такую выгодную партию?
Разумеется, этот разговор происходил на французском языке, чтобы псаломщик и слуги не могли понять. Я один слышал и понимал…
После панихиды подошла проститься со мною моя бывшая невеста. Она крепко прильнула губами к моей похолодевшей руке, и долго, долго, как будто не могла оторваться. Ее отвели насильно, уговаривая не убивать себя горестью. Вокруг меня слышались слова: «как это трогательно, как, она любила его!"
О связи мирские, как вы непрочны и обманчивы! Вот дружба товарищей, вот и любовь невесты! А я, жалкий безумец, любил ее страстно и в ней одной полагал свое счастье!…
Когда все разъехались после панихиды, я услышал над собой плач доброго старика Степана; слезы его капали на мое лицо. «На кого ты нас покинул, голубчик мой» – причитывал старик – «что теперь с нами будет! Умолял я тебя – побереги себя, барин! а ты не хотел и слушать. Погубили тебя приятели и вином и всяким развратом. А теперь им до тебя и горя нет; только мы, слуги твои, над тобой плачем!» Вместе со Степаном плакали и крестьяне мои, жившие в Петербурге по паспортам. Они любили меня искренно, потому что я не притеснял их и не увеличивал оброка. По совести признаюсь, что я поступал так единственно из беспечности: денег доставало мне с избытком не только на мои потребности, но и на все безобразия, какие приходили мне в голову.
Итак, вот где нашел я следы искренней любви: в сердцах простых людей, и рабов!
Наступила длинная, бесконечная ночь. Я стал вслушиваться в чтение псалтири, для меня вовсе незнакомой; никогда прежде не раскрывал я этой божественной, сладостной книги.
«К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене, и уподоблюся нисходящим в ров. Услышь, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воз дети ми руце мои ко храму святому Твоему. Не привлецы мене со грешными, и с делающими неправду не погуби мене… Господь помощник мой, и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможе ми, и процвете плоть моя: и волею моею исповемся Ему» (псалом. XXVII, 1-3 и 7). – «Господи, да не яростью Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих… Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Гебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною» (Псалом. XXXVII, 1-4, 10-11).
Глубоко врезались мне в сердце псаломские слова, я повторял их мысленно и горячо, горячо молился. Вся прошедшая жизнь расстилалась предо мною, как будто холст покрытый разными нечистотами. Что-то неведомое, святое, чистое влекло меня к себе; я дал обет исправления и покаяния, обет посвятить жизнь на служение милосердому Богу, если только Он помилует меня. А что, если не суждено мне возвратиться к жизни? Что, если эта живая смерть не прекратится, если меня – живого мертвеца – заживо зароют в землю? Не могу теперь высказать всего, что перечувствовал я в эту ужасную, незабвенную для меня ночь. Скажу вам только, на другой день Степан заметил на голове моей, между юношескими русыми кудрями, целый клок седых волос. Даже и после, когда воображение представляло мне во сне эту ночь, проведенную в гробе, я вскакивал как безумный, с раздирающими криками, покрытый холодным потом.
Наступило утро, и душевные страдания еще более усилились. Мне суждено было выслушать свой смертный приговор. Подле меня говорили: «сегодня вечером вынос завтра похороны в Невской лавре!"
Во время утренней панихиды кто-то заметил капли пота на моем лице и указал на то доктору. «Нет, – сказал доктор, это холодное испарение от комнатного жара». Он взял меня за пульс и промолвил: «пульса нет, нет сомнения, что он умер!"
Невыразимая пытка – считаться мертвецом, ждать той минуты, когда заколотят крышку гроба, в котором я лежу, когда земля на нее посыплется, и не иметь силы проявить жизнь свою ни взглядом, ни звуком, ни движением! А между тем я чувствовал, что силы мои были еще слабее, нежели вчера… Нет надежды! Ужасное отчаяние овладело мною, кровь била в голову, мне казалось, что внутренности мои сжимаются и содрогаются, из сердца вырывались потоки злобы, проклятий… Но, видно, ангел-хранитель мой хранил меня: какое-то внутреннее чувство подсказывало мне молитву из священных слов, которые я слышал лежа в гробу.
«Боже мой, помилуй мя, пощади меня, я гибну… Скверен я, нечист, велики, бесчисленны грехи мои, но милость Твоя безмерна. Помилуй мя, Господи, яко смятошася кости мои! Дай мне время очистить совесть, загладить прежнюю жизнь мою! Твой есмь аз – спаси мя!» Так взывал я из глубины души, обуреваемый предсмертною тоскою.
Прошло еще несколько мучительных, безотрадных часов – и я не молился уже о возвращении к жизни: я просил себе тихой смерти, как избавления от предстоящих мне страшных мук. Мало-помалу успокоилась душа моя в крепкой молитв: ужасы медленной смерти в могиле представлялись мне казнью заслуженною. Я всецело предал себя в волю Божию и желал только одного – отпущения грехов моих.
В таких чувствах находился я при вечерней панихиде, когда певчие пели надо мной: «Образ есмь неизреченные Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений; ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя». Панихида кончилась, и какие-то люди подняли меня вместе с гробом. При этом они как-то встряхнули меня, и вдруг из груди моей бессознательно вырвался вздох. Один из них сказал другому: «покойник как будто вздохнул?» – «Нет – отвечал тот тебе так показалось». Но грудь моя освободилась от стеснявших ее спазмов – я громко застонал. Все бросились ко мне, доктор быстро расстегнул мундир, положил руку мне на сердце и с удивлением сказал: «сердце бьется, он дышит он жив! Удивительный случай!» Живо перенесли меня в спальню, раздели, положили в постель, стали тереть каким-то спиртом. Скоро открыл я глаза, и первый взгляд упал на икону Спасителя, ту самую икону, которая (как я узнал после) лежала на аналое у изголовья моего гроба. Потоки слез пролились из глаз моих и облегчили сердце. В ногах кровати стоял Степан и плакал от радости. Подле меня сидел доктор и уговаривал быть спокойным. Он не понимал моего положения.
Помощь доктора была мне вовсе не нужна, молодые силы возобновились быстро. Впрочем, я благодарен ему за то, что он по просьбе моей, запретил пускать ко мне посторонних, чтобы не беспокоить больного.
В совершенном одиночестве провел я несколько дней, не видя ни одного чужого лица: отрадою и пищею души были мне божественные песни Давида; из них учился я познавать Бога, любить Его и служить Ему.
Много знакомых толкались ко мне в двери из любопытства видеть ожившего мертвеца. Каждый день заезжал мой нареченный тесть. Он видимо старался не упустить выгодной партии. Но я никого не принимал.
Первым делом моим по выздоровлении, было приготовление к св. таинству причащения тела и крови Христовой. Опытный в духовной жизни священник о. М-й был духовником моим. Он укрепил меня в решимости отречься от мира и от всех мирских привязанностей.
Но не скоро мог я избавиться от житейских дел. Прежде всего, я поспешил отказаться от чести быть зятем знатного князя и мужем прекрасной княжны. Потом вышел в отставку, отпустил крестьян моих в звание свободных хлебопашцев, распродал всю свою движимость и нашел доброе употребление деньгам; прочие имения передал законным наследникам. В таких заботах прошел целый год. Наконец свободный от земных попечений, я мог искать тихого пристанища и избрал себе благую часть.
В нескольких монастырях побывал я и поселился в той пустыне, где теперь доживаю век свой. Верного своего Степана отпустил я на волю и предлагал ему денежное вознаграждение, достаточное для обеспечения его старости, но он не принял денег и со слезами просил не отсылать его. Он хотел умереть при мне, провел остаток жизни в нашей обители, и умер, не приняв пострижения. «Куда мне, грешнику недостойному, быть монахом!» – говорил он. «Довольно с меня и того, что сподобился жить с рабами Божиими».
Почтенный о. Г. заключил рассказ свой следующими словами: «на мне вы видите дивный опыт милосердия Божия. Чтоб исхитить душу мою из мрачного сна греховного, Благий Человеколюбец допустил меня пройти юдоль сени смертной, и на гробовом ложе просветил очи мои, да не усну в смерть вечную!» (Из кн. прот. Гр. Дьяченко: «Доброе слово», г. III).
5. В «Московских Ведомост.» помещена статья г. Сергея Нилуса, под несколько странным заглавием: «О том, как православный был обращен в православную веру». Статья содержит в себе исповедь светского интеллигента, как он от неверия и разных заблуждений пришел к свету истины. Весьма живо и, как говорится, тепло написанная, подписанная полным именем, посвященная известному лицу (В. М. Васнецову) она имеет признаки не вымышленной какой-либо истории, а действительной были, и, во всяком случае, правдиво и хорошо рисует умственное и нравственное состояние большинства современных интеллигентов, указуя им и путь исхода из этого жалкого и погибельного положения.
«Родился я в 1862 году, пишет г. Нилус в семье, которая, со стороны родных матери моей, считала в своей среде не мало людей передовых в том духе, каким вообще отличались шестидесятые годы. Прирожденные дворяне-землевладельцы, и притом крупные, они, благодаря этой своей связи с землей и крестьянином, избегли крайних проявлений и увлечений годов семидесятых, но общего, так сказать, платонически – революционного духа избежать не могли, так велико было тогда обаяние идей, свободы мысли, свободы слова, свободы… да, пожалуй, свободы и действий. Конечно, твердая пища разговоров политической окраски мало способствовала развитию во мне религиозных, как тогда говорили, мечтаний, и я рос в совершенном отчуждении от церкви, соединяя ее, в своем детском представлении, только со старушкой няней своею, которую я любил до безумия, да с величавым звоном московских «сорока сороков», когда, особенно с первою выставленною рамой, в мягком жизнерадостном весеннем воздухе он вливался широкою, могучею волной в освеженные после долгой зимы тесные городские комнаты и манил за собой на простор деревни, полей, шумливых ручейков среди зеленеющей травки, – словом на мир Божий из каменных стен современной городской лжи и условности.
Молитв я не знал, в церковь заходил случайно, закону Божьему у учителей, равнодушных, а то и прямо враждебно настроенных к слову Божьему, я обучался, как неизбежности неумолимой программы гимназии, и во весь гимназический курс изучал его скверно. Ведь и предметом он был «не главным». Так в богопознании шел я, православный юноша, до университета, где уж конечно, было не до такого «пустяка», как православие.
Но под всею духовною мерзостью, накопившеюся годами свободы религиозного воспитания в жизни домашней, школьной и, наконец общественной – молчаливые, но любвеобильные уроки Москвы, деревни и няни, христианская, до известной степени приближения к истинному христианству, бесконечная доброта моей матери, непрестанно творившей благое ближнему со скромностью, свойственною только христианам – все это не давало погаснуть в моей душе искре, правда, еле мерцавшей в душевной моей темноте, искре неясно сознаваемой любви к Богу и Его православию.
Я намеренно подчеркиваю слово православие, потому что, в редкие минуты молитвенного подъема, я только к нему одному и стремился душой. Ни величественность католического богослужения с духовною мощью знаменитых органов, красотой голосов оперных певцов, с всею театральностью обстановки кардинальского служения, уже не говоря о жалких намеках на богослужение в церквах протестантских – ничто не влекло к себе моего молитвенного внимания.
Тянуло меня тогда в бедную сельскую церковь нашего черноземного захолустья, с ее немудрствующим лукаво, простым, «батюшкой» – земледельцем с таким же, если еще не более простым «дьячком» – хозяином. Чудилось мне как-то невольно, именно против воли всегда склонного к гордости разума, что в их-то иной раз и «немощи» сила Божия невидимо совершается. Но редки бывали у меня эти смутно радостные минуты, скорее мгновения духовного общения, беседы с вечно Сущим пока не совершилось дивного…
Когда я еще был в IV классе Московской 1 прогимназии (теперь 7 гимназия), пред наступлением выпускных экзаменов (тогда V класса при ней еще не было, и мы считались «выпускными», чем не мало гордились), в тревоге за успех их окончания, я дал обет, в присутствии товарища, с которым тогда был особенно дружен, пойти, как я тогда выражался, к «Троице-Сергию». Конечно, условием для выполнения этого обещания я ставил успех на экзаменах. Экзамены сошли чуть что не блистательно, прошли и другие, и третьи, и гимназия, наконец, была окончена и университет был пройден, а об обете не только ни разу не подумал, но, кажется, в глаза бы рассмеялся тому, кто бы мне о нем напомнил.
Так прошло времени не мало. Как оно прошло или, лучше сказать, проведено было – сказать страшно! Конечно, страшно христианину. Жилось, словом, весело! Не случись тут со мной истории, проведшей глубокую, на всю жизнь неизгладимую борозду в моей черствевшей душе и заставившей меня соблюсти в себе «человека», я бы, конечно, погиб безвозвратно.
По окончании курса в московском университете, я был заброшен, добровольно, правда, но все-таки заброшен – в качестве кандидата на судебные должности при прокуроре эриванского окружного суда, в местечко Баш-Норашен, Шаруро-Дара-Лагесского уезда.
Раз как-то, на какую-то спешную выемку или обыск мне пришлось мчаться чуть не марш – маршем.
Дорога, или подобие дороги, шла по каменистому берегу Арпачая, сплошь усеянному острыми камнями всевозможных форм и величин. За мной скакал целый конвои: переводчик, два казака, два или три чапара (земские стражи – они же разбойничьи покровители) и сельский старшина. Захотелось ли мне помолодечествовать, или уж такая «вышла линия», только я приударил нагайкой свою лошадь, гикнул и, пригнувшись, помчался с такою быстротою, что сразу на несколько десятков сажен бросил назади свою команду.
И тут случилось нечто невообразимое… Помню только, да и то смутно, что я куда-то взлетел вверх помню – не то лошадиные ноги над своею головой, не то что-то бесформенное, но ужасное; пыль… опять словно лечу куда-то в пропасть… Когда я опомнился, огляделся, – я ничего не мог сообразить.
Оказалось, что на всем бешеном скаку лошадь моя споткнулась и перевернулась через голову. То же сделал и я, полетев через голову под лошадь. Казаки уже потом говорили, что только чудо могло спасти меня. Как бы то ни было, но после всей этой головоломни у меня поныла два-три дня правая рука, и тем бы все и ограничилось, если б… я тут же вскоре не вспомнил о невыполненном обете.
Почему пришел мне на память давно забытый ребяческий обет – предоставлю догадываться людям, изучающим человеческую душу с точки зрения современной науки. Найдутся, конечно, охотники и скажут: сотрясение мозга от падения, – и человек из нормального стал ненормальным, но найдутся и такие, кому дано, и кто задумается.
Опять прошли года, и опять, как бы в доказательство моей «нормальности», нимало не изменившейся от падения, я по-прежнему все не исполнял обещанного угоднику Божию, но сердце уже не было по-прежнему покойно. Все чаще и чаще, словно огненными буквами, внезапно загорающимися на темноте моей души, стало вырисовываться страшное слово: «клятвопреступник».
Со службы я уже давно ушел и засел хозяйничать в деревне. На одной из страстных седмиц я, лет семь или более не говевший, не без чувства ложного стыда пред моею «интеллигентностью», больше, пожалуй, из снисхождения пред «предрассудками» меньшей братии, удостоившей меня избрания в церковные старосты нашей сельской церкви, поговел, что называется – через пень в колоду, причастился, не без некоторого, впрочем, странного в то время для меня, непонятного, тайного трепета, в котором я долго, долго не хотел сам себе признаваться, и после причастия почувствовал себя точно обновленным, каким-то более жизнерадостным; душа что-то испытала давно знакомое, родное; более того, что-то такое необъяснимое – сладкое и вместе торжественное…
Мне кажется: так сокол затомившийся в долговременной неволе, сперва лениво, нехотя, расправляет свои отяжелевшие крылья. Один неуверенный взмах другой, третий… и вдруг! дивная радость полузабытого свободного полета и вглубь, и вширь лазурного поднебесья, в бесконечной волне эфирного моря!
Тогда мне был дарован только первый, неуверенный взмах моих духовных крыльев. Но тайная, неведомая сила, раз данная крылу, уже не могла остаться инертною. Что-то зрело в моей душе: чаще стала посещать жажда молитвы, неясно сознаваемая, даже иной раз насильственно заглушаемая повседневными заботами, собственным недоверием к своему душевному настроению, отчасти даже какою-то глухою злобой, откуда-то, точно извне, прокрадывавшеюся в мою мятущуюся душу.
Но неисполненный обет все неотступнее восставал предо мной, скорбный, негодующий.
И я его исполнил.
Никогда не забуду я того священного трепета, той духовной жажды, с которою я подъезжал из Москвы с поездом Ярославской дороги к духовному оплоту престола и родины. Вся многострадальная, смиренномудрая история русской земли, казалось, невидимою рукою развертывала свои пожелтевшие, ветхие деньми, страницы.
По святыням лавры водил мена монашек из простеньких, первый встреченный мною у врат обители, благоговейный, тихий и смиренный; он же привел меня и к раке, где покоятся нетленные мощи преподобного Сергия. Молящихся было довольно много. Служил очередной иеромонах общий для всех молебен.
Я стал на колени и в первый раз в своей жизни отдался дивному чувству молитвы без мудрствования лукавого. Я просил преподобного простить мою духовную слабость, мое неверие, мое отступничество. Невольные, благодатные слезы закипели в душе моей; я чувствовал как будто я уходил куда-то из себя, но…, вдруг подняв голову и взглянув по направлению к раке преподобного, я увидел на стене, за стеклом охраняющим его схиму, под схимой лик старца с грозно устремленным на меня суровым гневным взглядом. Не веря своим глазам, я отвел их в сторону, продолжая еще усерднее; молиться, но точно какая-то незримая сила опять заставила меня взглянуть на то же место – и вновь, но уже яснее и как будто еще суровее, блеснули на мена суровые очи схимника.
Меня объял ужас, но я стоял пред этим суровым ликом, уже не отводя от него глаз и не переставая еще усиленнее и молиться, и видел, – я утверждаю, что не галлюцинировал, а видел, именно видел, – как постепенно смягчался суровый взор; как благостнее становился лик дивного старца, как все легче и отраднее делалось моей потрясенной душе, и как постепенно под схимой туманилось, исчезало и, наконец, исчезло чудесное изображение…
Когда кончился молебен все пошли прикладываться к мощам чудотворца; пошел и я, уже спокойный и радостный и как-то по особенному легкий. Я никогда такой легкости, чисто физической, до этих пор не испытывал.
Точно тяжелый, давнишний гнет, долго, долго давивший мои плечи, был снят с меня всесильною, власть имеющею рукою. С особым благоговением поцеловал я святые мощи, поцеловал стекло, оберегающее схиму…
Эти несколько часов, проведенных под кровом святой обители, этот исполненный, наконец, обет дней зеленой юности, это дивное молитвенное настроение, свыше ниспосланное, по молитве, верую, преподобного, чудесное видение, мне дарованное, – совершили такой перелом в моей духовной жизни, что уже сам по себе перелом этот не что иное, как чудо, въяве надо мной совершившееся. Я уверовал.
Да, я уверовал и, видит Бог чувство, с которым я возвращался из Троице– Сергиевой лавры, было исполнено такой неземной теплоты, такого полного душевного смирения, такой любви к Богу, такой покорности Его святой воле, так я в те минуты познавал Христа, моего Искупителя. Казалось, моя земная душа стала небожительницей. Сладость неизъяснимая! Я жаждал подвига.
Но Господь судил другое. И, Боже мой! Как было жалко и как недостойно было это другое! И как быстро оно совершилось! Как оно, это другое, чуждо и прямо враждебно было уносимому из лавры великому чувству! До неба вознесшийся, я прямо был низринут к преисподнюю.
Как это случилось? Ответ на это может быть дан только один: я был отдан в руки лукавого. Бес овладел моею душой по Божьему попущению.
В Петербург я приехал полный той же дивной настроенности. Но не прошло несколько дней, как я уже был в руках лукавого.
В городе малознакомом нашлась малознакомая, но интимная компания людей не менее моего в то время досужих… И что тут произошло! За всю мою жизнь я не видал и не предавался такому мрачному разгулу, именно мрачному, потому что даже в самый разгар неудержимых оргий, в редкие минуты, когда оставался наедине сам с собой, я буквально купался в собственных слезах. Я видел бездну, раскрытую под моими ногами, видел зловещий мрак ее бездонной пасти и ни секунды не терял сознания, что, подчиняясь какой-то грозной, зловещей силе, я неудержимым полетом лечу стремглав туда, откуда не бывает возврата. Такого ужаса нравственной смерти, охватившей мою душу, я не испытывал во всю мою жизнь никогда.
К счастью, искушение продолжалось не долго. Не прошло недели, я вновь получил дар молитвы, и с ним вернулось ко мне, хотя далеко не в прежней, испытанной в лавре, степени, чувство веры и христианского счастья общения с Господом.
Душевное мое состояние было как точно после тяжкой, смертельной болезни: болезнь прошла, осталась слабость, гнетущая, удручающая. Я не был уже прежним человеком, но и новым не сделался. Мир и его утехи потеряли для меня значение – я как-то отстал от людей, но пустота, оставленная ими в моей душе, не находила себе восполнения.
Такое состояние продолжалось около года. Опять обстоятельства против моей воли потянули меня в Петербург. Стояли февральские дни, и февраль был в том году лютый, с метелями. Наступила вторая или третья неделя Великого поста. За несколько дней до своего отъезда я почувствовал какую-то странную, никогда прежде мною не испытанную сухость в горле. Помню, еще в вечер отъезда я жаловался на это своему товарищу доктору. Он поглядел горло, сказал, что ничего в горле нет, я с легким сердцем отправился в Петербург.
После второго звонка вошел в купе батюшка и занял свое место. Невольно я поклонился вошедшему – такое славное впечатление произвело на мена его открытое, моложавое и милое лицо. Батюшка оказался монахом-казначеем одного из монастырей центральной России. Он поведал мне кое-что из своего прошлого. Последние пять лет жизни отца Амвросия оптинского он был его келейником. Полились несмолкаемые рассказы о житии этого дивного светоча русского православия. Под Петербургом когда вся душа моя точно растворилась пред моим дорогим собеседником я выразил желание съездить в Кронштадт, но вместе и высказал сомнение в возможности видеть великого кронштадтского пастыря. «Молю вас мой дорогой, поезжайте к отцу Иоанну, остановитесь в его Доме Трудолюбия, скажите псаломщику батюшки, под заведованием которого этот дом находится, что вас прислал к нему отец Амвросий из Лютиковского монастыря. Он меня знает и наверно будет вам полезен. Поезжайте, поезжайте, не медлите!» Тут поезд наш подошел к платформе петербургского вокзала, и мы почти со слезами обнялись и простились. Да будет благословенна наша встреча!
День моего приезда в Петербург, пятница, был вместе и приемным днем министра. От двенадцати часов дня до часа приема, то есть до четырех часов у меня было времени ровно столько, сколько нужно для того, чтобы найти номер, умыться, привести себя в надлежащий порядок и быть готовым ехать по делу. К великому моему ужасу, чем ближе подходил час приема, тем все хуже и хуже становился мой голос. Хрипота, только отчасти заметная при разговоре с отцом Амвросием становилась все неприличнее и неприличнее; голос мой с каждой минутой падал. Легкий озноб начал предательски пробегать по моей спине, голова стала дурна – чувствовалось недомоганье, неуклонно все усиливавшееся. К четырем часам я уже чувствовал себя настолько скверно, что с великим трудом все перемогаясь, сел на извозчика и поехал в министерство.
Домой я вернулся уже совсем больной, с потрясающим, ознобом и жаром от которого голова, казалось, кололась надвое. По самой заурядной человеческой логике, надо было лечь в таком состоянии в постель и послать за доктором, что, вероятно, я бы сделал но какая-то сила выше недуга, выше всякой логики, в лютый мороз увлекла меня в тот вечер в Кронштадт.
В вагоне Ораниенбаумского поезда, сидя у раскаленной чуть не докрасна печки, я дрожал в своем пальто с поднятым воротником, точно на лютом морозе, на сквозном ветру, но уверенность, что со мной не приключится ничего дурного, что я, вопреки кажущемуся безумию моего путешествия, буду здоров не покидала меня ни на минуту. Однако мне становилось все хуже и хуже.








