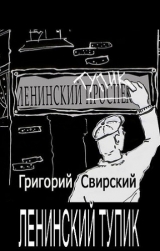
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Нюра пристукнула кулачком по колену. – Ну, а люди ложь – и мы то ж?! А?
Александр потянулся за новыми, тщательно отглаженными, “бригадирскими”, как он их называл, брюками, перекинутыми через спинку стула, начал одеваться. Нюра сдернула с его ноги модную, суженную книзу, брючину, воскликнула в сердцах: .– В брючки влезешь – лови тебя. Ответишь – получишь брюки.
Уголок рта мужа дернулся. – Ты видала, как лиса в холод спит? – протянул он неторопливо. – Обертывается в свой хвост вокруг тела. И ей тепло. И ты в свои идеи обернешься, и хорошо тебе. А мне во что заворачиваться? У меня, как видишь, хвоста нет… Какая еще статья о постройкомах? Где?.. Сейчас о чем не пишут. Написать обо всем можно. Дай брюки. Опоздаю в контору.,, Дай, говорят!.
– Не дам! Шагай так!
Он оглянулся на нее, улыбаясь своей отдаляющей улыбочкой.
“Коли дура, так образумь!” – едва не вскричала Нюра.
Александр шагнул к дверям, наступил на завязки кальсон, чертыхнулся. Нюра с размаху швырнула ему брюки: – На! А то как отличат в тебе бригадира…
Александр ответил раздраженно, пританцовывая на одной ноге и натягивая брюки: – Не ты меня поставила! И не перед тобой мне ответ держать!
В постройкоме Александр узнал – разговор предстоит о Тоне. Опять о Тоне?! Что стряслось?..
Вслед за Александром в свежевыкрашенную и уже запущенную – на полу окурки, сор – комнату постройкома вошел Игорь Иванович. Кивнул Александру. Жестом предложил ему перебраться от дверей поближе к Тихону. Александр отрицательно качнул головой.
Тихон Инякин высился над канцелярским столом, . накрытым выцветшим кумачом, как пожарная каланча. Размышляя о предстоящем опросе-допросе, прошагал туда-сюда вдоль стенки в своих новеньких чешских бурках, затиснутых для сохранности в галоши. На галошах белели опилки. Сонным голосом он спросил Тоню Горчихину, которая топталась в дверях с тетрадным листочком, видно, заявлением в руках: – Как твой случай разбирать, Горчихина, – по закону иль по совести?
Игорь Иванович подался вперед: “Тихон – купеческие мозги! Гениальный Островский. Купцы в его пьесах постоянно отделяли совесть от закона. Матушка Русь не меняется!”
Тоня от избытка чувств даже руками всплеснула: -По совести! По совести!
Тихон, – язвительно спросил Игорь.– Что ж это за закон, который при совестливом разбирательстве лучше всего спрятать в стол?
Инякин ответом не удостоил. Кивком отпустил Тоню. Едва за ней закрылась дверь, прозвучал хрипловато-надорванный голос Чумакова – Тонька не хочет, значит, убираться из конторы. Жалится на всех… – Чумаков, бросив окурок на пол, пересел к столу, повертел вокруг пальца ключ на веревочке.– Держать Тоньку никак невозможно… – Он вынул из кармана какую-то бумагу. Глядя на нее и хмурясь, перечислял, в какие дни Горчихина отказывалась выполнять его, Чумакова, приказы. Он перечислял прогрешения Тони долго, и половины их было бы вполне достаточно для самой либеральной комиссии. Тимофею Ивановичу невольно вспомнились слова профессора-языковеда, которому он в свое время немало крови попортил: “Избыток фактов есть признак неуверенности…”
Чумаков взял со стола истерзанную, без начала и конца книгу. Книга, похоже, много лет переходила из одной конторы в другую, от штукатуров к малярам, от маляров к каменщикам. Ее листали сотни пальцев;– в белилах, в охре, в кирпичной пыли; на ней, как на палитре, остался след от всех красок, которые когда-либо шли в дело. Чумаков открыл ее на странице, заложенной бумажкой.– Вот. Кодекс законов о труде… КЗОТ. – Он отчеркнул на полях ногтем, протянул книгу почему-то не Инякину, председателю комиссии по трудовым спорам, а Тимофею Ивановичу. – Здесь есть статья: коли рабочий воротит рыло от своего дела….
Игорь Иванович перебил Чумакова голосом, в котором звучала усмешка: – Вы же хотели по совести. А не по закону… Чумаков закрыл книгу, ответил раздраженно: – Мы по совести и разбираемся; а КЗОТ что…– Он бросил книгу на стол, несколько пожелтевших страниц разлетелись по сторонам. – КЗОТ… он для формулировки Игорь Иванович перересел ближе к столу.
– За что вытуриваете Тоню, если по совести! Не можете простить ей давнего?
Чумаков снова повертел на пальце ключ, ответил вполголоса, словно бы застеснялся: – Блюдем, Игорь Иванович, Шурин интерес… Высокий авторитет бригадира. – Покосившись на крановщика и заметив, что эти слова не произвели на него впечатления, разъяснил: – Тоньке с Нюрой Староверовой нa одних подмостях тесно. Того и гляди одна другую вниз столкнет. С восьмого этажа. Развести их надо по разным углам…
От дверей донеслось с негодованием: – Плети-плети, да меру знай!
Чумаков вскипел: – Нужна тебе, бригадир, при живой жене Тонька или нет – дело твое. Но по закону кодекса о труде такую распустеху держать нельзя. – Он дотронулся машинальным движением до своего уха.– И не будем! .. И вам, Игорь Иванович, ее под защиту брать ни к чему… Вот факты. Вот закон– положил руку на книгу, которую только что небрежно откинул. – Народный закон. Поперек закона не встанете! Не те времена… Понятно?!
Игорь Иванович втянул в себя губы, чтобы удержаться от слов, которые были готовы вырваться, и спокойным тоном спросил, вручались ли Тоне наряды в те дни, когда она отказывалась от от работы?
От дверей послышалось саркастическое: – Хо!.. Вы же знаете, Игорь Иванович, у нас сроду наряды задним числом выписываются!
Игорь Иванович попросил, чтобы ему передали Кодекс законов о труде; отыскал статью, в которой было сказано, что рабочий, не имеющий на .руках наряда, имеет право не приступать к заданию…
На грубых, коричневых от зимнего загара лицах Чумакова и Инякина отразилось замешательство. Принимая от Игоря Ивановича KЗОТ, Инякин глянул на книгу настороженно, недружелюбно,как смотрел на людей, от которых жди хлопот.
Затем он поднял глаза на Чумакова.. Чумаков молчал, суетливо, по своей привычке перебирая руками.. Он впервые столкнулся с человеком, который знал кодекс о труде, оказывается, не хуже, чем он.
Чумаков сунул ключик в нагрудный карман пиджака, намереваясь, похоже, заговорить напрямик. .
Белая бурка в галоше наступила на его ногу, и он принялся листать KЗОТ. Пальцы Чумакова заработали со стремительно”тью кpoтовых коготков, роющих подземный ход.
Александр метнул в сторону Чумакова насмешливый взгляд: “Что, съели?”
Усмешка Александра, да и само его поведение на комиссии насторожили Игоря Ивановича. видно, не зря комиссию по трудовым спорам на стройке окрестили– “Тишкиной комиссией”. Огнежка как-то даже бросила в сердцах на одном из собраний: “Инякин суд!”
Почему же то, что говорит народ на подмостях, в общежитии, не прозвучало в устах избранника народа -Александра Староверова? Ведь здесь пытаются втоптать в грязь честь его товарища, честь женщины, а заодно и Александра, – словом, действительно,.творят Инякин суд…
Правда, Александр не знает кодекса законов о труде, которым манипулируют, как фокусники, Чумаков и Инякин. Его еще на свете не было, когда появился КЗОТ. А ныне Чумаков превратил кодекс о труде в палицу, которой бьют по головам
Ho… строго говоря, Александр в cилах изучить толстущий КЗОТ. С карандашом в руках. Его избрали охранять права рабочих, избрали единогласно, под аплодисменты. А он не спешит даже прочитать об этих правах… И он, Игорь Некрасов, не разглядел всего этого с высоты своего башенного крана… Не увидел самого главного, а в дни выборов-перевыборов, и самого опасного в сегодняшней жизни,
В университете Игорь знавал шустрых молодых людей, аспирантов и преподавателей, которые были отчаянно смелы и велеречивы в коридорах (их так и и называли “коридорными витиями”), но к трибуне таких можно было подтащить разве что схватив за руки и за ноги. То “атмосфера не та”, то не хотелось портить отношения с тем или иным влиятельным человеком. Подпали кто университет – они, наверное, посчитали бы высшей мудростью не заметить этого.
Но неужели в Александре Староверове есть что-то от тех мозгляков? – Игорь Иванович взглянул на Александра пристальнее, чем всегда. Его лицо на фоне больничной белизны стены вырисовывалось отчетливо. Как возмужал он в последние месяцы! Лицо остроскулое, костистое, цвета густо-красного кирпича. Решимость, воля чувствовались в недобро поджатых, ироничных губах. Теперь их уже не назовешь мальчишескими.
Александр вызвал в памяти Игоря юного норвежца – рулевого с рыбачьей шхуны. Рискуя жизнью, тот подобрал коченеющего Некрасова в Баренцевом море, куда штурман рухнул вместе с самолетом – неподалеку от норвежского порта Вардэ. У рыбака было такое же грубоватое, продубленное штормовыми ветрами лицо. Сильное лицо.
Может быть, Александра сдерживают корыстолюбивые мысли? Игорь Иванович отогнал недоброе предположение. Александр не корыстолюбец. Он не раз отдавал свою премию подсобницам. И он чужд карьеризма: в бригадиры его за уши тянули – с неделю уламывали, вызывали в постройком. В чем же дело?
Почему Александр Староверов, толковый и властный бригадир (даже неугомонного Гущу унял), смекалистый парень-мотогонщик, которому, кажется, и смерть не страшна, – почему на комиссии, где речь идет о его друзьях и товарищах, он чаще всего садится у двери, изредка иронизирует над Чумаковым, в общем влияет на ход разбирательства не более, чем этот рассохшийся древтрестовский шкаф с отломанной ножкой, где хранится профсоюзное хозяйство? О таких вот и говорят на стройке, что они сидят в выборных органах “заместо мебели”.
Все, что Игорь Иванович знал об Александре доброго, как-то вдруг отодвинулось, стерлось нынешним безгласным сидением Александра у профкомовских дверей. Вспомнилось, что Гуща как-то в сердцах сказал о нем: “Шурка – морожены глазки”.
Игорь подумал тогда, что Гуща имел в виду цвет насмешливых глаз Александра. Глаза, если приглядеться, и в самом деле имели голубовато-синий, как ледок на изломе, отблеск… Может, Гуща знал об Александре, что-либо, чего не знали другие?..
Нет, кажется, он, Игорь, слишком уж все усложняет. Ларчик просто открывается. Дело в Тоне. Надоели Александру сплетни, и втайне он рад тому, что ее переводят в другую контору. Чужая душа – потемки… Впрочем, какие сплетни! Никто ничего не говорил на стройке, и сейчас Чумаков это просто так сболтнул, для красного словца.
Но тогда что ж… Не исключено, парень впервые после школьных лет “наглотавшись” старорусских хроник о многовековом княжеском противоборстве, – как-то был с ним удививший Игоря Ивановича о том разговор– Александр Староверов окончательно уверовал в то, что от смерд на Руси и для князей, и для торговых людей – ноль. От смерда ничего и никогда не зависело. И это во все века. И при любой власти, на Святой Руси ничего не меняется?…
Черт побери, почему же, почему же, все-таки Александр молчит?! Словно передалось ему безмолвие кирпича, который он изо дняв день пестует в ладонях…
По дороге домой Александр Староверов заглянул в аптеку, попросил дать ему что-нибудь от головной боли. Вытряхнув из пачки на ладонь две таблетки пирамидона, он швырнул их в рот. У-ух, отрава жизни1
Залпом выпил стакан воды из водопровода. Невольно прислушался к голосам за дверью. Горластее всех был Витюшка, внук Силантия. Пронзительный голос Витюшки вызвал в памяти-дни, когда Силантий заваливался домой после “обмывов”, растерзанный, багроволицый, и Витюшка кричал на весь коридор– в восторге: – Деда, с легким паром!
Силантий до войны, говорят, и капли в рот не брал. Что же, что не брал! Поживи-ка с четверть века под Тихоном!
А ведь начинали они с одних чинов – козоносами.Деревянную “козу” на плечах таскали. Силантий рассказывал: “Наложишь на “козу” кирпичики, тридцать две штуки, – хребет трещит…”
А у него, у Шуры, не трещит? Он, к примеру, точно знает – каким должен быть на стройке профсоюз. По новейшим статьям. А ровнее ему от этого дышится? Лучше б в тюрьму затолкали, чем в инякинский профсоюз. Школа коммунизма. Гады! Ничего святого..
Голова болела адски. Оставалось одно. Александр быстро надел истертое кожаное полупальто; выскочив во двор, отомкнул сарай, где стояла мотоциклетка. Он собрал ее из разбитых мотоциклов едва ли не всех марок. Крылья от старого “ИЖа> измяты и подварены автогеном. Руль после одного падения вывернут, как бараний рог. Но какое это имеет значение!
Александр долил бензина почти по пробку. В ту же горловину – масла собственной очистки, желтовато-. бурого, тягучего на морозе. Знакомые запахи успокаивали. Александр покачал мотоцикл из стороны в сторону, чтоб бензин и масло смешались (“Перед употреблением взбалтывать”, – шутила обычно Нюра), вывел машину, под восторженные восклицания мальчишек, во двор.
На треск мотора выглянула из окна Тоня. Вскочила на подоконник. Улыбка во всю форточку. – Са-аш! Подкинь до универмага.
Помедлив, Александр показал рукой на заднее сиденье, прикрученное металлическим тросиком. Тоня не заставила себя ждать. Концы голубой, праздничной косынки она завязывала на бегу; вскакивая в седло, поцарапала ногу, но даже не заметила этого.
Выезд со двора перекопали траншеей. Тянули газопровод. Через траншею переброшен мосток.– три не скрепленные между собой обледенелые доски. Они провисают, скрипят Женщины переходят по ним, шаркая подошвами и балансируя авоськами.
– Напрямик? – крикнул Александр. – Не боишься?
Тоня прижалась к его сутуловатой кожаной спине грудью, протянула пронзительным, счастливым голосом: – С тобой – та!
Александр рванул с места. Иначе не удержишься на мостках. “По одной жердочке! По одной…” Мосток прогнулся; старая, с истертым протектором, шина терлась то о правую доску, то о левую, точно о края зыбкой колеи. “Если забуксует – все. Ноги опускать некуда.”
Колкая ветка хлестнула по Тониному лицу, за ворот ровно ледяная вода хлынула. Но Тоня не опускала головы. Пускай хлещет, пускай царапает, путь след останется; глянет на себя в зеркало – и вспомнится этот день.
“Хлещи! Шибче!! Хлещи!
Александр кричал, не переставая, но ветер и треск мотоцикла заглушал его слова. Машину уже швыряло, как катер при бортовой качке.
Александр выключил двигатель. Поздно. Машина заваливалась. Перестала слушаться руля. “Шимми” – мелькнуло у него почему-то без страха, хотя хорошо знал, что на большой скорости нет страшнее “шимми” – мести мотоцикла, сбитого с толку, неуправляемого. Из “шимми” выход один.
– Прыгай! – крикнул Александр, оглянувшись, накроет!
Не голос – лицо его сказало Тоне, что делать. Она соскочила назад, как с коня, больно ударившись ногами о задний номер и, беспомощно размахивая руками, покатилась в кювет.
14.
Подымаясь с земли и отряхивась от снега, Александр прокричал, словно его голос по-прежнему глушил мотоциклетный мотора.
– Жива?!
– С тобой– та, протянула Тоня, и они расхохотались нервным и счастливым смехом людей, избежавших несчастья.
Вся она тут, Тонька, – поцелуй легонько.
– Слушай, Антонина, – благодарно спросил он, вытряхивая снег из рукавов.– Что ты связываешься с Тихоном? Держишь себя с ним какой-то отпетой, полубандиткой. Толку от этого не будет. Веди себя потише…
Тоня взглянула на него изумленно – Сашок! Да ежели я буду тихой, меня в ногах затопчут… Тот же Тихон…
– Сдался тебе Тихон! Что он, моровая язва? Нынче его приструнили – ну, и… дьявол с ним.
Тоня не ответила, обошла вокруг придорожной елки, пошатала ствол. Хлопья лежалого снега, пригибавшие зеленые ветки книзу, опали, и ветви словно воспрянули, покачивались благодарно. Шагнув от елочки, Тоня заговорила вдруг голосом, как показалось Александру, вовсе ей не свойственным,—глубоким, мечтательным, чуть дрожащим, будто от неуемной Тониной силушки, ищущей выхода.
– Что-нибудь, Сашок, сделать бы такое… а? Что бы приехало начальство, не какое-нибудь, а самое большое, больше некуда, и спросило бы оно, это начальство, меня: что тебе, Тоня… или даже но отчеству – что тебе, Тоня, мешает жить на белом свете? .. Я бы взмолилась: “Уберите лебезливого, Христа ради! А то убью!..”
… Утро на другой день выдалось метельное. Поземка стелилась где-то внизу, у первых этажей корпуса. Нюре казалось – корпус вот-вот сорвет с места, унесет куда-то на белом, бешено свистящем ковре-самолете. Тоне виделся внизу бурный поток, который обтекал корпус, как обтекает вздувшаяся река быки моста, кроша об их каменные спины ледяные поля.
– Нэчне-ом!,. – прокричал Александр, сложив руки у рта рупором. Ветер разметал его голос, по корпусу пронеслось вместе с крутящейся снежной крупой протяжное, как стон: о-о-о…
Огнежка нет-нет да и поглядывала издали на Александра, неизменно переводя взгляд на его ноги.
Ноги каменщиков, кладущих стену, подолгу топчутся на одном месте. Уж на что, на что, а на “танец каменщиков” Огнежка насмотрелась вдоволь. Но Александр “танцевал” как-то необычно. Его ноги в кирзовых армейских сапогах передвигались почти непрерывно.
Огнежка наблюдала. Шажок. Чуть приподнялись; стоптанные каблуки сапог – потянулся за кирпичом. Еще шажок… Каблуки оторвались от подмостей. Еще шажок… Казалось, никогда в жизни она не видела танца восхитительнее, чем этот исполнявшийся на заметаемых снегом досках, в огромных кирзовых сапогах со стоптанными каблуками.
Огнежка вынула из кармана своего потертого реглана рулетку, подарок отца (если бы и ей возвести столько заводов, клубов, домов, сколько он возвел с по мощью вот этой старенькой, из тесьмы, рулетки!), обмерила стену.
Да, она не ошиблась. Ей хотелось как-то отметить это событие: подбежать к Александру (хоть и твердили все вокруг, что прорабу бегать по стройке несолидно), пожать ему руку, что ли? Но Александр прикрыл лицо ладонью от взметнувшегося вихря, крикнул какому-то курильщику: “Оставь сорок!” – и кинулся вниз по зыбкому, в снегу, трапу.
Огнежка настояла, чтоб четверку Александра наградили – за почин. .– Не нужно астрономических сумм, – решительно заявила она Тимофею Ивановичу, – тут надо знать психологию,,,
Издавна повелось– девчата на строке из первой получки чаще всего покупали капроновые чулки. Ежели хватало денег, также и туфли, желательно лодочки, под замшу, – знай наших! Затем копилось по трешке, по десатке – на выходную блузку, юбку, что останется – на белье. Верхом достатка считались-ручные часы “Заря” за триста сорок четыре рубля, на браслете из белого металла в виде сцепленных друг с другом божьих коровок.
О книгах, билетах в оперный театр подсобницы и не мечтали. Не по карману. Да вроде и ни к чему опера.
Огнежка сама обегала театральные кассы в поисках хороших билетов, сама выбирала в универмаге сервиз для Староверовых (они пили чай из железных кружек), недорогой, но красивый, – фарфоровые темно-синие чашки и такие же блюдца с белым, как снег, кружком посередине.
Александру купили сверх плана и ручные часы, по слухам, нечувствительные к удару.
В тот день, когда вручались премии, Огнежка незаметно положила эти часы минуты за три до конца смены на кладку. Александр едва не разбил подарок. Он так и остался стоять с кирпичом в руке, изумленно глядя на появившиеся вдруг перед его глазами часы с никелированным браслетом.
Стоило Моорозову написать об этом в “Строительной газете”, как началось что-то невообразимое. Александра, да и не только его, с головой завалили просьбами, заявлениями, старыми, подклеенными на сгибах характеристиками (такие у стариков каменщиков ценились больше: “В наше время лишь бы кому не давали!”). На корпус зачастили со всего Заречья.
– Граждане, бригада не резиновая! -: отвечала Тоня голосом матерого трамвайного кондуктора. – Садитесь на следующий!
Тех, кто, подмигнув Александру, высовывал из кармана горлышко с белой головкой, по возможности, осторожно, чтоб, не дай бог, не сломал шеи, спускали с лестницы.
У Ермакова дверь не закрывалась от делегаций каменщиков – они требовали немедля создать КОМПЛЕКСНЫЕ– бригады, такие, где “все делают все”. – Нюрка, слыханно ли дело – на одну получку одела – обула семью. Мальчонка ихний ходит в цигейке, как офицерский…
Петляла по-заячьи, выла по-волчьи метель. Утихала лишь на час-два. Огнежка горделиво поглядывала вокруг, глубоко вдыхая бодрящий воздух.
Снегом замело и траншеи, и разъезженные дороги, и огромные кучи песка. Вокруг белым-бело. Когда проглядывало солнце, запорошенные песчаные холмы резали глаза холодным и острым блеском, как горные пики. Огнежка вспоминала, как она взбиралась с отцом на Цейский ледник, откуда открывался вид на долгожданный перевал…
Негодующий, требовательный возглас спугнул Огнежку:
– Перекрытия! Даешь перекрытия!
Кончались перекрытия. Огнежка позвонила Чумакову, отцу. Наконец не выдержала, бросилась, не разбирая дороги, к Ермакову.
Тот думал о чем-то, положив огромные, сцепленные пальцами руки на стол. Не руки, медвежьи лапы, готовые, казалось Огнежке, придушить все, что было начато.
– Где железобетон? -Ермаков взглянул на нее мрачно: – Съели!
– То есть как это? – Огнежка была убеждена: ей не осмелятся, отказать в железобетоне. В такие дни…
– А так. Съели квартальный лимит железобетона за месяц и десять дней. Раньше даже, чем я предполагал – Ермаков развел своими лапами и добавил уже радраженно: – Я не бетонный завод. И не фокусник.
Огнежка глядела на него, потрясенная: -Значит, все летит к черту?.. Все-все?!
– Значит…
На последнюю железобетонную плиту, которую кран взметнул над стройкой, Александр глядел едва ли не с таким.уже чувством с каким, случалось, глядел на последний в доме черный сухарь.
У Нюры были свои любимые работы, свои любимые запахи. Она охотно, к примеру, бралась конопатить окна, хоть платили за это мало. От пакли, чудилось ей, исходил теплый домашний дух бревенчатого сруба. Ей был приятен и терпкий запах клея, и даже горьковатый запах рассыпанного шлака, запах несгоревшего угля, напоминавший о деревенской кузне, о железнодорожной станции “Анна” .
Штукатурка была не на алебастровом растворе. На цементном. Каково работать у стены, когда тебе бьет в нос тяжелой сыростью.
Александр разогнулся устало, расправил плечи, втянул ноздрями воздух и сказал, словно бы оправдываясь: – Душный у цемента запах! Пойдем, Нюрок, на волю.
Кто-то принес на стройку слух: перекрытий не будет до самого апреля. Услышав это, Ииякин кинул рубанок на стружки (он наверстывал время, заготовлял впрок “завитки” для перил) и произнес как бы с тоской:
– Что же это выходит? Нам краюху испекли на неделю, а мы ее за раз уписали? Как дети малые! – Теперь в зубарики играть?.. Силантий! – окликнул он сидевшero неподалеку каменщика. – Выходит, мы сами себя обманули.
Силантий не ответил. Выбив о колено трубку, он встал и двинулся, ссутулясь и широко раскидывая плохо гнущиеся в коленях ноги, к Чумакову, просить его пособить в беде.
Чумаков в последнюю неделю не появлялся на корпусе. Сами заварили кашу – сами расхлебывайте! Даже в разговоре с Некрасовым он не скрыл удовлетворения. Он предупреждал, чем это все обернется. Решили образованность свою показать.
Чумаков испытывал какое-то время чувство, близкое к радости, не только потому, что наступил, как он надеялся, крах “Акопянам…” Акопянами он называл всех, кто, по его убеждению, угрожал его благополучию: “Не нашего бога людишки”, время от времени повторял он семейное инякинское присловье. В глубине души, скрывая это от самого себя, Чумаков был почти рад случившемуся еще и по другой причине. Существовала ли более надежная маскировочная сеть для его, чумаковской, технической немощи, “выводиловки”, для “оплошки”, как одним словом называл все беды конторы Чумаков, в том числе, и провальное снабжение стройки? .. Когда явившийся к нему Силантий попросил, теребя в руках свой малахай, пособить бригаде, Чумаков по дружески огрел Силантия по спине – обостренно переимчивый – он давным-давно перенял и этот ермаковский жест.– Стоишь, старый?! Злее будешь!
Но сам он, Чумаков, с каждым днем становился не злее, а скорее несчастнее. Маленькие глазки смотрели вокруг печально, движения короткопалых, загребистых рук теряли уверенность.
Стройка стояла!
Глядя на мертвые корпуса, Чумаков почувствовал себя больным, почти полумертвым человеком. Месяц простоя отнял бы у него, он чувствовал, год жизни.
На другое утро Силантий явился в пахнувший краской кабинет начальника конторы с подкреплением из стариков-каменщиков. – Наследили-то! – бурчал Чумаков, ощущая в груди теплое чувство к Силантию и другим “володимирцам”, которые не позволили бы ему, Чумакову, обречь стройку на сиротство, даже если бы он на то решился. Он дал себя уговорить. “Со стариками ссоритья не след!” – сказал самому себе, совестясь своей отцовской озабоченности делами Огнежкина корпуса, пересилившей в нем даже его враждебность к Акопянам. – Только ради вас, дядьки! – Чумаков крепко обхватил телефонную трубку: так некогда он брал мастерок.
На другой день Чумаков вызвал Огнежку, чтобы сообщить ей, что железобетон будет. Когда Огнежка явилась в контору, навстречу ей шли, громко, – пожалуй, излишне громко, – переговариваясь, какие-то незнакомые люди. Один из них, в каракулевой шапке, увидев Огнежку, быстро спрятал что-то за спину. Она посмотрела вслед. Каракулевую шапку ждала “Победа” с заведенным мотором. Другой, в коричневом, как у отца, реглане, шествовал неторопливо, с неимоверно раздутым и круглым, точно в нем лежала банка с вареньем, портфелем под мышкой. Кто такие?
Чумаков даже не взглянул на вошедшую Огнежку; багроволицый до синевы, он трудно дышал; протянул под столом короткие ноги – брючины с бахромой сзади задрались до неприличия высоко. – Не из-за тебя,– наконец прохрипел он своим вечно простуженным голосом, – из-за рядовых рабочих, которых ты своими химерами-обмерами обесхлебила…
Огнежка вскинула сжатые в гневе кулаки. Чумаков и слова не дал ей сказать. Резко, словно выговор объявлял, бросил: – Жди к обеду перекрытия!
Кулаки Огнежки раскрылись сами по себе, она медленно провела мгновенно вспотевшими ладонями по щекам… Потом шагнула к столу, чтобы поблагодарить Чумакова, которому готова была в эту минуту простить все – и его дикую грубость, и чернозем под ногтями, и даже насмешки над ее отцом, святее которого не было для Огнежки человека. Но, сделав шаг, Огнежка поскользнулась и едва не упала. Она глянула под ноги и брезгливо отшвырнула носком бурки прозрачный завиток колбасной кожуры. Так вот что здесь произошло!
Ей стали понятны и жест человека в каракулевой шапке, который прятал чего-то за спиной, и раздутый портфель другого: У Чумакова, слышала, было незыблемое правило “пустые водочные бутылки из кабинета уносят гости”. До сих пор она, прораб, была в стороне от всей этой чумаковской грязи. Теперь и ее затягивают. “У кого-то отняли перекрытия, чтоб дать мне. Не брать?”
Чумаков умел читать даже по непроницаемому лицу Силантия. А уж девичье, открытое лицо в розовых пятнах…
– Тут тебе не институт благородных девиц, а овчарня. Скаль зубы, рви клочья. Чтоб из твоего бока клок не выдрали..-
Лицо Огнежки согласия с ним не выражало.
– Значица так! -завершил он – К осени, комсомолочка, пойдешь ко мне главным инженером. Хватит тебе с мужиками мерзнуть. Я буду на корпусах горбатиться, А ты возьмешь на себя тылы.. Хороший главинж без мыла влезет к заказчику, и тот подпишет договор на любую сумму
Зеленые глаза Огнежки словно раскалились ненавистью
– Не нужен мне в а ш железобетон!..
Ермакова в тресте не было. Она попала к нему лишь на другое утро. Тот и слова не сказал, обнял за плечи, втянул в свою машину.
– К Зоту едем, рационализатор! – с усмешечкой объяснил он недоумевающей Огнежке. Совещание всех банкротов обо всем на свете!
Чумаков, перед тем, как сесть в “ЗИМ” Ермакова, долго отряхивадся, затем неторопливо провел пальцем по небритой щеке. На пальце остался след извести, капнувшей на его щеку, видно, где-то на стройке. Чумаков вынул из кармана платок и, держа его в кулаке, обтер щеку.
Когда Огнежка смолкла, он заметил миролюбиво:
– . У тебя гнев, как слезы детские, близко лежит. И цена им одна, слезам детским и гневу твоему.,. Не расписывайся за всех-то, Огнежка.
Но Огнежка была уже возле дверей. Она бежала, разбрызгивая грязный снег, по разбитой пятитонками дороге, кусала соленые от слез, шершавые губы. Дизели, груженные кирпичом, обдавали ее холодной, липучей грязью, но что была ей эта грязь!..
Куда несли ее ноги, она вряд ли понимала в те минуты. Остановилась лишь у дверей своей квартиры. Долго дергала дверь.
Отца дома не было.
Огнежка закусила губу, но тут же подумала: “Это, пожалуй, к лучшему, что его нет. Каково услышать папе, что его единственную дочь посчитали вполне созревшей духовно для…воровства?! Что бы он сделал с Чумаковым?..”
Она побежала в трест, быстро прошла в конец коридора, где темнели на побеленных стенах пятна, оставленные чьими-то ватниками, постучалась к Игорю Ивановичу
Спустя полчаса Некрасов и Огнежка выехали в кустовое управление, к Инякину. Инякин помог бригаде появиться на свет, не может он остаться безучастным к гибели своего детища!
В управление они попали к началу совещания – одного из тех совещаний, которые на стройке назывались “давай-давай!”. В коридоре натолкнулись на Ермакова. Узнав, зачем они здесь, Ермаков так взглянул на них, словно они примчались за железобетоном в писчебумажный магазин, и тут же со скучающим видом отвернулся. Огнежка что-то произнесла вслед ему побелевшими губами.
Кабинет Инякнна был полон. За длинным столом, покрытым зеленым сукном; усаживались управляющие трестами. Вдоль стены, у дверей, стояли еще два ряда стульев. Возле них задерживались, по обыкновению, те, кому на совещании было дозволено лишь рот раскрывать, как рыбе, выброшенной на берег… пока к рыбе не обратятся с вопросом. К изумлению Игоря Ивановича, в толпу “рыб” присел и Ермаков.
В кабинете стоял монотонный гул, слова тонули в нем, лишь отдельные бранчливые или нервные возгласы выплескивались наружу, и в самом деле, как рыбины из водяной толщи:
– Давай “десятку”! Мне без “десятки” пика!
– Сам без “десятки” сижу!
Когда Игорь Иванович приехал на такое совещание впервые, у него возникло ощущение, что он попал в игорный дом. К какому разговору ни прислушивался, улавливал одни и те же страстные, порой пронизанные тревогой восклицания: “Подкинь “восьмерку”, будь другом!”, “Была бы у меня “десятка”, я бы с тобой талды-балды не разводил!”, “Не заначь “девятку”!”
Люди хватали друг друга за руки, молили так, как молят о жизни самой. Они жаждали не выигрыша, не серебра и злата – железобетонных деталей, из-за которых останавливалась стройка. Они выкрикивали номера этих деталей с таким душевным жаром, по сравнению с которым безумный вопль Германа из “Пиковой дамы”: “Тройка! Семерка!..” – отныне казался Тимофею Ивановичу едва ль не детской прихотью.








