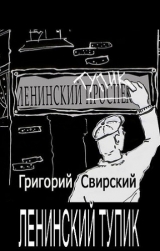
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Они беседовали во дворе, когда из проходной выскочила девушка-вахтер, крича что-то. Головной платок ее сбился на плечи. Порыв ветра со снегом донес:
– Хрущев!
Хрущева ждали с утра.
Игорь Иванович в толпе сбежавшихся отовсюду слесарей в рабочих халатах и девчат-маляров хотел снова попасть в цех, куда быстро прошел, взяв Ермакова под руку, Хрущев. У дверей толпу остановил плотного сложения мужчина в драповом пальто с черным каракулевым воротником. Он повторял с безнадежными нотками в голосе:
– Товарищи, не надо создавать толкотню!
Какой-то старик в дубленом полушубке спросил язвительно:
– Охраняете Хрущева… от рабочих, стало быть?.. А я вот хочу ему бумагу передать, В собственные руки.
Приоткрылась дверь, толкнув в спину мужчину в драповом пальто. Показалась голова Ермакова. Он поискал кого-то глазами, наконец воскликнул нетерпеливо:
– Некрасова! Чтоб на крыльях летел!..
Игорь Иванович протолкался к двери, вошел в цех. Когда глаза его привыкли к насыщенному влагой полумраку, он разглядел невдалеке разгоряченного, в распахнутом пальто Хрущева, стремительно ходившего, почти бегавшего вокруг прокатной машины.
Остановившись у готовой перегородки, Хрущев поинтересовался, прочна ли она, не треснет ли, если новоселы захотят прибить к ней что-нибудь, вешалку, что ли?.
Чуть ссутулившийся, руки за спиной, он напоминал рабочего, который спешит по трапу с тяжестью, взваленной на плечи.
Хрущев снова побегал вокруг машины, отыскал на верстаке шестидюймовый гвоздь, поднял слесарный молоток.
Ермаков закрыл глаза. “Расколет к чертовой маме|”
Обошлось…
Заметив краем глаза Игоря Ивановича, который приближался к нему, вытянув, по фронтовой привычке, руки по швам, Хрущев бросил молоток..
Он расспрашивал Игоря Ивановича, о стройке, а ладонь его машинально гладила и гладила готовую плиту. Неожиданно спросил:
– Тоскуете по университету, Игорь Иванович?
Игорь шумно вздохнул. Строго говоря, это и было ответом.
В ушах Игоря зазвучали насмешливые слова Ермакова, сказанные недавно Чумакову, когда зашла речь о “заржавелых” Чумаковских выговорах:
“Не унывай, черт бездипломный! Запустим стан – будет всем амнистия”.
Потому ответил решительно, похоже, сердясь на себя за невольный вздох;
– Бывает, и тоскую… но к запуску стана, Никита Сергеевич, я не имею никакого отношения…
Хрущев, взглянув на Игоря Ивановича, произнес шутливым тоном:
– Судьба партработника! К успехам он имеет отношение лишь самое малое. К провалам – самое непосредственное.
Он протянул Игорю Ивановичу руку, сильно сжал ее, заметив на прощание как бы вскользь, что он, Некрасов, волен установить сроки своего возвращения в университет сам.
3
Приближались дни прощания со стройкой. Возвращение Игоря Ивановича в университет наступало с неправдоподобной стремительностью. Уже звонили с филологического факультета, спрашивали, какой спецкурс Игорь Иванович будет читать, какая часовая нагрузка его устраивает. Звонили прослышавшие о его скором появлении в университете преподаватели, поздравляли: одни – искренне, другие – на всякий случай.
Когда из Министерства высшего образования сообщили, что приказ о новом назначении подписан, можно сдавать дела, Игорь Иванович обошел кварталы Заречья. В огромных дворах, закрытых восьмиэтажными корпусами от всех ветров, играло поколение старожилов Заречья в козловых и кроличьих шубках. Старожилы старательно доламывали серый заборчик из отвратного, крошившегося железобетона, не замечая сокрушенного взгляда дяди в потертой кожанке.
Игорь Иванович останавливался в каждом дворе, порой у каждого корпуса. Он расставался с домами, как некогда с самолетами, на которых ходил в бой. С каждым корпусом были связаны победа или поражение. Автоматизированному растворному узлу, подле которого погромыхивали задними бортами самосвалы, Игорь Иванович сказал, сам того не заметив: “Ну, бывай!
Здесь, у серого от цементной пыли растворного узла его догнала бригада Староверова, идущая на смену. Резкий, пронзительный Тонин голос вспугнул диких голубей, которых развелось на стройке видимо-невидимо.
– Игорь Иванович!.. -Она махнула ему издали, Силантий сдернул с головы заячий малахай, поздравляя Игоря Ивановича “с возвратом в ученые люди”. Гуща подковырнул с ухмылочкой:
– Недолго вы наш хлебушек жевали, товарищ политический… Видать, не по зубкам хлебушек…
Игорь Иванович прислушивался к простуженному голосу, почти шепоту, Нюры, к надсадному кашлю Силантия (старик говаривал: “Из-зa каждого чиха брать больничный – в бараках и помрем”), и в нем росло горделивое чувство близости к ним…
Несколько дней назад дома он снял со шкафа пыльные папки, где хранились записанные им на стройке по всем канонам диалектологии частушки Нюры, Тони н других девчат-строителей, присловья Ульяны, стихи-самоделки. Перебирал их, замышляя большой, никем и никогда не читанный в университете курс современного рабочего фольклора.
Он заранее знал, как воспримут на кафедре фольклора его новый курс. Как бомбу. Куда спокойнее жить, не слыша нюриных и тониных страданий.
Устоявшееся, как сливки, сытое молчание фольклористики -как он его ненавидит! Что ж, коль иным угодно будет считать курс бомбой, тем лучше. Молчание будет не просто нарушено -взорвано…
Вечером Игорь Иванович привез в Заречье на своем “Москвиче” университетских друзей, которым он приоткрыл дома свои “золотые запасы” – так был окрещен собранный на стройке рабочий фольклор. Он промчал друзей вдоль всей стройки, почти до внуковского аэродрома. “Чувствуете размах, книгоеды?!” Распахивал хозяйским жестом двери сыроватых, не оклеенных еще комнат, рассказывая об Александре, о Тоне, об Огнежке со сдержанным достоинством полпреда стройки, которым, Игорь понимал, он останется навсегда.
На обратном пути в машине распили шампанское – за возвращение блудного сына! Затем друзья шумно заспорили о новой книге философа Маркузе.
Игорь Иванович ничего не слыхал ни о самой книге, ни о спорах, ею вызванных. Он подавленно молчал, ощущая себя провинциалом. Возбужденные восклицания за спиной (он, естественно, сидел за рулем) укрепили решимость Игоря Ивановича вернуться в университет как можно скорее: “Поотстал…”
Шоссе петляло, густо-черное, точно политое нефтью. Полыхнут встречные фары, и чудится – оно вспыхивает белым огнем. Огонь слепит, скачет вверх-вниз, проносится мимо.
Лишь один-единственный огонек не гаснет. Красный. На университетском шпиле. Игорь Иванович поглядывал на него. Так на флоте, возвращаясь домой, отыскивал он взглядом аэродромный маяк.
Утром Игорь Иванович нарисовал на одном из листков перекидного календаря лопоухого, взбрыкивающего телятю, того самого, по-видимому, о котором молвится: “Дай бог нашему теляти волка съесть…” Он, Игорь, вернется в университет не позднее этого дня. Решено!
И в ту же минуту Игорь Иванович снова– в какой уж раз! – ощутил странное, тревожащее чувство. Будто он покидает стройку, не сдержав слова, данного самому себе. Нет, он не забывал о своем слове в суете стройки, однако пришло время, дал слово – держись.
Глухое неутихающее беспокойство обретало ясность. Отчасти оно было связано с именем Александра Староверова. Как только Игорь Иванович понял это, он отправился к Староверову. Договорился о встрече с ним в прорабской.
Прорабской не узнать. На месте сколоченной наспех будочки со щелями в палец – дощатый, с засыпкой, домик. Выкрашен суриком. В углу, на железной бочке, старенькая электрическая печурка. “От эры Силантия осталась”, – подумал Игорь Иванович. Проволока, обмотанная вокруг шиферной плитки, то и дело перегорала.
Александр явился в прорабскую после смены, потирая одеревенелые пальцы и поводя плечами, словно пытаясь стряхнуть с себя залютовавший к вечеру морозище.
Пока он усаживался, Игорь Иванович не отводил от него взгляда, пытаясь отыскать в лице Александра или в его фигуре хоть какие-либо внешние следы слабодушия или нравственной раздвоенности, что ли, которые бы позволили ему до конца понять причину общественной немоты этого сильного и работящего человека: почему, в конце концов, он, как правило, сидит в выборных органах “заместо мебели”?..
Раскачать Александра было не так-то просто. Лишь к ночи ближе, когда были продекламированы любимые Александром стихи “В этом мире я только прохожий…”, когда вскипятили чай в эмалированном, на всю бригаду, чайнике, и Игорь Иванович поведал, как он трусил в первом своем полете над морем (откровенность за откровенность, надеялся Игорь Иванович), только после этого Александр стал говорить о себе.
– Почему избрал своей судьбой стройку? Сознательно выбрал?
– Абсолютно , несознательно. Денег в кармане – вошь на аркане… Ботинки развалились. Где достать копейку? Пришел я на улицу Горького,– там теперь винный магазин, знаете? Морозина в тот день был, как сейчас помню, – синий столбик на стенке показывал тридцать один по Цельсию. А я в пиджачке, в кепочке. На Силантии телогрейка, треух, сверху– брезентовая накидка.
“Ты, говорит, парень, как думаешь работать-в кепочке? Сбежишь”.
– “Не сбегу!” Силантий усмехнулся, дал мне в руки лопату. Через два часа подходит:
Не спросил. .Лишь губами пошевелил: “Ну, как?” Я в ответ пролязгал зубами: “Нич-чего…”
Турнул он меня в растворный узел. Там калорифер.
На другой день прихожу на корпус. Силантий уставился на меня как на привидение. Молчит. И я молчу…
Наконец выдавил из себя: “Ты?” Протягивает лопату молча. Куда становиться – молчит. За весь день только и вымолвил: “Наше дело каменное слов не любит. Глаза есть – смотри…”
Смотреть смотрю, но не вижу ничего. Одна думка как бы не окоченеть насмерть.
На третий день, только я появился, Силантий протягивает мне бумажку с адресом: “Мчись, говорит, получай зимнюю спецовку…”.
Игорь Иванович хотел уж перебить Александра: его рассказ был сродни открытому лицу парня. Игорь Иванович радовался этому, но… в рассказе не было ответа на вопрос, составлявший главную тревогу Некрасова: почему тот неизменно молчит? Прав ли– не прав – молчит, как безязыкий!
Давно отметил, но как бы пропускал мимо ушей речевую особенность Александра: “Я был поставлен…” “Мне было приказано…” “Как-то дали развернуться, отвели “захватку-захваточку”– любо глянуть!”
Да ведь почти все глаголы в речи Александра страдательного залога: “Бригада была сколочена…”, “вытащен ””был, можно сказать, краном в бригадиры…”
И такое не только в его.
В бригаде Силантия плакались: “Не были мы обеспечены материалом…”
В бригаде Староверова ликовали: “Всем-всем мы были снабжены…”
Иные темпы, иное настроение, но… тот же пассивный или страдательный залог! То же ощущение полнейшей их, строителей, зависимости не столько от своих собственных рук и ума, сколько от кого-то…
Из университета торопили: приказ подписан! Кафедра прислала приглашение на очередное заседание. После заседания заведующий кафедрой, глубокий старик Афанасьев, автор сборника фольклора в годы отмены на Руси крепостного права, попросил Игоря Ивановича “поделится своими воспоминаниями о стройке”
Игорь Иванович рассказывал о размахе строительства жилья, которого при Сталине никогда не было, а думал о том, что беспокоило его давным-давно, с того самого момента, когда Александр безмолвствовал у профкомовских дверей. Впрочем, нет, гораздо раньше. С тех пор, когда Александр перекосил стену и клетчатая кепчонка его угодила в раствор. Как безропотно тогда Александр вытащил безнадежно испачканную кепку из бадьи!
Беспокойство Игоря Ивановича, он понимал это, вовсе не вызывалось одним лишь Александром. Но глубже и нагляднее всего оно связывалось в его представлении именно с ним.
Глядя куда-то поверх лысоватой, в белом пушке головы заведующего кафедрой, Игорь Иванович вдруг со всей ясностью, которая наступает обычно, когда мысль человека долго бродит вокруг одного и того же явления, сформулировал не совсем для него новую и все же поразившую его мысль: “Александр Староверов – рабочий в рабочем государстве. Хозяин жизни. “Его величество рабочий класс”, как недавно писала “Правда”. И… страдательный, или пассивный, залог в его языке.
.. .Прежде всего хотелось поделиться своим “открытием” с Ермаковым. Немедля!
Однако университетские друзья Игоря , которым он рассказал о языке Староверова, умерили его пыл: ” Все это убедительно для них. Но что скажет Ермаков? Тем более Инякин, похваставшийся недавно в своем выступлении для избирателей тем, что он от рождения ” рабочая косточка” и “университетов не кончал” . Интеллигентская рефлексия? Легковесное теоретизирование? Ермакова убедит лишь нечто живое, трепещущее, как рыба в неводе, и весомое, как кирпич, факт, столь же неотразимый для него, как для них – морфология Александра Староверова.
Но стройка дала Игорю Ивановичу и такие факты.
В трест приехал корреспондент журнала “Огонек”, очкастый, в летах, только что вернувшийся с Северного полюса. Он слышал о Староверове, лучшем бригадире Заречья, и разыскивал его.
Игорь Иванович повел журналиста в прорабскую, испытивая противоречивое чувство. Он гордился Александром, к которому прислали не новичка, а этакого журнального зубра в доспехах полярного капитана, но, с другой стороны… словно бы он вводил журналиста в заблуждение. .
Александр Староверов, по-видимому, вызвал у корреспондента те же ассоциации, что и у Игоря , когда тот увидел Александра. Он спросил у бригадира, не служил ли тот на флоте, не летал ли?
На лице Александра отразилась досада занятого по горло человека, которого оторвали от дела.
Корреспондент захлопнул блокнот, решил, наверное,-бригадира смущает, что его слова будут записывать.
Александр побарабанил пальцами по заплатанному колену, сказал негромко:
– Летать летал… – И с усмешкой: – С крыши.
Он мученически выжимал из себя те общие фразы, которые, по его мысли, только и нужны были для очерка. Все личное, хотя бы то, о чем недавно рассказывал Игорю Ивановичу, он неизменно предварял словами: “Но это не для бумаги!”
– Бригада у нас дружная, это точно… Организованнее стали работать, это точно… К горлышку не прикладываются. Раньше? Раньше случалось. Мы пьянчуг… – Александр словно стиснул их в кулаке. – Но, – торопливо добавил – это не для бумаги.
Игоря Ивановича несказанно удивляло отношение смекалистого, живого Александра к печати. Что же, по его мнению, следовало отбирать “для бумаги? Общие слова? Они сидели в жарко натопленной прорабской, и, хотя их трудный разговор длился уже около часа, Александр никак не мог после работы отогреться. Его знобило. Он снова надел ватник и застегнул его на все пуговицы.
– Конечно, не без трудностей… Как всем, так и мне. Да потом – разве нынче мороз? Вот когда я впервые пришел на стройку!.. Но это, конечно, не для бумаги…
Корреспондента присловье бригадира “не для бумаги”, похоже, вовсе не смутило. Во всяком случае, удивления он не выказал. Вопросов не задал.
Игорь усмехнулся. – Не нужна эта тема “капитану”. Не для массового софроновского “Огонька”, который все годы скачет по верхам, пустозвонит…
Едва за гостем захлопнулась дощатая дверь, Игорь Иванович не удержался:
– И чего это ты заладил: “Не для бумаги!”, “Не для бумаги!” Что ты, вообще-то говоря, хотел этим сказать?
Руки у Александра быстрее языка. Он хотел что-то ответить, но лишь выставил перед собой ладони.
Игорь Иванович помнил этот жест Александра, видно перенятый им от Нюры. Еще во время суматошного собрания в красном уголке, когда он звал Александра к трибуне, тот вот так же, ладонями вперед, выкинул перед собой руки. Точно отстранял Некрасова от себя.
– Это у меня еще со школы, – смущенно заговорил Александр, выслушав упреки Игоря Ивановича. – Как вызовут, бывало, к доске, я растеряюсь, все мысли смешаются, – такой уж характер. Не мастак я говорить перед народом -тушуюсь. Готов лучше смену отработать бесплатно, чем к трибуне выйти. – И, подтянув рукав ватника, Александр поглядел на свои часы: извините, мол, Игорь Иванович, но…
Некрасов уселся на скамейке поплотнее, спросил тихо, едва ль не по складам:
– Тебя, что ли, сталинское время убило – в страхе живешь. В полнейшей неуверенности?!
Александр не встал – сорвался со скамьи. Стоявший подле него молочный бидон опрокинулся на пол, покатился, бренча, по прорабской, но Александр и головы не повернул в его сторону.
– Кого я страшусь? – вскричал он, сжимая кулаки.– Когда бригаде что надо, я всегда говорю – Огнежке, Чумакову, если что-то серьезное – Ермакову. А на трибуне руками махать!.. – Он умолк, морща лоб. Игорю Ивановичу показалось, мысли, на которые он натолкнул Александра, были тому внове.
На самом же деле Александр не хотел бередить рану. Не хотел вспоминать, как гоготал до икоты Гуща: “Обратно с -с фонарями!..”, как обивал он, Александр, мечтавший обновить стройку, пороги канцелярий, а его отовсюду выпроваживали.
” Вы кто – архитектор? Планировшик? Нет?.. А на нет и суда нет!” А то и врежут: ” Не твоего ума дело!”.
Все глубже и глубже укоренялась в Александре мудрость Силантия: “Не зудят – так и не царапайся…”
Признаться в том, что он отступился от заветного, сдался, бежал от своей мечты Александр не в силах был даже самому себе.
Эти мысли были тайное тайных Александра. Он старался не касаться их.
Однако разговор выдался начистоту, тут уж ничего не обойдешь.
– Помните, Игорь Иванович, на открытии клуба я, можно сказать, рубаху на груди рвал? Во всю глотку, что твой кочет, голосил, например, что Чумаков в начальники росточком не вышел, что его не только управляющим конторой – десятником нельзя терпеть… И что? – Александр помолчал, загнул на руке большой, с почернелым, примятым сверху ногтем палец. – Для бумаги!
Помние, Игорь Иванович, я просил,,. Да разве ж только я… выделить нам кирпичу, раствору? Мол, сами себе по вечерам дом складем. Как в соседнем тресте.
Сколько можно по баракам маяться?…Ребята еще нашу затею назвали “самстрой”.
Александр умолк, загнул второй палец. – Результат? Для бумаги!
Помните… – Он перечислил еще несколько подобных просьб, обид, требований. Пальцы его сжались в кулак. Огромный, словно в нем был зажат камень, кулак.
– И что? Какой результат? – Александр наотмашь грохнул кулаком о деревянную стену прорабской. Зашуршала внутри стены засыпка. – Вот результат… – пояснил Александр, морщась. – Себе боль. И звук схожий… Шуршит. Как бумага, шуршит.
Игорь Иванович почувствовал себя так, словно Александр не по стене, а по нему звезданул кулаком. Заранее догадываясь об ответе, Игорь Иванович все же заставил себя спросить у Александра, чтобы все прояснилось до конца. До самого конца.
– Александр, строительный подкомитет, куда тебя избрали… они по– твоему…
Александр развел руки ладонями вперед: мол, о чем тут спрашивать
– Для бумаги!
Чумаков пошелестит КЗОТ– ом. Прошелестит еще какими-то бумажками. Они отыщутся у него на все случаи жизни… Ермакову он, жулик, доставала, куда дороже Тони или кого из нас. Его вышка. А ты, рабочий, – он безнадежно отмахнулся, – говори не говори – один черт! Только трескотня одна…
Выйдя из прорабской, Игорь Иванович оглянулся. Покрытая суриком прорабская с покатой, полукругом, железной крышей, темно сверкнувшей при свете прожекторов, напомнила разбомбленный некогда в Кольском заливе строжевой корабль, перевернувшившийся килем кверху.
4
Гнетущее чувство не покидало Игоря Ивановича после разговора с Александром. И не только с ним одним.. С этим чувством он вставал, готовился к последнему на стройке докладу, говорил с рабочими и слушал их, ел, возвращался в свою “келью в студенческом общежитии. Вывод исследования угнетал. Возникли ассоциации, которые сам же и называл ЕРЕТИЧЕСКИМИ. Но они продолжали и продолжали возникать…
Новая русская история, которую ему тоже приходилась преподавать, подкидывала ему уж не только факты, но целые пласты собственной его жизни.
Истерика заводского собрания на Шарикоподшипнике, где начался трудовой стаж – аплодировали любым приговорам “изменникам” – это ведь не только от опасений, холодивших сердце (“как бы и тебя не загребли”); страх, запомнил навсегда, нагнетался крикунами от ЦК партии, видимо, согласными с Чернышевским “..В России сверху донизу – все рабы”. Судя по всему, с Чернышевским не спорили и в октябре 1917.
Глубоко осмысленно, годы и годы, создавалось ” Республика Советов” для СЕБЯ, а Советам – для бумаги. Потому “Караул устал” матроса Железняка мы почти не вспоминали. Разогнал матрос учедительное собрание – туда ему и дорога! А вот вранье “Правды” про Советы, как народное самоуправление, на десятилетия оставалось фундаментом нашей обильно кровавой “народной ” постановки… Потому “могучий” Советский Союз нам, работягам, никогда дома не строил, а лишь бараки. И не только на стройках, что было естественно, но много лет даже возле огромных заводов – “Шарика” и автомобильного имени Сталина…
“Вся полнота власти” Шуры Староверова все советские годы была исключительно – НА БУМАГЕ.
Подумал так и – самого себя испугался
Еретиком ты становишься, Игорь! Такое в Университете и произнести невозможно. Стоит рот открыть…
Знакомый Игоря Ивановича– известный профессор– философ, сказал, что на XX съезде с докладом о культе поспешили.
Игорь Иванович свои “еретические мысли” в Университете старался держать про себя, но знаменитого философа все же, не удержался, публично, на своей первой лекции, окрестил философским держимордой.
Никогда еще он не размышлял столько о больших социальных процессах современности, как в эти дни.
Как решают у нас судьбу обмелевших рек! Взрывают пороги, срезают косу или– это куда чаще! – повышают уровень реки..
Но не политический уровень Шуры Староверова… Государям спокойнее править быдлом, которое голосует за кого угодно и травит кого угодно…
Одно утешает – сталинский Гулаг, как и “Кровавое воскресенье”,– история.. И это уже навсегда..
Чем бы ни занимался Игорь Иванович, думал он об этом. Подобные мысли не оставляли его и в вездеходе, который вез руководителей стройки с завода прокатных перегородок в день окончательной отладки ермаковского стана. Вездеход мчался, постукивая изношенными пальцамими цилиндров, по будущему поспекту, с отмеченному в пунктирами котлованов.
Возле полуразрушенного дома Ермаков отпустил шофера, сел , вместо него, за руль, пробасил, не оборачиваясь:
– Скоро ли проводы, Игорь Иванович?
Игорь произнес с ycилием
– Несколько отложим их, Сергей Сергеевич.
Ермаков всем корпусом, повернулся к нему:
– Что, неугомонный, хочешь все дела переделать?
– Нет, только самые главные.
– По части домостроения?
– Важнее.
Ермаков отмел взмахом руки слова хрущевского “казачка”.
– Нет ныне в Советской стране дела важнее нашего. Не считая, разумеется, пшенички.
Игорь Иванович отозвался не сразу. Наконец ответил с верой в Ермакова, и не столько в Ермакова-администратора, сколько в Ермакова-творца:
– Есть, Сергей Сергеевич!
Есть дело поважнее даже домостроения… если дома уже выстроены.
Оба засмеялись, но Ермаков от “странной темы” не ушел.
Повторил с искренним недоумением:
– Есть дело, говоришь, твое кровное дело! Более
важное, чем домостроительство… И ты… и я, значит, не выполняем?
– Увы, и даже не хотим выполнять.. Потому как намного вам спокойнее управлять Тихоном Инякиным, Чувакой, а не Нюрой и ее мужем .
Ермаков слушал Игоря Ивановича оборотясь к нему, затем отвернулся, глядел на отраженние Некрасова в зеркальце.
– Ты в свои…. эти… бредни кого посвящал? – спросил он наконец. – Огнежку, например… Та-ак! – И вдруг взъярился: – Премного благодарен!
Игорь Иванович умолк, настороженно глядя -на крутой и высоко подстриженный затылок Ермакова, который колыхался над широченной, точно из красной меди, шеей.
Игорь Иванович понимал, что этот их разговор не совсем ко времени. Однако он не мог более таить в себе то, ради чего остался на стройке. Он и предполагал, что первая реакция Ермакова на его слова будет, в лучшем случае такой.
Самоуправство Ермакова, понимал Игорь Иванович, вовсе не оттого, что он непомерно честолюбивый или алчущий власти человек, хотя он и честолюбив и властен. Нет, главным образом это от укоренившегося представления, что “всегда было так”.
“Всегда” означало у Ермакова – с того дня, когда, поскрипывая яловочными сапогами с вывернутыми наизнанку голенищами, белые ушки наружу, он впервые подошел к толпе бородачей-сезонников в лаптях, с холщовыми мешками и котомками в руках и объявил им веселым голосом, что он, слесарь-водопроводчик Ермаков,– “прошу любить и жаловать, черти бородатые!” – назначен их начальником.
А что было до него, то не в счет: прежний начальник, разводивший с мужичками талды-балды, оказался “англо-японо-германо-диверсано”, как обронил однажды Ермаков с горьковатой усмешкой.
В расцвеченном плакатами и победными диаграммами коридоре треста Ермаков то и дело останавливался, загораживая своими квадратными плечами путь Игорю Ивановичу. Принимал поздравления. Мясистое лицо его воссияло улыбкой именинника, который, чем бы его ни отвлекали, помнит, сегодня -его день… Та же неугасимая улыбка встречала Игоря Ивановича и на другой день, и через неделю, и через месяц-едва он переступал порог кабинета управляющего.
“Все идет удивительно хорошо, – казалось, увещевала она и неугомонного “хрущевского подкидыша”. – Трест возводит в год около сотни домов. Знамя получили. Экскурсантов у нас топчется гуще, чем в Третьяковской галерее. “Чего тебе еще, подкидыш чертов?!
Телефоны на столе Ермакова звонили почти непрерывно. Хватаясь за телефонные трубки, подписывая бесчисленные разнарядки, рапорты, ходатайства, Ермаков привычно уходил от любого неприятного ему разговора.
И все это с улыбкой приязни на круглом, довольном лице.
“Родимая-негасимая…” -мысленно бранил эту улыбку Игорь Иванович.
У Игоря иссякло терпение, и однажды он вызвал управляющего в профсоюзный Комитет.
Толкнув ногой дверь профкома, Ермаков остановился в недоумении.
Некрасов был не один. У стола, покрытого зеленым сукном, сидел Акопян.
Возле него в пепельнице груда окурков. Несколько окурков сплющены, торчком. “Нервничает Акоп-филантроп”!
У окна толстяк Зуб, по кличке “Зуб-праведник”, из семьи некогда ссыльных казаков, начальник первой стройконторы, покусывает карандаш, как всегда перед сложным делом. Подле него Матрийка из Мордовии, низкорослая, в спортивном костюме и цветном платочке, известный штукатур, чемпион по толканию ядра, вообще “знатная дама треста”, как окрестил ее шутливо Ермаков. Обычно Матрийка, предвидя шуточки Ермакова, начинает улыбаться ему метров за двадцать. Сейчас светлые бесхитростные глаза ее смотрят холодно.
Ермаков весело забалагурил, чтобы сразу же, по своему обыкновению, задать тон:
– Собралась рать – нам не сдобровать!
Голос Игоря Ивановича был сух, официален: – Садитесь, Сергей Сергеевич!
Узнав, зачем его вызвали, Ермаков опустился на заскрипевший под ним стул, машиналъно потер ладонь о колено, взад-вперед, точно бритву точил на оселке, и воскликнул, скорее с добродушным удивлением, чем с осуждением:
– Ну и репей! – “Далась ему Шуркина немота?”
Добродушие не покинуло Ермакова и тогда, когда он перешел в наступление:
– Уважаемые товарищи, где вам приходилось наблюдать наших каменщиков? Беседовать с ними?
Игорь Иванович пожал плечами: -Странный вопрос. На стройке!
Ермаков поднял на него глаза:
– Еще в каких местах встречались?
– В тех же, что и вы, Сергей Сергеевич. В общежитии. В клубе,
– А… Матрийка, вас это не касается. А в бане?
– Товарищ Ермаков! – одернул его Игорь Иванович, но Ермаков словно бы не расслышал яростных нот в голосе “комиссара”.
– В бане,– безмятежным тоном повторил он и оглядел всех хитроватым прищуром. – Не видали? Так-так.
Удовлетворенный тем, что в баню “комиссар” вместе с каменщиками не хаживал, Ермаков уселся на стул попрочнее и продолжал, покряхтывая, блаженно поводя плечами, словно только что попарился. :
– Почти у каждого каменщика на коленях мозоли. У Шурки Староверова, к примеру, колени что мои пятки. Бурые. Мозоли с кулак.
– Ну и что же такого! – воскликнула нетерпеливая Матрийка. – Каменщик на высоте работает. Бывает, у кладки иначе и не удержаться, как на коленях…
Ермаков остановил ее жестом:
– От кладки-то от кладки, да ведь не мною, Матрийка, придумано присловье: на заводе испокон веков платили по расценкам, на стройке – по мозолям на коленках. Чуете? – Ермаков неторопливо, тоном глубоко убежденным воссоздавал свой успокоительный, как валериановые капли, вариант рассказа об истоках общественой немоты. – Была у каменщика нужда подгибать колени перед десятником или прорабом? Вырывать слезой ли, горлом ли детишкам на молочишко? Была? .. Теперь нет ее? Нет! Выпрямились люди…
В импровизации Ермакова была и своя логика и своя правда. Она, наверное, показалась бы убедительной и Игорю Ивановичу, если б он заранее, что называется, своими руками, с тщанием исследователя, не установил, что правда Ермакова – не полная правда. А сие значит – общепринятая ложь.
Игорь Иванович кусал губы. Как передать Ермакову свое беспокойство, свою тревогу? Как вывести его из состояния благодушной дремы? Погасить эту довольную, умиротворяющую все и вся улыбку, которая становится, может быть, самым злейшим врагом управляющего?
Игорь Ианович перебил Ермакова тоном, которым еще никогда не позволял себе разговаривать с ним.
– Мы собрались, Сергей Сергеевич, чтобы говорить не о железобетоне. – И, помедлив, хлестнул изо всех сил, чтоб взвился управляющий: – О ваших железобетонных возрениях – на рабочий профсоюз!. Что б вы от слова “профсоюз” не зевали бы так постоянно сладко…
Встревоженная мысль Ермакова кинулась, как и ожидал Игорь, тропой проторенной. Инстинктивно кинулась, слепо, как зверек. Поднятый выстрелом с лежки.
– Ты что, замахиваешься на принцип единоначалия в промышленности?! Игорь Иванович терпеливо пояснил, что он вовсе не против единоначалия. Давно изведано, что у семи нянек дитя без глазу…
Ермаков скользнул взглядом по протестантам. Остановился на Матрийке.
Мордва – слабое звено..
– Матрийка, ты из Лимдяя, по “оргнабору””? Почему ты подалась к нам? В Мордовии жрать было нечего, так?. Траву ели. Дечата приезжали сюда босые. В рваных галошах вместо ботинок. Мы вас обули-одели. Накормили, сколько могли.. Можно сказать, осчастливили… В чем же твои претензии, милая?
– А почему мы подались к вам, слышали, Сергей Сергеевич?… Нет? Расскажу… У колхоза две-трети земли отобрали. И не только у нашего. На них строят лагеря… Раньше Мордовия славилась пшеницей, а теперь лагерями. Нашу землю вот уж сколько лет обносят колючей проволокой. Негде работать! За что взяться?. “Ловите тех, кто бежит из лагерей!– сказал военный -. За каждого беглеца – мешок муки”. Это работа?!








