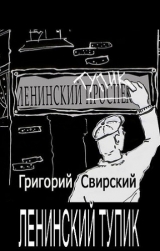
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Ермаков распоряжался вполголоса, прикрыв рукой телефонную трубку: .
– Посадка на новый пароход должна быть закончена до восьми утра. В восемь – прощальный гудок. Кто опоздает, останется на берегу голосить: “На кого же вы меня, родимые, покинули?!” Грузовики из автобазы не брать. Использовать маршрутные такси, попутные машины, тележки. Короче, энтузиазм народных масс.
Посадка по списку Акопяна, которому я сообщу… не вдаваясь в детали. Все!. Да. Некрасову не звонить. Он тут ни при чем. Мобилизуй на эту ночь всех своих оглоедов.
То, что происходило сырой апрельской ночью в Заречье, походило разве что на срочную, под гул канонады, эвакуацию. На пикапах и пятитонных дизелях, на грохочущих прицепах, на которых перевозят экскаваторы, даже на самосвалах ехали встрепанные счастливые люди, придерживая шкафы, столы, огромные в простынях узлы, в которых было увязано сваленное впопыхах имущество. Если бы Чумаков не предупредил заранее постовых милиционеров, наверняка бы самосвалы и прицепы задержали в дороге.
Детей выносили из легковых такси и ермаковского вездехода спящими. Заснув в подслеповатых, закопченных бараках и сырых подвалах, они просыпались от непривычно яркого, праздничного света в квартирах с белыми-белыми, как молоко, потолками и широкими окнами.
К восьми утра новый дом и в самом деле походил на пароход курортной линии, битком набитый счастливыми людьми, которые еще не вполне уверились, что вырвались наконец в отпуск, к щедрому солнцу и долгожданной поре отдыха.
В девять с минутами в кабинете Ермакова затрезвонил телефон. Ермаков взялся за трубку безбоязненно. Он и подумать не мог о том, что до председателя исполкома горсовета вести доходят с такой поистине космической скоростью. Ермаков держал трубку чуть поодаль от уха, все более и более поодаль. Лицо его постепенно становилось таким, что прорабы, вызванные в кабинет управляющего, начали один за другим неслышно выскальзывать в коридор.
– Есть! Есть! Еду, Степан Степанович!
Ермаков долго надевал реглан, галоши; уходя, позвонил Акопяну. Акопяна дома не оказалось. В трубке прозвучал высокий и чистый голос Огнежки. Ермаков пробасил с веселым отчаянием:
– Офелия, помяни меня в своих святых молитвах…
Председатель исполкома горсовета на приветствие Ермакова не ответил, продолжал писать что-то, не поднимая головы. Наконец ткнул “вечную” ручку в пластмассовую чашечку чернильного прибора с такой силой, что казалось, ручка задрожит, как вонзенная в стол стрела; поднялся со стула, бесшумно ступая по ворсистому ковру, прошел к двери кабинета и замкнул ее на ключ. На два оборота..
Медленно вернувшись к столу, он остановился напротив Ермакова, оперся о стол белыми кулаками. Он не произнес еще ни одного слова, однако накрахмаленный воротничок сорочки стал Ермакову тесен.
Во взгляде Ермакова застекленело выражение кротости. Кротости и изумленной добродетели, которая никак не возьмет в толк: в чем ее можно заподозрить?
– Я не нарушил ни одного пункта вашего решения, Степан Степанович. Как и записали вчера, я приму пятьсот новых рабочих и обеспечу должный разворот работ… Как где размещу людей?! В общежитии и в бараках на освободившихся нынешней ночь… нынешним утром местах. Не вселять же в новый дом подростков, которые для стройки еще и палец о палец не ударили!
Красавец дом – и это справедливо, Степан Степанович,– отдан кадровым рабочим.
Председатель исполкома потянулся к трубке белой кости с широким чубуком. Разорвал две папиросы, высыпал из них табак в чубук, долго вминал табак желтым от курева пальцем. Затем, выдвинув ящик стола, достал оттуда массивную зажигалку (рядом с ней лежали спички), чиркнул кремнем. В зажигалке не оказалось бензина. Председатель медленно, вразвалку, подошел к шкафу, налил из пузырька бензин. Он прикуривал ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы обдумать, как поступить с человеком по фамилии Ермаков. Пыхнул трубкой.
– Вот что, Ермаков! Как на духу… Ты меня обманул?
Ермаков вздохнул облегченно:
– Обманул, Степан Степанович.
– Та-ак… В какое положение ты меня поставил?
Ермаков в ответ развел руками, не то винясь, не то соболезнуя.
– Это, Степан Степанович, наши с вами личные отношения. Дело-то не пострадает. Через год-два в подвалах не останется ни одного жителя. Ни одного. Будете туда картошку ссыпать.
Председатель исполкома молча вышел из-за стола, отпер дверь и процедил сквозь зубы, не поворотив к Ермакову лица:
– Иди! – И добавил ему в спину, подавляя ярость: – И старайся не попадаться мне на глаза.
Ермаков обзвонил на радостях всех своих ближайших друзей. Кричал в трубку на весь этаж, чтоб Чумаков послал в магазин за армянским коньяком. Набрал номер Игоря Ивановича, который в тот день оставался дома, готовясь к первомайскому докладу.
– Где ты запропал? Наши уже в коммунизм переехали! Настоящий! Сегодня ночью… Я? Трезв как стеклышко… Сегодня не первое апреля, чтобы разыгрывать.
Вечером, когда Ермаков рассказывал восхищенным прорабам, как он “вставил перо” Инякину, ему вручили приказ Зота Ивановича. Ермаков примерно наказывался за технические огрехи на корпусах, обнаруженные государственной комиссией… полгода назад.
С того дня выговоры Ермакову посыпались, как гравий из камнедробилки. С грохотом и въедливой пылью, от которой становится невозможно дышать.
– Мстят! – вздыхал Ермаков, оставаясь наедине с Игорем Ивановичем.
К удивлению, так думали на стройке почти все. Наиболее осведомленные даже рассказывали, что Зот Иванович Инякин своих работников строго классифицировал. По душе ему были “ручные”, или, как он их называл, “свои ребята”. Импонировали “техники”, то есть те, кто на заседаниях никогда не выходил из круга технических вопросов. С доверием относился он к “активистам”, которые шли к трибуне с бумажкой в руках.
Ермаков же вырывался из классификации, как медведь из клетки…
Долго ли будет терпеть его Зот?!
Пожалуй, лишь один Акопян не принимал следствия за причину. Но и он со свойственным ему умением ускользать от щекотливых тем склонен был видеть в застарелой вражде двух управляющих лишь, как он корректно выражался, вспышки самолюбий.
Между тем подлинная и главная причина, фигурально выражаясь, подземных толчков, которые приносили стройке вред все больший, лежала вне личных взаимоотношений Инякина и Ермакова.
С тех пор когда Зот Иванович обнаружил, что председатель исполкома, его старый приятель по преферансу, вычеркнул его, Инякина, из наградного списка, не выгородил его, Инякина, и тогда, когда мог бы выгородить, наконец, не отобрал для служащих управления ермаковского дома, хотя мог бы отобрать, – с этих пор Инякин уж осознанно отстранился от всех треволнений стройки: “По двенадцати часов не вылезаешь из кабинета -и вот благодарность…”
Ермаков производил дома, Инякин – бумаги, в необходимости которых убежден не был… И будь на месте Ермакова хоть молчун Силантий, Инякин все равно принялся бы за него с жестокосердием занятого по горло бездельника, который, как ветвистая злая заразиха, не может не жить за счет растения здорового. “Выискивание и смакование” было для Инякина не утехой, не брюзжанием, не заблуждением– единственно возможной формой его существования у кормила.
Игорь Иванович ничуть не удивился, узнав, что в исполком городского Совета поступило официальное письмо начальника кустового управления 3. И. Инякина, указывающее на необходимость срочно укрепить руководство отдельными трестами. Позднее Некрасов ознакомился с объемистым документом Инякина, который, на первый взгляд, вовсе не казался подложной грамотой. В нем не было ни одного лживого факта. Ни одного непроверенного сообщения. И тем не менее он, документ этот, был не чем иным, как “инякиным судом”, все тем же инякиным судом, но – над Ермаковым.
Давным-давно истлела и превратилась в хлам кепка Староверова, брошенная некогда в раствор. Однако и этот хлам был выискан Инякиным и, как предмет коллекции, имел свой порядковый номер. Подобного хлама Инякин собрал немало. Десятки, страниц посвящались коллекционированию, сопоставлению– смакованию. Над горой полуистлевшего хлама выделялся новый дом. История с домом сияла свежестью красок и как бы сама собой наталкивала на мысль, которой был пронизан весь документ, до последней запятой: “Гнать!”
Разумеется, подобного слова и в помине не было в лапидарном, как приговор, проекте решения исполкома горсовета, посвященном новым назначениям. Напротив, проект был пронизан заботой об Ермакове. Одной только заботой. С Ермакова, чуть ли не по его просьбе, снимались административные вериги, чтобы ему легче дышалось, как конструктору.
Документ этот ждал утверждения на очередном исполкоме горсовета.
Заседание состоялось в субботу. Ермакова вызвали на него, как всегда, срочно. Наученный горьким опытом, он вначале разведал, что ему грозит. Успокоил Игоря Ивановича, который в последнее время сопровождал его на все заседания: “Легкая пробиренция. На худой конец влепят ложкой по лбу…”
У Ермакова и мысли не явилось, что его могут снять. А выговор… Одной шишкой на лбу больше, одной меньше.
На заседании исполкома он сел поближе к приоткрытой форточке и принялся дышать по системе йогов.
Это было его новое увлечение. Ермаков прочел о гимнастике йогов в своем любимом журнале “В защиту мира” и уверовал, что лишь она способна избавить от брюшка, которого уже не мог скрыть ни один костюм. Надо лишь дышать животом. Но когда Ермакову дышать животом? Некогда дышать! И он упражнялся в основном на заседаниях. Садился поближе к окну, открывал форточку и дышал. Большой, опущенный книзу живот ходил вверх-вниз, вверх-вниз. Ермакова хвалят, а он дышит животом. Его бранят, а он дышит животом. Ермаков занимался гимнастикой йогов чаще всего на заседаниях “давай-давай!”. Но почему бы не отдать дань йогам и на исполкоме горсовета?!
Сосредоточенное сопение Ермакова мешало Игорю Ивановичу слушать, он то и дело просил его дышать потише, оглядываясь вокруг и кивая знакомым.
В зале заседания словно бы собиралась большая семья, члены которой не видят друг друга подолгу. Люди шумно здоровались, похлопывая друг друга по плечу, справляясь о здоровье жен, детей, смеясь чему -то. И сама повестка дня поначалу напоминала Игорю раздутый мешок с обновами и подарками, который развязывал вернувшийся домой отец семейства. Раздают обновы. Одним они по сердцу, другие недовольны. Впрочем, самого отца семейства не было.
Зот Инякин приехал позднее. Сморщенный, мятый, словно городская
власть не ругала его за отставание от плана застройки и “бардак” со снабжением, а – жевала. Проскользнул вслед за Степаном Сепановичем, с появлением которого разом оборвались и шум и смех.
Ермаков изобразил на своем лице, обращенном к окну, независимость и полнейшее спокойствие, однако носок ермаковского ботинка стал очерчивать на полу нечто вроде круга. Один, другой… .
Зот Инякин, отыскивая взглядом свободное место, задержался возле дверей. Степан Степанович указал ему пальцем на стул возле себя.
Худое, с желтизной на щеках, лицо Инякина не выражало ничего, кроме покоя и сытости, Игорь Иванович обратил на это внимание Ермакова.
– Лицо известно какое, – едва ли не на весь зал отозвался Ермаков, не прекращая дышать по системе йогов. – Коровье вымя!,
Инякин быстро поднял на Ермакова свои красноватые, точно налитые кровью, глаза. Игорь инстинктивно придвинулся к Ермакову. Его охватило то острое, всепоглощающее напряжение, которое он испытывал, лишь выводя самолет на боевой курс.
Инякин докладывал о строительстве показательного квартала в Заречье. Но вот в зал вошел Хрущев, и докладчик тут же вперил взор в напечатанные на машинке листки, больше уже никто не видел его глаз.
Игорь знал, что Хрущев приедет выслушать мнение архитекторов и строителей “квартала будущего”, как его назвала газета “Правда”.
Хрущев кивнул, как старым знакомым, Ермакову, Некрасову, еще нескольким строителям, которые задвигалаись, зашептались, словно до этой минуты сидели схваченные морозцем– и вот разморозило…
Едва Инякин умолк, Игорь Иванович попросил слова -для замечания по существу, как сказал он.
– Исполком городского Совета обсуждает ход возведения квартала будущего, – начал он, поднимаясь на ноги и вцепившись двумя руками в спинку стула. – Строит трест номер… – Игорь Иванович назвал фамилию управляющего. – А докладывает не тот, кто знает о положении дел лишь по отчетам.Отчего так получается?
Игорь Иванович отстегнул боковой карман своего праздничного, чуть франтоватого синего пиджака ( в торпедную атаку в свое время Игорь ходил неизменно при всех орденах), достал из кармана несколько листочков, вырванных ради такого случая из тетради с пожелтевшей шутливой наклейкой “Диссертация о Шуркиной кепке”.
Эти тетрадные листочки неопровержимо доказывали, что в последние шесть лет инякинское управление хирело, как хиреет город, оказавшийся вдали от главных дорог. Вначале от управления отпочковались механизаторы, затем обрели самостоятельность отделочники.
Инякннское управление стало штабом без армии, страхи которого за исход кампании с утратой власти все более возрастают. Бессильное помочь делу и смутно ощущающее свою немощь, оно тем не менее забрасывало стройки потоком бумаг: “Давай-давай!” Все строительные пути-дороги захлестнула бумажная метель.
С бумажными завалами свыкались, как свыкаются с камнем-валуном на дороге: кажется, проще, объехать, чем сдвинуть с места.
Чем круче становились эти завалы, тем в большую силу входили мастера объезжать бумажные сугробы на кривой. Лишь они одни встречали инякинские приказы без раздраженного восклицания: “Опять бумажка?!”
– Спросите Ермакова, сколько было погребено под этими бумагами добрых начинаний! – воскликнул Игорь Иванович, оборачиваясь к Ермакову, который ерзал на стуле, как в день запуска своего стана: “Пойдет или не пойдет?!”-Сколько пришлось выслушать сетований прорабов: “Ни одно дело не прошибешь!”, проклятий снабженцев: “К каждому кирпичу надо приложить по десять бумажек!” А кто не помнит мученического рождения первой на стройке комплексной бригады! Инякин поддержал ее, но, как и все другое, на бумаге
Кустовое управление – это вор, запустивший руку в карман государства.
Хрущев оглянулся на председателя исполкома горсовета, спросил с удивлением: – Зачем вам это управление?
Председатель исполкома повертел в руках трубку с засмоленным чубуком, кинул ее на стол. Что мог он сказать? Что не доверяет Ермакову? Лучшему управляющему…
Хрущев оглянулся на председателя исполкома Горсовета, спросил с удивлением: – Зачем вам это управление?
Председатель исполкома повертел в руках трубку с засмоленным чубуком, кинул ее на стол. Что мог он сказать? Что не доверяет Ермакову? Лучшему стройтресту…Только сейчас Игорь понял: Инякин при властях
вроде как око государево.
– После реорганизации – выдавил из себя – Остались хвосты.
Хрущев сделал резкое движение рукой, как бы отрубая что-то.
9.
Нет Инякина! Нет Зотушки!..Едва Ермаков и Игорь Иванович вышли из зала заседаний исполкома горсовета, как Ермаков от избытка чувств принялся поддавать Игоря Ивановича кулаком в плечо:
– Александр Матросов, вот кто ты! Кинулся грудью на дот. Чиновничий…
Вбежав в будку телефона-автомата, Ермаков набрал номер Акопянов.
– Огнежка? .. Готовь скатерть-самобранку… Как все праздники прошли?! Нынче почила в бозе старейшая династия в мире… Нет, старше Романовых. Старше Го-генцоллернов. Старше Габсбургов… Старше! Старше!..
Про династию Инякиных не слыхала? – Плечи Ермакова приподнялись. – Необразованность!
В трубке что-то хрипело, но это не помешало Ермакову расслышать: высокий голос Огнежки стал глубоким и растроганно-нежным, словно она дождалась наконец признания любимого. Ермаков, человек отнюдь не сентиментальный, почувствовал, как у него что-то подступило к горлу.
“Черти лопоухие! .. Радости у нас одни, горести одни…”
– Отца давай к телефону! – закричал он во все горло.
Ликовали три дня. Зота – нет! Кровососа – нет!
Три дня Ермаков начинал в тресте все свои поздравления, назидания и даже технические советы с одного и того же восклицания, звучащего торжественно:
– Как, други, дышится без околоточного управления?
На четвертый день утром Ермакова вызвали к новому заместителю управляющего Главмосстроем, которому трест отныне подчинялся непосредственно. Ср-рочно! Ермаков отправился туда и еще в приемной вдруг сжался внутренне, увидев пышноволосую секретаршу Инякина с пилочкой для маникюра в руках. Рванул на себя тяжелую, обитую коричневой кожей дверь кабинета и на мгновение прислонился плечом к косяку двери, различив в углу
кабинета, над огромным письменным столом, до тошноты знакомое лицо.Словно бы изнеможденный ночной работой встал под душ, из которого хлынула… ржавая вода. И нет этой ржавой воде конца-краю.
Прямо от Инякина Ермаков приехал на стройку. Он почти всегда шел сюда, когда ему было невмоготу. К старикам– каменщикам. Отвести душу… И наткнулся на Огнежку.
Вернее, Огнежка наткнулась на него. Она осматривала этаж, где только что прокупоросили стены. Сырой, затхлый запах медного купороса был неприятен ей с детства, усилием воли она заставляла себя идти не спеша вдоль анфилады комнат, отмечая недоделки,
Ермаков стоял в дальней комнате, лицом к оконному проему. Повторял негромко одну и ту же фразу:
– Как было, так и будет. Ничего не изменится…,
Еще не зная, в чем дело, Огнежка остановилась в испуге: в голосе Ермакова; почудилось ей, звучала безнадежность. Таким безнадежным тоном отец ее, бывало, говаривал: “Плетью обуха не перешибешь”.
Но отцовская интонация… у Ермакова?!
Ермаков сообщил ей, уходя, что Зота спас Хрущев. “Похоже, видит в Зоте, как в зеркале, самого себя, незаменимого… путаника” – Испытаные кадры, – сказал о нем генеральный – Золотой фонд!”
– Золотарики чертовы! – Ермаков проскрипел зубами.
Оставшись одна, Огнежка почувствовала, что задыхается, и оперлась рукой о влажную, вонючую стену. “Как было, так и будет… Как было!…”
Она закрыла обеими руками, словно ее хлестнули по лицу.
Все разом!
Неделю назад Огнежка поймала себя на том, что по дороге из библиотеки иностранных языков свернула на улицу, где живет Владик.. Ноги, казалось, сами привели ее к стеклянному, забранному решеткой парадному. Цветные стеклышки парадного наполовину выбиты, остальные запылились настолько, что цвет можно лишь угадать.
И все же на чисто, со скребком вымытую лестницу по-прежнему падали из подъезда желтые, красные, зеленые блики.. Точно вступаешь в мир сказки.
Огнежка любила подставлять под эти блики ладони: воочию видишь себя и краснокожей, и желтокожей, и даже зеленой, как ящерица.
Сказка оборвалась тут же, за коричневой, обитой дерматином дверью квартиры.
Те же ослепительно белые чехлы на креслах, которые всегда вызывали у нее желание уйти не присаживаясь. Тот же запах мяты и тот же драматический шепот: “Тише! Владик работает…”
За стеной приглушенно звучало рондо каприччиозо. Владик, видимо, готовился к концерту.
Присев в гостинной затеребила пальцами чехол на кресле. Что ее привело сюда? Уязвленное самолюбие? Страх перед одиночеством? Идиотские открытки?
… Вот уже сколько времени она, прораб милостью божией, как однажды, видимо, польстил ей Ермаков, пытается, будто слепец, нашарить, нащупать дорогу бригаде, чтоб с солнышком… но все равно и у нее о работе иначе не отзываются, как “вкалываем”, “горбатимся”, а то и вовсе “ишачим”.
От унылого “ишачим” до газетной трескотни о новых появившихся комбригадах. как до звезды небесной. Чем мы хуже?!
С самого рождения бригады Александра Староверова все обязательства бригады, как правило, начинались дюжиной всяческих “не”:не пей, не сквернословь, не оставляй товарища, в беде. Не, не ..не… Все эти “не” Александр переписывал из брошюр о нормах социалистического общежития. И года три, когда его заставляли выступить перед своими, не уставал твердить: не… не… не. А в глубине души таилась опаска: вот втянутся они в новое движение, а отовсюду подталкивают, и забуксуют они во всех своих “не”, как увязшее в бездорожье колесо…
Отдохнули, выпили пивка. Ермаков покряхтел-покряхтел, и вдруг выпалил:
– Власть на Руси, Игорь Иваныч, дорогой ты мой, во все века прагматична, по купечески хватка и нагла. Если поточнее, зо-оркий слепец, рвущийся к единовластию! По современному, к диктатуре!
Хрущу именно Зот Инякин, глядящий ему в рот, нужОн. Позарез. А твоих Нюру с Шурой он и вся его холуйская команда в гробу видели.
Как видишь, я тебе верю, летчик-молодчик. Верю и желаю добра, как если б ты был моим сыном. Не только по возрасту. Потому открываюсь. безбоязненно… “Выводиловка”, скажу тебе напрямик в нашем веке -единственный метод социалистического строительства. Тут Акопян, который мне всю плеш перепелил, точен. “Все для народа, ничего через народ…”
У нас на стройке прораб человека до смерти не доведет, хотя и это бывало… Но коли взглянуть на боевой путь ретроспективно: он – кому дулю, а
кому– а ПУЛЮ.А народ у нас все годы: “Уря-уря! ” Ох, темный у нас народ!
Гуща, в пику “болтушку”, о Сталине стал думать миролюбиво: ” При Сталине цены снижали…” Даже у Зота, если верить Ермаку, в подпитии вырвалось: “Сталин лишь интеллигентов уничтожал, а нынешний – весь народ”.
– Да не темный он, Сергей Сергеевич, а затырканный, замученный нищетой, запланированной, как вам хорошо известно, как властями Потому к сатанинской власти – спиной!
– Ты политик, Игорь. Как речь о нашенском народе, привык округлять, приукрашивать. ” Наш великий русский народ… ля-ля-ля…” Спиной, говоришь? Это бы ладно…
Взгляни на Россию реально. Для работяги, который спину гнет, пускай у власти, как тебе известно, хоть крокодил. И ежели крокодил, как в мудрой сказке Корнея Чуковского, потребует себе на ужин маленьких детей, народ и на это все равно “Уря-Уря!”. У него только одно в башке. “Нам або гроши, да харч хороший!”.
Ермаков в конце концов от своих откровений устал и задремал.
Игорь лежал с самого края раздвижной тахты, на трех расползшихся подушечках. Подложив руки под голову и прислушиваясь и к своим мыслям, и к далеким всегда волновавшим его паровозным гудкам, он продолжал размышлять:
“Чумаков невозмутимый, “экранированный”! Почему он визжал в раздевалке, как под дулом? А взгляд Инякина, – брошенный на Нюру, как на мышь, высунувшуюся из подпола? А Тихона? Он сидел там в углу, казалось равнодушный ко всему на свете. Потом приподнял на мгновение морщинистые веки. Красноватые глаза раскалены ненавистью. От таких глаз добра не жди…
“Почему Чумаков с Тихоном испугались сегодня куда cильнее, чем даже тогда, на голосовании, когда их “железный списочек” разлетелся, как облицовочная плитка под кувалдой?
И вдруг как холодом пронизало. ” Хрущ Зота Инякина понимает, а твоих Нюру с Шурой в гробу видал “
Еще Чернышевкий заметил – мечта русского сановника чтоб мужик был на поле богатырем, а в съезжей избе – холопом… Дай срок, Игорь, – пророчествовал Ермак.– инякины Хруща придушат. У него семь пятниц на субботе. К чему им, обленившимся, ненавидящим любые изменения, такая дерготня, нервотрепка!
А опыт Нюры…Хрущеву и гробить не надо. Достаточно не поддержать… Ее опыт еще не опыт, а росток. При глухом молчании газет, боящихся рабочего самоуправления. как огня ( на югославов, де, равняются, на Запад) росток обречен, блокирован. Как самолет, не запущенный в серию..
Утром Игорь попросил Ермакова остановить вездеход возле бригады Староверова.
Наступало то время суток, которое Игорь любил более всего. Вялый февральский рассвет чуть брезжил. Небо над дальним недостроенным корпусом цвета густой синьки словно кто-то разбавлял водой. Оно блекло, серело.
Слепящие, по четыре в ряд, прожекторы на едва различаемых в сумраке столбах еще не погасли. В смешанном, дымчато-сиреневом свете мелькали, пересекались тени – от неторопливой стрелы башенного крана, от скользнувшей в воздухе бадьи. От каждого предмета тянулось несколько теней.
Бригадиру сумеречный свет, видимо, не мешал. А Игорю было приятно, что с каждой минутой предметы вокруг становились четче, объемнее.
“Рождение ясности!” – так называл Игорь Иванович милые его сердцу минуты рассвета на стройке.
Но в это утро рождалась не только мглистая ясность февральского дня. Утро несло с собой и другую ясность. Человеческую… Так ему, “романтику” по натуре, казалось..
“БОГИ НА МАШИНАХ”
Утро, и в самом деле, принесло “рождение ясности.” Но совсем иную “ясность”.
С утра Некрасов на работу не явился. Не явился ни на другой день, ни на третий.. Первым запаниковал Ермаков. Где ваш “доблестный рыцарь”!– спросил – Огнежку. – Куда вы его девали?
– Кто мой “доблестный рыцарь”? Кого вы имеете ввиду?
– Маркса– Энгельса, кого же еще? Не пришел и не позвонил…
Огнежка развела руками. Это на него не похоже. Некрасов пунктуалист… Не случилось ли чего?
В течение дня служба “Мосстроя-3” обзвонила, по распоряжению Ермакова, все московские больницы. Фамилия “Некрасов” не зарегистрирована нигде…
Огнежка, добрая душа, спросила адрес университетского общежития и, по дороге домой, заехала туда. Некрасов оказался дома. В полном здравии. И в полной растерянности. Попросил успокоить Ермака. Он передаст для него письмо.
– Так давайте же его, завтра с утра оно будет у Сергея Сергеевича.
– Огнежка, дорогая. Вокруг меня завязывается какое-то грязное дело. Я не хочу, чтоб на вас легло пятно. И вы попали бы, не дай бог, в сообщники. Или даже в свидетели.
– Какое может быть пятно у Маркса-Энгельса?! Какая-то дьявольщина!
– Спасибо за веру в меня. Завтра утром к вам зайдет наш общий знакомый. Художник… Да-да, “Ледяное молоко”. Он передаст вам мое письмишко. И завтра же пожалуйста, вручите его Сергею Сергеевичу..
– Так звякните ему сейчас!. Он очень встревожен.
– Я не хочу и его втягивать… не понятно во что…
– Господи, что за конспирация?
– Увы, Огнежка. Комендант общежития вас не засек?. Вы ему не представлялись? И прекрасно! Извините, Огнежка, письмо будет заклееным. Если меня в чем-то обвинят, – вы не при чем. “Девочка понятия не имеет, о чем оно”. Ясно? До свидания, дорогая наша Огнежка!
Утром, как только в трест прибыл Ермаков, ему был вручен коверт.
” Сергею Сергеевичу. Лично!”
Ермаков рванул конверт, не вызвав, как обычно, секретаршу с ее “почтовым ножичком”.
От руки писал ” Иваныч”! Почерк нервный с острыми, как пики, углами
“Дорогой Сергей Сергеевич! Три дня назад меня срочно вызвали к Е.А. Фурцевой, которая, от имени Хрущева, сняла меня с работы. Звонить и писать Ермакову категорически не рекомендовали.
Мне хотелось бы увидеть вас – на нейтральной почве. Чтобы понять, что стряслось. Преданный вам, Иванович. Он же “злой мальчик”.
Ермаков поскрипел зубами. “Конспиратор!” И тут же всю конспирацию отшвырнул, как окурок. Позвонил Некрасову домой.
Оказалось, это телефон не Некрасова, а коменданта общежития.
– Некрасова! Позвать! Ср-рочно!!
Минут через сорок Некрасов пересел со своего “Москвиченка” на подкативший заляпанный грязью “ЗИМ”, и первое, что он услышал от Ермакова: ” В кошки-мышки с ними играть нельзя1 И – не будем!”.
Едва пересекли мост через Москва-реку, остановились. Ермаков дал шоферу какое-то поручение, и тот покинул машину.
– Не волнуйся, Иваныч! Не так страшен черт! Неторопливо! Ничего не пропуская! Давай!
– Ну, явился на Старую площадь. Сразу, без промедлений, сопроводили “на небеса”.
Екатерина Алексеевна встала мне навстречу. Передала от имени Хрущева, что я блистательно справился с труднейшим партийным поручением.
“Строительство в Заречье идет хорошими темпами, никаких претензий к Юго-Западу у нас больше нет”.
В течение беседы ее лицо, Сергей Сергеевич, менялось поминутно. Приветливое, я бы даже сказал, обаятельное, расплывалось в материнской улыбке, – естественно, я решил, что меня вызвали наградить орденом или, по крайней мере, какой-нибудь грамотой ЦК КПСС.
Затем вдруг начала длинно и путанно рассказывать о Париже, в котором только что побывала, по приглашению французской компартии. В Париже, говорит, просто ужас. Всеобщая забастовка. Закрыто даже метро. Студенческие волнения. Побоище с ажанами. Я не сразу поняла, что за ажаны… Более того, пятизвездная гостиница, в которой мы жили, не могла вызвать такси. Ужас-ужас!
Какое счастье, что у нас такое невозможно!
Крутого поворота беседы, признаться, не ожидал.
– Никита Сергеевич, – продолжала Фурцева чуть громче . – говорил в день запуска “прокатного стана Ермакова”, что вы сами выберете время, когда вернетесь Университет. – Прежняя материнская улыбка на ее лице вроде бы каменела.
– В МГУ уже звонили, Игорь Иванович. Вас ждут. – Протягивая на прощанье руку, сказала жестче, что я могу больше в Заречье не появляться. Тот день, о котором говорил Никита Сергеевич, наступает сегодня. – И еще жестче:
– Понятно?!
– Понятно, -ответствовал я уже настороженный всерьез. – Только вот у меня на стройке не окончены дела. Новый профсоюз Заречья.
– Некрасов! – вдруг изрекла каменным голосом . – Чтоб вашего духа там не было.
Белейшее лицо ее стало цвета хорошо обожженного красного кирпича.
А окаменелая “балетная улыбка” как сияла на лице хрущевской подсобницы, так и осталась.
– Имейте ввиду, это предупреждение – самое большое, что я могу для вас сделать. Ибо есть и другое мнение. Совсем другое…
И – тоном председателя военного трибунала: – С т р о г о р е к о м е н д у ю вам более на стройке не появляться. И не звонить.
Потянуло хорошо известным запашком: “Десять лет без права переписки”. На мгновение померещилось, я и в самом деле в своей древней Греции, где твою судьбу решают БОГИ НА МАШИНАХ, спустившиеся с небес.
Сергей Сергеевич, если вы хоть что-нибудь в этой чертовщине понимаете?
– Может быть! – процедил сквозь зубы Ермаков и окликнул шофера, который уже давно крутился около машины.
После чего “ЗИМ” управляюшего свернул к дверям грузинского ресторана “Арагви.”
Не успели еще подать традиционные “Цыплята-табака”, бутылку “Мукузани” и графин водки, как все еще страшноватая для Некрасова картина начала вырисовываться.
Хрущев так испугался цунами, им же на ХХ съезде вызванного, что породил новую “генеральную идею”.
– Наша интеллигенция пытается раскачать стихию!
Слова Генерального прозвучали, как “Спасите! Пожар!” Лубянское ухо только этого и ждало. В течение недели там был составлен и утвержден список поджигателей. На первом месте – ленинградский режиссер Акимов, поставивший “Голого короля” Шварца и другие его пьесы, “полные аллюзий”, а так же самые известные радио и телекомментаторы, “переусердствовавшие в развенчании культа личности”.








