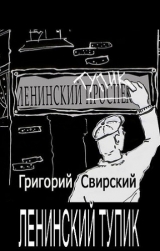
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Мимо, рыча и обдавая его перегаром солярки, протащился один дизель, другой…
– Дава-ай, ребятки!
Ермаков ворвался, задыхаясь, обратно в кабинет, набрал номер Акопянов. В трубке послышался сонный голос Огнежки: – Слушаю вас.
Ермаков хотел прокричать: “Ура! Везут!” -но тут же у него мелькнуло: может, разыграть ее? Сказать, чтоб бежала на корпус, там безобразие на безобразии… Но неожиданно для самого себя взревел в восторге своим оглушающим басом единственную строчку из старого польского гимна, которую он знал:
– Еще Польска не сгинела!..
– Что?
– Еще Польска не сги-и…
– Вам что, товарищ?
– Польска, говорю, не сгинела.
– Ермаков?
– Ермаков! Ермаков! Марина Мнишек чертова!
Пулей на царство! Железобетон пошел! Потоком!
Часть вторая
Е Р М А К
Сколько раз Ермаков хватался за телефонную трубку, чтобы поток железобетона не иссякал? Сто? Тысячу?
Однажды телефонная трубка выскользнула из его лапищи, и он начал заваливаться боком на дощатый стол прорабской. Огнежка, вскрикнув, подхватила
Ермакова под руки, уложила поперек прорабской на фанеру, на которой было начертано красной краской: “Кирпич стоит 32 копейки. Береги его…”
Черная эбонитовая трубка от удара об пол треснула. Огнежка вертела ее в руках, дула в нее. Телефон молчал.
Когда Огнежка, бегавшая вызывать скорую помощь, вернулась в прорабскую, Ермаков уже снова сидел за столом. Щеки его порозовели. Он согласился доехать на санитарной машине лишь до треста. Прошел к машине, горбясь, унося на своей широченной кожаной спине оттиск едва различимых красных букв.
Единственное, что удалось Огнежке, – эта настоять на том, что Ермаков после работы поедет не домой, а в ночной санаторий ГлавМосстроя, корпуса которого они сдали к открытию XX партийного съезда.
Ермакову измерили давление крови и тут же уложили на топчан, застланный клеенкой. Не разрешили даже дойти до палаты. Принесли брезентовые носилки. Испуганный чем-то главный врач, старик в коротеньким, выше колен, халате, сообщил по телефону в трест, что Ермакову нельзя вставать с постели по крайней мере месяц-два.
Утром Ермаков поднялся и как ни в чем не бывало принялся за свою обычную гантельную гимнастику. Гантели разыскал в кабинете физкультуры. Главный врач, услышав об этом, промчался по двору вприпрыжку, надевал пальто на бегу. Он отыскал Ермакова в телевизорной комнате.
В открытой до отказа фрамуге свистел ветер. Он заносил снежок. Снежок сеялся и на натертый до блеска паркетный пол, и на обнаженного, по пояс бронзового Ермакова, и на старика врача, который жался к стене, подняв воротник зимнего пальто и крича Ермакову, чтоб тот немедля прекратил самоубийство…
Но как только врач пытался приблизиться к Ермакову, тот выбрасывал руки перед собой:
– О-одну минутку!.. Наконец Ермакову снова измерили давление. Тяжелейшие, с гантелями, упражнения привели к исходу неожиданному: кровяное давление упало. Врач трижды накачивал красную резиновую грушу прибора и каждый раз недоуменно пожимал плечами.
Из душевой кабинки Ермаков вышел “практически здоровым”, как официально подтвердил старик врач, который все ходил вокруг Ермакова, потирая озябшие руки и разглядывая его с изумлением деревенского мальчишки, впервые увидевшего паровоз.
На другой день в ночной санаторий вызвали профессора-консультанта, известного ученого-сердечника. Он остучал выпуклую, как два полушария, грудь Ермакова длинными, с утолщениями на сгибах, пальцами виртуоза. Время от времени замечал что-то главному врачу на латыни; от которой Ермакову становилось не по себе. Скрывают от него, что ли…
– Перейдете вы когда-нибудь на русский? – вырвалось у него.
Черные, похожие на влажные маслииы, глаза профессора взглянули на Ермакова скорбно. Нет, просто возмутительно скорбно. Не глаза, а какая-то вековая еврейская скорбь. Смотреть так на Ермакова?! “Гляди веселее!” – хотелось крикнуть ему.
Укладывая свои инструменты в кожаный саквояж, профессор наконец разъяснил:
Сердце изношенное. Сказались тяжелое ранение и контузия на войне, но в результате упражнений с гантелями чудовищно развитая сердечная мышца стала, по выражению профессора как бы крепостной стеной, ограждающей усталое и больное сердце от казацких набегов жизни.
– Теперь я верю, что вы и в самом деле первый каменщик в государстве! Возвести этакую стеночку!
Он окрестил Ермакова фанатиком утренней зарядки, заметив с грустной улыбкой, что в его практике это первый случай фанатизма, который принес пользу.
– Впрочем, – поспешил добавить он, продевая руки в поданную Ермаковым шубу, – крепостные стены в наш век не защита. И советую вам помнить об этом.
– Э! – Ермаков нетерпеливо потянул его под руку к машине, чтоб тот не успел впасть в свой прежний, могильный тон. – Коль суждено, лучше грохнуться скалой, чем рассыпаться трухой.
Ермаков умчался б из санатория немедля, если бы его одежда не оказалась запертой в кладовке. Выпросил казенные валенки. Умолил врача подпустить его к телефону, набрал номер Инякина, но, увидев в дверях врачебного кабинета Огнежку, бросил трубку.
– На прогулку, Огнежка, на прогулку!
Огнежка шла впереди Ермакова по лесной опушке. Тропинка, наполовину занесенная снегом, присыпанная хвоей, вела к сосновому бору, который синел за озерами. Навстречу проносились лыжники в ярких цветных свитерах, спешившие вернуться дотемна. Один из них, с обледенелыми бровями, крикнул Огнежке весело:
– Э -эй, красная шапочка! Куда ты в лес с серым волком?
Бодряще пахнуло морозцем. Стало светлее, праздничнее: словно кто-то взял огромную малярную кисть и брызнул солнечной охрой на придавленный снегом сосняк.
Ермаков дышал тяжело, с хрипами, и Огнежка укоряла себя в черствости. “На стройке не замечала у него одышки… И вообще вела себя с ним как дура, надо не надо досаждала ему…”
А он, отводя от лица Огнежки колкую, в наледи, ветку ели, прогудел на весь лес торжествующе:
– Живе-ом!
Огнежка оглянулась на возбужденного розовощекого Ермакова, испытывая радостное изумление перед человеком, который из-за болезни мог бы беззаботно жить на большой пенсии, но который каждое утро отвоевывает себе право на трудную жизнь. На адски трудную жизнь.
Она поправила на Ермакове взбившийся шарфик, застегнула на крючок его кожаное пальто, скрипучее и негнущееся, как рыцарские доспехи.
Возьми сейчас Ермаков ее руки в свои – кто знает, отняла бы она их или нет.
Пальцы Огнежки коснулись плохо выбритого подбородка Ермакова. Она смятенно отдернула руку и заговорила излишне торопливо, что зря, мол, Ермакова подпускают к телефону, не для этого он в санатории.
Ермаков отозвался благодушно:
– Ничего не попишешь. Коли власть… коли сердчишко, – поправился он, – сердчишко у нас, строителей, дрянь, приходится отдуваться сердечной мышце.
Огнежка так круто обернулась к Ермакову, что оступилась в сугроб. Вытряхивая рыхлый снег из резинового ботика, она заметила, что, по ее мнению,Сергей Сергеевич отыскал сердце не с той стороны.
– Сердце, как известно, слева, – сказала она. – Что я имею в виду? .. Ну, к примеру, Староверовых. Помните, Нюра какой приехала, Сергей Сергеевич?..
Ермаков показал рукой на красногрудого снегиря, который сел на куст можжевельника; покачался, как на качелях, вверх-вниз, затем перескочил на другой – и снова вверх-вниз. С елей стряхивались оранжевые в закатном солнце хлопья, они падали вниз медленно, еловно в дреме, бесшумно исчезая в ноздреватом снегу,
Огнежка умолкла на полуслове. Он ее не слушает!
Она волнуется, собралась, можно сказать, исповедоваться перед ним. А он…
Огнежка пошла по тропинке быстрее, глядя, как гаснет над лесом проглянувшая было заря.
Ноги мерзли. Бас Ермакова за спиной теперь уже почти раздражал.
– Кавказская речка, Огнежка, перекатывает камни, кипит. Горы таят в себе грохот камнепада, осыпи. Прелесть русской природы, Огнежка, в том, что она ненавязчива.. Люблю тишину, покой. Недаром молвится на Руси: “Тишь-благодать”.
Он заспешил вперед, к леску, показал в сторону березки и сосны: они тянулись вверх, чудилось, от одного широченного корня, гигантской рогаткой, нацеленной в зарю.
– Смотрите, Огнежка, какие поднялись! Видать, расти вместе лучше. Здоровее. А?..
Ермаков не сразу понял, куда пропала Огнежка. Наконец разглядел за дальними кустами, на тропинке, ее каракулевую шубку.
– Стой! Ку-да?! – “О Нюшке не стал слушать? Да что такое Нюшка, чтоб из-за нее?!”… – Сто-о-ой!!
… Нюра Староверова часто заходила в районную библиотеку и просила дать ей “что-нибудь про любовь”. Ее библиотечный формуляр, вернее, несколько формуляров, вложенных один в другой, были испещрены названиями книг, о которых библиотекарши могли с уверенностью сказать, что они “про любовь”.
Как-то Нюра увидела на побеленных дверях библиотеки необычное объявление. Организуется конкурс читателей на лучший отзыв о пьесе. Пьеса шла в драматическом театре. Ее хвалили в газете “Правда” Нюра подумала: коли хвалят, значит пьеса хорошая. К тому же слышала, про любовь. Нюра купила два билета, объяснила мужу кратко: “Хвалят”.
В театр Староверовы направились под ручку, подшучивая над собой: давненько под ручку не прогуливались! Обратно шли молча, поодаль друг от друга, каждый жил своими заботами.
Спустя недели две в комнату Староверовых постучались. Вошла возбужденная – зеленые глаза сияют – Огнежка. Размотала свой красный шарфик. Спросила у Александра, дома ли жена. Нюры не было. Огнежка, ни слова не говоря, включила трансляцию, и спустя несколько минут в черной тарелке репродуктора зашуршало, затем знакомый суховатый голос Игоря Ивановича Некрасова объявил: “Первое место на конкурсе районной библиотеки занял отзыв Анны Староверовой…”
Александр не мог ничего понять. Какой Cтароверовой? Нюры? Какой, отзыв? Какой пьесы? А, это та мура, где муж бросил жену… Постой, кто там кого бросил?.. А, сошлись из-за ребенка…
Огнежка достала из картонной папки несколько тетрадных листочков, скрепленных белой ниткой, протянула Александру. Александр отошел к окну.
“Дорогие товарищи! – жадно читал он, вытянув шею. Извиняйте, если я, рядовая работница, подсобница каменщика, напишу вам письмо.
Образование у меня семилетка. В техникум, правда, подала заявление, да не
знаю еще, буду учиться, нет ли. Как сложится.
Не в обиду вам скажу, а чтоб самой разобраться. Когда я приехала ваш город, – дело прошлое, – заморыш заморышем, с малым ребенком на руках, приютила меня одна хорошая женщина. Отходила меня, а потом учила меня своей правде: “С мужем живи, а камушек за пазухой держи…”
А со зла, бывало, и так скажет: “Мужу-псу не открывай душу всю”.
Я тогда была почти малолеток, прямо из детдома. Думала: как же это я буду жить со своим Шурой, а сама держать против него за пазухой камень? Не жить одной душой. Вреднеющей казалась мне Ульяна; правда, это у нее от темноты и необразованности и от того еще, что жизнь у нее сложилась не так.
Ну вот, пошла я на пьесу. Конкурс по ней объявлен, думала, значит, необычная. И что я увидела?! По пьесе выходит, пусть у отца с матерью жизнь вовсе не склеивается, не любят они друг друга, а ради детей, говорит, живите. Не любишь, а живи, терпи.
Мать для счастья своего ребенка на что только не пойдет, будет голодать-холодать! Если надо, жизнь отдаст. Но вот протужить все годы. С постылым! Так ведь нет же большего вреда для ребенка, который сразу увидит – дети все видят!– что их мать и отец живут, как принудиловку отбывают.
Вот уж когда по-настоящему свое детище на горе готовишь, вырастишь его скрытным, лживым.
А фальшь и в семи щелоках не отмоешь.Что же такое получается, товарищи? Оказывается, не только тетка Ульяна, но ученый человек, писатель, наставляет меня: ради детей живи с изменщиком, с поганцем-вруном, с выпивохой живи, ну, а камень, конечно за пазухой держи. Как тут обойдешься без здоровеной каменюки. Ради нашего будущего, значит, хоть какая ложь – не ложь!
Так неужто тетка Ульяна права? Как хотите судите. Не верю я этому!
Смотрю я вокруг себя и вижу, что люди, которые хотят себя уважать, не так живут, как этот писатель и тетка Ульяна советуют…
А тля всякая оправдание завсегда ищет, чтоб хоть во лжи жить, лишь бы в сытости. Если я, подсобница каменщика, знаю это твердо, как же писатель не понимает? Пусть не обижается,– гремит он, как жесть на ветру. И все!
Извиняйте, дорогие товарищи, если что не так.
К сему Нюра Староверова”.
Александр взглянул на Огнежку оторопело
Он был поражен не столько самим письмом (“Нюра и не такие коники выкидывала”), сколько тем, что жюри присудило ей первую премию.
Нюре – первую, а учительнице, которая у Нюры экзамены принимала за седьмой класс,– вторую.
Он, Александр, подсмеивался над Нюриным синтакcисом – но ведь всякий видит, что жена его в каменной кладке сильнее, чем в грамоте. А дали первую!
Вторично Огнежка приехала в общежитие недели через две, привезла Нюре книги. “Честные”, как она– их назвала. Все книги Огнежка делила прежде всего на “честные” и “нечестные”, в которых авторы ужами уползали от трудных проблем.
Одна из книг, растрепанная донельзя, в пятнах кирпичной пыли, Нюре не понравилась сразу. Даже фамилия автора показалась несерьезной. Овечкин! Овеч-кин – Барашкин – Козленкин.
– Это про что? – Нюра вяло полистала для приличия. И вдруг словно в грудь ее ударило. -
“.. .Есть в районе очень богатые, крепкие колхозы, и есть слабые колхозы… Я думаю, такой пестроты не было и в старой деревне. Конечно, были в каждом селе батраки, середняки, кулаки – разно люди жили, – но между селами одной волости не было, не могло быть такой разницы, как сейчас… Земли поровну, и земля одинаковая, один климат, одно солнце светит, одна МТС машины дает – и такая разница! Когда же мы доберемся до причин и покончим с этой пестротой? ..”
Вот тебе раз! Из “Перевоза” клубнику в Воронеж возили. На председателевой “Победе”. А за три километра от “Перевоза” хлеба не купишь. Говорили, от веку так. И вдруг – “когда же мы доберемся до причин!” В тоске. С болью.
И хотя назавтра предстоял трудный день, на ветру, в грязище, со всеми передрягами неритмичной работы, Нюра, закончив домашние дела, прилегла с книжкой в руках на краешке железной кровати, рядышком с мужем, и старалась не шевельнуться, не разбудить.
Она читала до самого утра, и с этой ночи десятки “почему?”, жившие в ней подспудно, осознаваемые смутно, начали проступать отчетливее, как если бы эти лепившиеся друг к дружке “почему?” были начертаны на тетрадном листочке, который едва белел на столе, в полумраке.
А сейчас уж рассвет, и она отчетливо видит каждое слово.
“Почему Шура по-прежнему потрафляет Тихону? Именно Тихон, да Гуща ему ноги подбили, когда насмеялись над его затеей “улицы с фонарями?”
Почему Тихон донимает Тоню? Ведь он нам с Тоней подотчетен: тайно голосуем за него. Бумажками. А Тихон все одно кудесит, как, говорят, было только во времена культа личности. На что же он рассчитывает? Почему на нас с Тоней ему наплевать с самых высоких подмостей? Что мы для него – пустое место?”
На многое, на очень многое Нюра не находила в книжках ответа. Но тем не менее, приходя к кому-либо, она прежде всего искала глазами полочку с книгами, и если не видела книг, ей казалось, что она смотрит в лицо слепому…
Об этом – и не только об этом – хотела рассказать Огнежка Ермакову, когда они гуляли неподалеку от ночного санатория, по лесной тропе. А – он? Снегирь ему интереснее…
Ермаков настиг Огнежку, запыхавшийся, по пояс в снегу.
– Ты что? Рассердилась? О Нюшке не стал слушать? Буду! Давай! О Шурке! О Нюшке! О любой зверушке…
– Да вы что, слепорожденный?! Не видите того, что вокруг вас происходит? У газетных киосков очереди. Молчуны и те заговорили. И как заговорили! Даже Шураня-маленький,,.
– Ермаков перебил ее нетерпеливо: – Знаю!
Рассказывали, нюрин мальчонка взгромоздился на Нюрины колени, , и произнес певучим, как у Нюры голоском, не выговаривая “р”, слова, которые облетели стройку: “Тетка Ульяна глозится: “Бог накажет! Бог накажет!..” Надо подвести зенитку и сшибить бога. Чтоб никого не бояться”. И Шураня изо всех силенок швырнул кубик в потолок.
– Слышал! – повторил Ермаков, раздражаясь.– Все теперь умные да смелые. Все! Даже Нюшка!..
Быстро темнело. Похолодало. Скрип Огнежкиных шагов затихал. Чувствуя, что он теряет дружбу Огнежки, и безвозвратно, и не понимая почему (“Не из-за Нюшки же в самом деле!”), Ермаков заторопился следом. Шляпа слетела, он поймал ее на лету, бежал с непокрытой головой, на которую сыпался снег с потревоженных ветвей.
Догнал Огнежку подле самых дверей санатория, схватил за плечо, пробасил, задыхаясь, почти униженным молящим тоном, которого потом не мог простить ни себе, ни ей:
– Огне-эжка! П-пускай я такой-сякой… вообще, по– твоему, идиот… слушаю сердце, приставив трубку не к той стороне груди. Пускай я не смышленее Нюшкиного мальца. Но – вспомни!-кто спас тогда… уф твою затею. И тебя, и Нюшку… всех… Кто возил вам железобетон на собственной спине? А?
Огнежка дернула на себя белую стеклянную дверь. Ермаков придержал Огнежку за руку:
– Ты еще не знаешь всего! Слушай…
Но дверь за Огнежкой захлопнулась. Ермаков грохнул кулачищем по дверному косяку.
2.
Новость, о которой Ермаков не успел рассказать Огнежке, на стройке узнали через неделю. Ермаков в конце концов сдал в строительном институте последний, “застарелый” экзамен и получил звание инженера-строителя. Одолеваемый поздравлениями, Ермаков быстренько осенял пришедших к нему прорабов-практиков своим дипломом в синей, с золотым тисением корочке, как иконкой, и произносил веселой скороговоркой:
– Выбирайте сами, куда путь держать, прорабы милостью божьей. В студенты-заочники или в печники. Бьет час!..
Прорабы брали диплом в руки, разглядывали. Чумаков даже понюхал его, вздыхая.
Вечером ермаковский вездеход с праздничным флажком на радиаторе возил прорабов, приглашенных к Ермакову “на пирог”. Последним, в одиннадцатом часу, он доставил Игоря Ивановича и Чумакова, задержавшихся на заседании комиссии по трудовым спорам.
Поздних гостей встретила дочь Ермакова Настенька, полненькая хохотушка, баловень прорабов.
Игорь Иванович засмеялся, глядя на нее. Вспомнились пионерские годы, когда он наряжался в праздник урожая пшеничным снопом и куролесил у пионерского костра, теряя колючие, торчавшие в разные стороны колоски.
Широкая, круглая, в шелковой кофточке соломенного цвета, Настенька пританцовывала в прихожей, как праздничный сноп. И запах от ее светлых волос исходил какой-то солнечный, пшеничный, словно Настенька прибежала открывать дверь откуда-то из жаркого летнего дня.
Игорь Иванович обхватил Настеньку окоченевшими на морозе руками, вскричав как мальчишка: – Здравствуй, лето!
Чумаков вслед за ним вскинул Настеньку к потолку, но тут же опустил на пол, хоронясь за спину Игоря Ивановича, и пробормотал:
– А вот те и зима… . .
В прихожей появилась мать Ермакова, Варвара Ивановна, неулыбчивая, могучей ермаковской стати женщина, в черной, до пят юбке старинного покроя и в нарядной кофте свекольного цвета. Кофта, видно, привезенная сыном из заграничной командировки, была застегнута глухо, до подбородка. Для этого Варвара Ивановна пришила у ворота дополнительную пуговицу, которая отличалась по форме от всех остальных. Но что поделаешь! Приподняв юбку (чуть приоткрылись ее ноги в шерстяных чулках, без туфель. “Староверка, что ли?” – мелькнуло у Игоря ), Варвара Ивановна выглянула на лестничную площадку, спросила голосом озабоченным, почти встревоженным:
– Боле никто не идет? -И, отыскав взглядом Чумакова, строго спросила у него, почему он один. – Рябая твоя Даша или хромая, что ты ее стыдишься? .
Она прошла мимо Чумакова-, непримиримо шурша юбкой и сказав вполголоса:
– Каков поп, таков и приход.
Смысл этих слов стал понятен Игорю Ивановичу позднее, когда большинство гостей разошлось и в комнатах кроме Игоря остались лишь близкие друзья Ермакова: Акопян с дочерью.
Огнежка не хотела приходить, за ней послали вездеход – да несколько прорабов, с которыми Ермаков клал стены четверть века.
Притихнув, слушали “Болеро” Равеля, – Ермаков предпочитал его всем речам и танцам; потом кто-то выдернул шнур радиолы.
Посередине комнаты остановилась Варвара Ивановна, огляделась и произнесла побелевшими губами:
– Вот что, дорогие… Здесь чужих нет… Хочу спросить вас… По совести поступает Сергей или нет? .. Я Прова не спрашиваю, – она кивнула в сторону Чумакова, – он сам такой. Но вы,.. вы все… скажите. – На лице ее выражались и стыд и решимость преодолеть этот стыд. – Почему Сергей свою не приглашает? Есть у него на примете. Сам говорил. Почто от матери прячет? Или ей наш праздник не праздник?.. Иль, может, она – ни сварить, ни убрать?.. Или он к чужой жене прибился? А? Не может того быть! Ермаков он! Краденым не живет… Почто ж тогда от матери прячет? От Настюшки прячет? Или мы рожей не вышли? Тогда… вон! Иди к своей…
Игорь Иванович заерзал на стуле. Надо было что-то сказать, успокоить Варвару Ивановну, что ли.
Ермаков начал багроветь. Краснота выступила из-под крахмального воротничка. Поползла вверх. Вот уже поднялась до подбородка.
От баса Ермакова в комнате тенькнули стекла:
– Едем! Раз такое дело, -едем! – И подхватил мать под локоть. – К моей! Все едем! Вызывай такси, Чумаков!
Чумаков поднялся из-за стола и, неестественно выпрямившись, животом вперед, прошел в прихожую. За ним еще кто-то.
Игорю Ивановичу стало не по себе. Что за дичь? Врываться полупьяной компанией ночью в незнакомый дом, поднимать с постели женщину…
Но еще раньше, чем Игорь Иванович собрался это высказать, за его спиной прозвучал гневный голос Огнежки:
– Никто никуда не поедет! Что это за купеческие причуды? Что за хамство? Я о вас была лучшего мнения, Сергей Сергеевич. Захочу – в чулан запру, захочу – перед всем миром в ночной рубашке представлю, так, да?
Игорь Иванович оттянул ее за руку назад, сказал Ермакову недовольно: – Лучше бы сюда пригласить. Ермаков усмехнулся, покачал головой:
– Не придет.
В дверях Акопян натягивал на ноги резиновые, с теплым верхом боты.
– Вы, разумеется, домой? – произнес Игорь Иванович, проходя мимо него.
Акопян махнул рукой с ботиком в сторону дверей:
– Нет, с Ермаковым.
Выехали на трех машинах. Впереди – ермаковский вездеход. Сзади – два такси. У светофора ветер донес из такси сиплый голос, обрывки песни:
“Переда-ай кольцо… и эх!., а-аб-ручальное… “
Песню оборвал свисток милиционера. Машины заскользили на тормозах, стали у вокзала гуськом. Постовой со снежными погонами на плечах отдал честь.
– Свадьба?
– Свадьба! – дружно прокричало в ответ несколько голосов.
Он снова отдал честь, один его погон осыпался,
– Поздравляю молодых!
“Свадебный кортеж” мчался под свист ветра в приоткрытых боковых стеклах. Внезапно свист прекратился.
– Держитесь, мама! -Ермаков придержал старуху – она сидела возле шофера – за плечи.
Вездеход забуксовал в снежном месиве, натужно выл мотором, заваливался в рытвины, едва не ложась набок.
Ползли долго среди каких-то канав, глухих заборов. Мелькнули ржавые перила. Мост окружной дороги, что ли? Белые крыши домишек выскакивали к дороге внезапно, как зайцы-беляки. И тут же пропадали.
Приглушенный гневом голос матери Ермакова заставил всех умолкнуть.
– На бетонный везешь? К твоей железной дуре?.. Уйду к снохе! И Настюшку заберу!
Игорь Иванович, который колыхался, стиснутый с обеих сторон, на заднем сиденье, ощутил у своего уха шершавые губы Чумакова.
– Из кержачек она, – хрипел он. – Одних только прожекторов и боится. Больше ничего. Как зашарят, бывало, по черному небу под грохот зениток, ей все кажется – конец света… “Уйду к снохе!” Свободно! -заключил он испуганно и восхищенно.
Фары машины уперлись в высокую кирпичную стенy. Два желтых световых круга, порыскав по стене, уставились на приехавших, как глаза совы.
– Здесь? – спросила Варвара Ивановна глухим голосом.
– Здесь, мама! – Ермаков скрылся в темноте, вернулся через несколько минут. – Пошли!..
Заскрипели шаги. Зажужжал фонарик Игоря Ивановича, тоненький лучик заметался беспокойно.
Как и мать Ермакова, Игорь Иванович еще по дороге начал догадываться, куда их везут. Белый лучик задержался на висячем замке, в который Ермаков вставлял ключ. Ключ не попадал в скважину.
Игорь Иванович вдруг ощутил – у него замерзли пальцы ног, ноет плечо, которым он ударился о спинку сиденья на одном из ухабов. Завез бог знает куда!.. – Ключ от своей любви ты где хранишь, Сергей Сергеевич, на груди? – спросил он почти зло.
Ермаков не ответил. Видно, он уже жил предстоящим,.. Отомкнув наконец замок, он вошел внутрь здания, в темноте напоминавшего не то цех, не то склад, щелкнул выключателем.
Так и есть! Посередине здания с голыми кирпичными стенами высилась собранная наполовину машина, похожая на огромный плоскопечатный станок. Будто кто-то намеревался выпускать газету размером в стену одноэтажного дома. Рядом лежали какие-то детали в промасленной бумаге. От них пахло керосином, солидолом. Откуда-то тяиуло сырыми древесными опилками.
Чумаков захрипел, закашлялся от хохота, опираясь обеими руками о кирпичную стенку.
– Невестушка… Ха-а-ха!. С такой ляжешь… Что она делает, Сергей Сергеич? Ха-ха!.. Укачивает детишек? Побасенки им сказывает… про нашу строительную мощу. Ха-а!..
Игорь Иванович остался возле дверей. Он не слушал объяснений Ермакова. Глядел на кирпичную стену, на которой раскачивалась длиннорукая, как пугало, тень Ермакова.
Кто же в тресте не знает, что Ермаков грешит изобретательством! Рассказывали, еще в тридцатые, годы он соорудил “огневой калорифер” – по виду нечто среднее между печкой “буржуйкой” и керогазом. Сушить штукатурку.
Подобным “механическим уродцам”, как называл Ермаков свои изобретения, говорили, нет числа. Дома у него киот из патентов и грамот.
Досада Игоря Ивановича улеглась, когда он начал прислушиваться к голосу Ермакова. Голос этот звучал необычно. Веселой, беззаботной усмешки, которая неизменно сопутствовала рассказам Ермакова о собственных изобретениях, и помину не было. Низкий почти рокочущий бас, исполненный скрытого нетерпения и гордости, срывался почти в испуге. Точно Ермаков после каждого объяснения восклицал: “Ну как?! Правда, здорово? А?” С подобным чувством, наверно, скульптор снимает полотно со своего детища, которому были отдано много лет.
– Стены пятиэтажных домов будут сходить с прокатного стана, как ныне сходит со станов металлический лист.
Игорь Иванович встряхнул головой. “Кто перепил – я или Ермаков?!”
Он готовился засыпать Ермакова вопросами, но Ермаков вдруг замолк, обвел всех встревоженным взглядом.
– Где мама? Мама! Где вы?!
Он соскочил с приставной лесенки, кинулся к выходу, пнув носком ботинка попавшийся на пути железный капот. Капот со звоном отлетел к стене.
Одного такси не оказалось. Снежная пыль у ворот еще не улеглась.
Ермаков проговорил через силу:
– Тупой пилой пилит: “Женись-женись. Женись – женись”. Хоть из дому беги от этого жиканья.
У Игоря Ивановича чуть с языка не сорвалось: “Почему бы и в самом деле не жениться?” Но сдержался: “Не мне советовать…”
Из-за его спины прохрипел Чумаков:
– И давно бы привел бабу. У меня в конторе всяких калиберов.
Голос Ермакова прозвучал почти свирепо:
– Я тебе покажу калибры! Только услышу!
И устало добавил: – Какого калибра ни будь пуля, она – пуля. Одна прошла по касательной. Ожгла.
Хватит.
Вернувшись в здание, он протянул мечтательно-весело, речитативом, обращаясь к полусобранной машине:
– Ах, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы!..
С этой ночи Игорь Иванович – да и не он один! -жил ожиданием ермаковской “свадьбы-женитьбы”.
“Свадьба-женитьба” началась для него звонком Акопяна!
– Уймите Ермакова! – кричал Акопян в трубку. – Привез на завод плакат. Красный кумач, а на нем белыми буквами, как в день Первого мая: “Идею проката осуществили производственники. Позор на вечные времена кашеедам из НИИ!” Отмстим, говорит, Акопян, неразумным хазарам!
Когда Игорь Иванович добрался до завода панельных перегородок, затерянного среди новостроек, снимать плакат было поздно: у заводских ворот сгрудилось автомобилей, наверное, не меньше, чем у стадиона во время международного матча.
По глубокой колее промчался инякинский “ЗИЛ” мышиного цвета. Затормозив с ходу, он крутанулся волчком, ударился кабиной о сугроб, который ограждал завод высоким валом, как крепость.
К прибывшим выходил Ермаков, в пальто, накинутом на плечи. Он отвечал на поздравления, по своему обыкновению, шуткой и, вызвав улыбки, передавал гостей почтительно-корректному Акопяну. В тресте даже острили: Ермаков обратил Акопяна в прокатопоклонника.
Сам Ермаков оставался у входа, беседуя со знакомыми. Окликнув Игоря Ивановича, он обратил его внимание на любопытную подробность,
С утра приезжал помощник Хрущева, и с ним незнакомые Ермакову люди с военной выправкой. Они были в обычных ушанках, серых или темных, в скромных пальто. Затем прикатили руководители Горсовета – бобровые воротники, шапки повыше, попышнее. Позднее появились из Академии архитектуры и НИИ Главстроя – шалевые воротники, поповские шапки, папахи из мерлушки или кепки с верхом из кожи или меха (в тот год модники шили себе “рабочие” кепи).
Гости сменяли друг друга волнами. Каждая последующая волна выглядела все более нарядной. Зот Иванович Инякин прошествовал к стану боярином, в новой шубе из серого меха, в высокой шапке раструбом. Того и гляди, подумал Ермаков, загнусавит он из “Бориса Годунова”: “Ух, тяжело!.. дай дух переведу…”
Зот Иванович обошел стан вокруг, огляделся. Позвал Акопяна – для объяснений.
В цехе было тихо и чуть душновато, как в оранжерее.
Одна стена комнаты была готова. За ней ползла на ленте другая.
Инякин потрогал теплую еще стену, покосился на Акопяна. – Ну, ты и придумал, Ашот! Революция!
Ермаков стоял по одну сторону движущейся ленты, Акопян – по другую. Узкоплечий и тощий неимоверно, Акопян тем не менее чем-то напоминал Ермакова. Скорее всего порывистостью движений и коричневатым цветом не раз обожженных рук. Чудилось – изобретатель стана, утверждая идеи проката, npежде всего самоотверженно прокатал между обжимными валками стана, самого себя. Втянуло его под валки толстущим Ермаковым, а выкинуло на транспортерной ленте длинным, как рельс, Акопяном.
Зот Иванович улыбнулся своим мыслям и начал щумно представлять гостям своих талантливых подчиненных..
Акопян, в демисезонном пальто и фетровой, с порыжелой лентой шляпе, натянутой на оттопыренные уши, в окружении Зота Ивановича и его заместителей казался мелким служащим, который случайно удостоился улыбки подлинных творцов нынешнего успеха. Инякин потрепал Акопяна по плечу: “Ну, смотри, не зазнавайся!”. Игорь Иванович не выдержал, пробился к Акопяну, увел его на свежий воздух.








