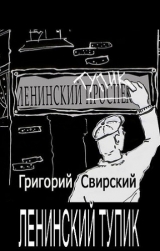
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Ермаков обрушился на Игоря, как обрушивался иной раз на прорабов, не помня себя, срывая накопившееся на сердце:
– – Нигилист! Еретик, так тебя растак! – Он встряхнул головой, как бы соображая, что он такое сказал, потом, вдруг торопливо выйдя из-за стола, положил руку на плечо Игоря. – Газетные витрины, боевые листки, лекции о Луне и Марсе, молоко на корпусах… Перелопатил? Перелопатил! За то тебе, Игорь Иванович, земной поклон. Ну, и… – Он сделал рукой движение по кругу: мол, продолжай в том же духе. И снова не сдержался, вскипел: – Твое дело петушиное! Пропел – и все. Утро началось. Главное, не опоздай с “ку-кареку”. Этого они не любят… Что? В армии на строгость, а у строителей на грубость не жалуются. – Он приложил свой обожженный кулак к груди. -Добрый мой совет, Игорь Иванович! не лезь не в свое дело. А то и у тебя кепочку сорвут. А то и твою ученую голову – этой практики у них навалом…. Ты, кажись, фолклорист… в прошлом? Так твое дело – песни. Слышишь вон, голосят? Вынимай свою тетрадочку, и карандашиком чик-чик…
Из-за окна доносился звенящий женский голос. Ермаков подошел к окну, выглянул в него. И то ли снизу заметили управляющего, то ли случайно так пришлось, но там подхватили в несколько голосов, с присвистом:
“Управляющий у нас
На рабочих лается,
Неужели же ему
Так и полагается?”
Ермаков грузно осел на скамью, стоявшую у стены. На этой скамье обычно ерзали прорабы, вызванные в кабинет управляющего. Не сразу прозвучал его голос, глуховатый, усталый и… оправдывающийся.
‘Игорь круто, всем корпусом, повернулся к нему. Ермаков, как говаривали-на стройке, не оправдывался еще никогда и ни перед кем.
– Прораб, Игорь Иванович, работает не восемь часов, а сколько влезет, – устало заговорил он. – Холодище. Грязь. Летом пыль, духота. А то в траншее, под дождем. Сапоги чавкают. Сверху сыплется земля. Как пехотный командир на позициях… Такие условия вырабатывают характер. Иногда ляпнешь…– Он встал со скамьи, морщась, видно раздосадованный и своими мыслями и своей виноватой интонацией; властно рубанул воздух рукой и заговорил снова горячо, – может быть, не только и не столько для Игоря, сколько для себя самого:
– Ты впечатлителен, как моя дочка Настенька. Петуху голову отрубят -она ночь спать не будет. И страхи твои петушиные. Пе-ту-ши-ные, слышишь?! Взбрело же такое в голову – паренек пришел на стройку по комсомольской путевке, вырос в тресте, а он сует его в деклассированные элементы. В босяки. – Ермаков отмахнулся рукой от возражений. – Шурка, повторяю, кадровик, гордость нашего треста. Ты психоанализ над собой производи, слышишь? Акоп-мизантроп не глупей тебя, у него эта самая “выводиловка” поперек горла стоит, а он от тебя, энтузиаста, скоро будет в крапиве хорониться… Повременщина родилась на свет божий раньше египетских пирамид. Ежели тебя добрый мОлодец, ничему не научил нынешний улов…
Игорь перебил Ермакова жестко:
– Госплан”, “Министерство”, Сергей Сергеевич, все это из сталинского прошлого, экономика. Сегодня вроде бы другая эра…
– Вроде бы… – саркастически повторил он– Скажу тебе напрямки, дорогой Иваныч – он же романтик-хиромантик, зело ты ученый, да, видать, сильно недоУченный. Ты мне нравишься, недоученный! По складу ума, ты, вижу, – народник. С сердцем. На всякую беду откликаешься. Лезешь во всякую дырку. И ему – ткнул большим пальцем за спину– своими глупостями не надоедаешь. Но ему все равно наврут в три короба. И о тебе, и обо мне: служба ГБ у нас налажена… Да и зависть качество не редкое… Хочу, чтоб тебе, энтузиасту, народному заступнику, не сломали шею. А ты к этому близок. Опасно близок. Уточнять не буду. Уточню, может, когда съем с тобой пуд соли. Но не сейчас.
Ермаков посчитал, что он съел с Тимофеем Ивановичем этот самый “пуд соли” лишь через год, когда судьба Игоря повисла на волоске, а точнее, романтик, без преувеличения, вернулся с того света, и даже бывший зек Акопян, человек верный и подозрительный, поверил, что Некрасов вовсе не “подосланный казачек”,
И вот в день обычной толкотни и ругани у касс, когда новые волны подсобниц снова пели с надрывом старую нюрину припевку “…не хватает на харчи” Игорь Некрасов, удрученный нищенской советской зарплатой, опять воскликнул что-то по поводу “дурацкой, предельно жестокой к нашим людям экономики”, тут Ермакова и прорвало:.
– Никакая это, Иваныч, , не экономика. Это, прости, заблуждение пролетарского дитяти, от которого, как и от всех нас, всю жизнь правду прятали, как от несмышленышей острые предметы… …Это чи-истая политика.
– Политика?!
– Политика, Игорь. Многолетняя… и – ой какая продуманная! Не слыхал о том?!
Нашей номеклатуре что перво-наперво надо. Что б жилось ей в безопасности и, пусть даже в голодной вымирающей стране – сытно.
Для этого им важно, прежде всего, что б у рабочего человека десятки до получки не хватало. Не хватало по-сто– ян-но! Метался, бедняга в запарке, где занять? Это политика или нет? Чтоб он, работяга, никогда и головы не поднял. А руки на власть, тем более…”
Игоря Ивановича это так ошеломило, что он даже неосторжно записал это в своем дневнике. Часто перечитывал и – не верил. ” О “верхушке” можно что угодно говорить но – не злодеи же они?!”
А год назад, когда Игорь был еще зеленым новичком, и они в кабинете управляющего стройкой “удили рыбу”, управляющий быстро ушел от опасного откровения. И когда Некрасов спросил тогда с утвердительной интонацией: – Не с Будапешта ли началась строительная паника? Ермак тут же подхватил дозволенную тему:
– Вы правы Игорь Иванович. Будапешт, где коммунистов, по рассказам Юрия Андропова вешали на фонарях,. на Старой площади вспоминают, как страшный сон. На долгие годы напугал Хруща продувной поп Андроп бежавший оттуда без штанов . С той поры все там и держится за штаны. Будапешт андропам весьма на руку! Понятно стало, романтик?
– Сергей Сергеевич, второе издание Будапешта нашей стране, по– моему, не грозит. Правда, одну лабораторию в Академии наук СССР, после нашей стрельбы в Будапеште шумевшую, “где наш прокламированный интернационализЬм?!” разогнали. Да в двух московских институтах студиозы покричали. Их быстро спровадили ненадолго в Мордовию, чтоб охладились. И все! В Москве к тому же, как всем нам известно, со времен революции стоит Первая Пролетарская дивизия…
– Ох, много ты понимаешь, ученый муж!.. И так, сворачиваем удочки, дорогой романтик. -Круто поднялся. Проводил Игоря до двери, закрывая за ним дверь, пробасил почти угрожающе:
– Вот что, дорогой “подкидыш” так тебя и этак. Жить хочешь?! Мое последнее слово – шерсть стриги, а шкуры не трогай.
8.
Но “шкура” по убеждению Игоря, уже ползла по всем швам.
Ныне слово за молодыми, понимал он.. За каменщиком Шуркой, в частности.
Правда, о первых судах над диссидентами до Университета слухи доходили. И с каждым годом таких судов было все больше: Лубянка, забрызганная кровью невиных людей по крышу, свое дело продолжала, как ни в чем не бывало…
. “Вы хотите раскачать стихию?!” -гневно бросит московской интеллигенции Микоян позднее.
Нет, не хотелось Игорю верить, что снова потащат людей в тюрьму за инакономыслие. Как при Сталине – за анекдот.
“Раскачать” страну – не дадут, а вот пропить – сколько угодно!
Веками существовала поговорка “Пьет, как сапожник”, “Ругается, как извозчик”. Однажды Игорь услышал из открытого окна всхлипывающий женский голос: “Детей бы постыдился! Пьет, как со стройки…”
‘Игорь был уязвлен до глубины души: “Входим в поговорку.”
Еще весной, когда Игоря пригласили в подвал “обмывать угол”, у него мелькнуло: бригадные праздненства и все эти традиционные “обмывы” надо переносить, и немедленно, из подвалов – к свету.
… Рабочий клуб со сплошными, в два этажа, окнами, выстроенный, по настояниям Игоря Некрасова, за месяц, несколько смахивал на гараж…. Потолки, правда, высокие, дворцовые, запахи острые, свежие, даже побелка еще не подсохла.
Ермаков запоздал, ворвался в клуб радостно-возбужденный, возгласив с порога: -А знаете, какая здесь акустика! -И гаркнул во всю силу легких:
Чумаков заметил удрученно:
– Заголосят “Шумел камыш” – слышно будет в ЦК – Акустика!.. Тоня б не опоздала, – беспокоился Игорь.
С горластой и суматошной Тоней нынче было связано многое Ей предстояло “солировать”. Появится кто сильно нетрезвый, встретить его такой частушкой, что б он в другой раз меру знал…
От корпусов спешили рабочие. Тоня Горчихина, в резиновых сапогах и со свертком под мышкой, мчалась с озорным присвистом впереди всех, разбрызгивая рыжую грязь. Так, наверное, девчонкой носилась по лужам
Игорь ждал ее у дверей, стараясь отрешиться от мыслей последних дней… Ну и деньки! Тихона вздернул. “Удили рыбу”.
В новом детище Игоря Некрасова “Строительной газете Заречья” наибольший успех имели стихи о теще и ее зятьях
В теще все узнали начальника конторы Чумакова. У него дочек – целая лесенка. Пока Чумаков видел в молодых каменщиках будущих зятьков, он “выводил” им одну зарплату. Как только пареньки начинали косить глазом на сторону – другую…
Александр Староверов был у Чумакова гостем желанным. Помогали Александру во всем. Шестой разряд дали…
И вдруг– Нюра с ребенком! Воистину как снег наголову! Чумаков пришел в ярость: “У меня чай пил, а на стороне брюхатил?!”
“Стала им теща зарплату выводить:
Микишке – тыщу,
Нихишке – тыщу,
А Шурке-набаловушку – пригоршню пятаков..,”
Когда Александру снизили зарплату, он в запальчивости обозвал Чумакова “кротом” (“Подкапываешься под меня, крот!”), и… пришлось ему перейти на “пригорышю пятаков”.
Силантий пробовал заступиться за своего ученика, потому-то и поспешил похвалиться его стеночкой… Когда пришла газета с заметкой об Александре Староверове-передовике, Чумаков разрешил Александру явиться с повинной. Попросить прощения хотя бы за “крота”. Александр не пришел…
Заступничество Силантия с той поры вело к последствиям прямо противоположным. “Бить, пока не отучим отбиваться!” – заявил Чумаков.
На подмостях говаривали: “Был Сашок за набаловушка, стал – пропащая головушка…”
В шуточных стихах прямо об этом не говорилось. Они лишь намекали.
Но и намек привел Чумакова в исступление.
Если бы не Тихон Инякин, он бы, наверное, сорвал страничку со стихотворением.
Тихон Инякин оттянул его за руку от “Строителя”, цедя сквозь зубы со злостью:
– Не тут роешь, Пров!
Пришла в клуб и принарядившаяся Огнежка. Александр нашел, неожиданно для самого себя, что-то общее между золотыми клипсами Огнежки, и шебутными, все цветов, нарядами Тоньки.
Каждая хочет чем-то выделиться. Тонька на постройке самая ободранная, а тут самая нарядная.
Только на одной девушке не было никаких украшений. Только одна она ничем не стремилась выделиться. Куда бы ни смотрел Александр, он все время видел ее кудерьки. Не закрученные дома гвоздем, а природные. Цвета воронова крыла.
– Крепенько вас… – шепнула ему Огнежка.
Александр не сразу понял, о чем речь, наконец до него стал доходить въедливый тенорок Инякина.
– .. Не хотелось омрачать праздник, но, сами видите, вовсе Староверов от рук отбился.
Почему Староверов от рук отбился? Связался с Некрасовым. С крановщиком. “Немой” нынче свое лицо раскрыл. Не удержись я за крюк, убился бы. Ну, с Некрасовым разговор особый… Староверов, значит, подпал под влияние…
Этот голос становился для Александра все более невыносимым, терзал барабанные перепонки. Он вскочил на ноги и, не успела Огнежка и рта раскрыть, пропал в полуоткрытой за его спиной двери; точно в люк провалился.
– Как бы Шура сейчас не надрался! – испуганно воскликнула Тоня. – Его Чушка так крестил-материл!
Всполошилась и Нюра.
Включили радиолу. Но ее вскоре прикрыли: фокстроты и вальсы танцевали только подсобницы, обхватив друг друга за шею.
Чумаков вскричал пронзительно: “Елецкого!” Старики каменщики поддержали его, кто-то сбегал за гармонью.
Послышался гортанный, еще не совсем уверенный, вполсилы, голос Тони:
“Эх, гармощка-горностайка,
Приди, милый, приласкай-ка…”
Вперед выскочил Тихон Инякин. Держась за Чумакова, начал подбрасывать вверх ноги в лакированных с трещинками ботинках.
За ним пустился еще кто-то из стариков, и вскоре началась, как ее здесь называют, “слоновья пляска”, когда танцуют все до одного – и стар и млад, зрителей нет. Веснушчатый парень из соседней бригады играет как может-все песни на один мотив.
Отбивает подошвами краснолицая, в широкой плисовой юбке тетка Ульяна. Голосит своим дребезжащим альтом:
– Большая, красивая – свеча неугасимая…– Прошлась мимо Инякина, раззадоривая его: – Горела, погасла – любила напрасно..,
Инякин отвернулся от Ульяны, пляшет – словно глину месит. На одном месте. Вокруг него медленно ходит, притопывая и по-гусиному вытягивая морщинистую шею, Чумаков. Подмаргивает своим красным глазом: “Добавим грамм по сто -двести…”…Пританцовывая машинально в такт “скрипуше”, Чумаков пятится к дверям, возле которых стоит в толпе девчат Тоня Горчихина. Он знает – Тонька хоть и без меры горласта, а девчонка безотказная, добрая. Если кому деньги нужны позарез, иди к Тоньке – всю Стройку обежит, одолжит и даст.
Но Тоня почему-то решительно отстранила скомканные в его потном кулаке деньги, и он сам нетвердыми шагами направился к двери,– под настороженное предупреждение Ульяны:
– Наклюкался!
Шура появился и, похоже, где-то хорошо выпил, чего за ним раньше не знали… Лицо точно кровью налито.
На него внимание не обратили.. Старики по-прежнему “отплясывали. Елецкого”. Простенькая мелодия вызывала в памяти первую сложенную своими руками дымящую печку, посиделки с деревенскими девчатами, запахи цветущих трав, ночное.
– Давай, девки! – весело кричали они, не замечая ни скованности и бледности Нюры, ни отчаяния Тони.
Как только кто-то из танцующих обратил внимание на необычо красное лицо Александра, Нюра тут же закружилась под гармошку, отбила дробь своими высокими, на железных подковках, чтобы сносу не было, каблуками. Тетка Ульяна, когда надеялась еще “завести Нюрку в оглобли”, кричала, бывало, на нее в сердцах: “Хочешь на железных подковках по жизни-то? Как блоха подкованная., Придет время – голыми пятками подрыгаешь!..”
Из-за плеча Нюры жарко дыхнули. Она скорее догадалась, чем увидела: Ульяна! На своем посту! Сейчас она, наверное, сгребет Шуру за грудь, ей помогут… Круто, на одном каблуке, повернулась Нюра к гармонисту, скользнула взглядом по его резиновым сапогам со стоптанными, отклеившимися задниками, завела высоким и необычно напряженным голосом, в котором звучали и страх, и решимость, и озорство:
Где ты, милый, пропил, где ты
Свои, новеньки щиблеты?.. .
Зал, притихший, обеспокоенный, грохнул хохотом.
У гармониста от неожиданности подогнулись колени. Взмахнув руками, он бросился к дверям.
Александр по-прежнему стоял посреди фойе. Неподвижные, с горячим блеском глаза его были пугающе трезвы.
У Нюры оставалось про запас еще много припевок, куда более едких, насмешливых, но… будто связали ее по рукам и ногам. Она беззвучно шевелила губами, чувствуя, что не может выдавить из себя ни звука, и страшилась этого. Не в силах поднять глаза, она уставилась на его полуботинки с сиявшими мысами. Черные полуботинки на желтоватом глянце паркета… Они подступали все ближе, ближе.
Александр прошел мимо Нюры, к девчатам, которые, казалось, томительно ждали кого-то, прислонясь спинами к стенам. Стены расцветали всеми цветами радуги– синим, зеленым, красным. Каких только платьев не надели подсобницы к долгожданному торжеству!
Александр остановился, не дойдя до девчат. Закричал так, словно его опрокидывали на пол:
– Некрасову-то… Некрасову подстроили пакость.Чума приходил на подмости, смеялся при ремесленниках “Тихон, гляньте-ка, ребята, как разоспался -краном не подымешь…” Подзуживал ремесленников. Чума все подстроил, чтоб его… – Уши резанула матерная брань..
Несколько человек бросились к Александру, угрожающе потрясая руками; кто-то толкнул Александра в плечо.. Он упал на колени, поднялся, держась рукой за щеку, принялся уличать Чумакова в обсчетах.
Все понемнегу затихли, лишь гармошка забесновалась, пытаясь заглушить его голос, да Ульяна будто с цепи сорвалась, притопнула ботинком и пошла-пошла вдоль стоявших спинами к ней мужчин.
.-.Большая, красивая,свеча неугасимая…
На нее оглянулись с недоумением и досадой. Кто-то цыкнул: “Ти-ха!” Каменщики один за другим отворачивались от Ульяны, подаваясь всем телом вперед, чтобы лучше расслышать голос Александра…
Тихон Инякин, оттянув рукав своего пиджака до локтя, занес над Александром руку, но не ударил – потряс кулаком, вскричал на весь клуб: – Не хотел Силантия слушать – чужого дядю послушаешь! Будет учить – морду бить, будешь спасибо говорить…
Александр– умолк на полуслове, приоткрыв пухлые губы. Невидящими глазами взглянул куда-то поверх голов и, налетая грудью на людей, опрокинув у входа стул, бросился к двери.
.. .Он пришел в себя лишь на самой верхней площадке недостроенного корпуса. Навалился на доски, прибитые вместо перил, неоструганные, колкие, пахнущие сосной, терся о них щекой. Потом, придерживаясь за липкие, от выдавленного кирпичами раствора, пахнущие сыростью стены, выбрался на ветер, осенний, пронизывающий. Ветер рванул фуражку с головы, фуражка стукнулсь, видню, козырьком обо что-то, пропала в чернильной тьме. Александр” поскользнулся на комке глины, обо что-то ударился, шагнул – к самому краю настила, за фуражкой…
Внизу его искали, окликали два женских голоса– Тонин, гортанный и высокий, пронзительно тоненький…
Тоня выскочила на улицу. И в тот вечер больше не вернулась в клуб. Глядела в леденящую тьму . “А что, взять половинку кирпича да в Инякина… Или в Чуму позорную? И пусть! Она откроется Сашку! Из-за Чумы, бандюги и вора все это. А на суде все всплывет. . Как Некрасову подстроили. Как СашкА изводят. Там концы в воду не схоронишь”.
Тоня нашарила на мерзлой земле обломок кирпича.
“Не будет суда – Сашку не жить…”
В сырой ночи разноголосица слышалась точно под ухом, девчата, расходясь из клуба, окликали друг друга.
Лампочка на столбе, под белым абажуром, раскачивалась все сильнее. Тоня зябла. Неконец, скользнул черной тенью Чумаков, горбясь и надевая на голову кепку, Тоня рванулась к нему. Рука, казалось, сама, помимо ее воли, выпустила на землю кирпич. Тоня настигла Чумакова, забежала-вперед, чтоб видел, кто это его, и размахнулась. Кулак был шероховатый, твердый, как кувалда, – кулак такелажницы.
9.
Вездеход Ермакова мчался по стройке, почти не выключая сирены. Вывалясь из дверцы машины, Ермаков наткнулся на Чумакова. Чумаков, вызвавший Ермакова, объяснял длинно, сбивчиво:
– Я иду, понимаешь… Кто-то шаркает подошвами, перегоняет. Ухо ровно обожгло.
– Чье ухо? – не вытерпел Ермаков, который больше всего опасался, что ударили кого-нибудь чужого, не из их треста.
Чумаков дотронулся до своего налившегося кровью уха.
Ермаков вытащил из кармана расстегнутого, на меху, пальто носовой платок, вытер лоб, не скрывая облегчения. . Он распорядился привести драчуна, запертого Чумаковым в одной из комнат. Узнал Тоню, показал ей рукой на дверцу:
– В машину!
Чумаков спросил мрачновато, что сказать, когда приедет милиция. Ермаков даже не оглянулся, в его сторону. Чумаков замедлил шаг: Ермакову под горячую руку лучше не попадаться, Садясь в машину, Ермаков прорычал в темноту:
– Скажешь, тебя посещают привидения.
Когда вездеход выбрался на шоссе и Тоню перестало перекидывать на заднем сиденье из стороны в сторону, Ермаков обернулся.
– Завтра! В девять ноль-ноль! Быть у меня! – Вездеход притормозил возле остановки.– Выходи!
Тоня забилась в угол. Желтоватые полосы из трамвайных окон скользили по ее омертвелому лицу.
– Тебя что, красавица, паралик разбил? -Ермаков приоткрыл дверцу, в машине зажегся свет, – Ну?! За решетку захотела?!
Тоня, простоволосая, растерзанная, прокричала чуть не плача:
– Нечего со мной, бандиткой, разговаривать! Везите в отделение! Составляйте протокол.
Ермаков оторопело взглянул на нее, пересел на заднее сиденье, оставив дверцу приоткрытой, спросил с тревогой, которую не мог скрыть даже шутливый тон: – Ну, хорошо, допустим, ей, Тоне, не терпится попасть за решетку, у нее там любовное свидание, но зачем она на своих накидывается? Ударила б кого на стороне. Постового, например. Для верности.
У Тони вырвалось:
– Что я, бандитка, что ли, на невинных кидаться?!
– Та-ак! В чем же, к примеру, моя вина? – Он уставился на широкое, плоское, почти монгольское c приплюснутым точно от удара носом, разбойничье и, вместе с тем , миловидное лицо, с родинкой на пухлой щеке, из которой рос нежным, белым колечком, волосок. Лицо Тони словно горело. Пылало, он не тотчас понял это, самоотречением и той внутренней исступленной верой в свою правду, с которой раскольники сжигали себя в скитах. – Жить тебе невмоготу на стройке, так что ли?
– Да что там мне?! Са-ашку! Чума одолел. Герои поддельные!
В трест позвонили из милиции. Ермаков был уверен, спрашивают
Тоню, но разыскивали почему-то Александра Староверова. Его ие оказалось ни в общежитии, ни в прорабских. Он явился сам. В кабинет управляющего. За полночь. Спросил, где Тоня. Оказалось, он слышал ее крик, когда Чумаков возле клуба выкручивал ей руки.
” Не “подкидыш” ли, агнец невинный, и Шурку, и Тоню растревожил, подзудил? Знаем мы эти стихийные манифестации! Побоища на Новгородском вече и те, говорят, загодя планировались…”,
Успокоив Александра, Ермаков запер его в своем кабинете: До утра. Чтоб милиции не попался на глаза.
Утром он приехал в трест на час раньше. Александр спал на кожаном диване, свернувшись клубком. Губы распустил. Ладонь под щекой. Мальчишка мальчишкой.
Шофер Ермакова, пожилой, многодетный, в потертой на локтях ермаковской куртке из желтой кожи, которая доходила ему до колен, расталкивал
Александра, наставляя его вполголоса:
– Говори: “Ничего не помню, потому как выпивши был”.
Ермаков распахнул настежь окно, показал Александру на кресло у стола.
Тот застегнул на все пуговицы свой старенький грязноватый ватник, поеживаясь от сырого осеннего воздуха, хлынувшего в комнату. Оглядел кабинет. Мальчишечьи губы его поджались зло: похоже, ему вспомнилось не только вчерашнее, но и то, как он сидел некогда в этом же кресле и, робея и пряча под столом сбитые кирпичом руки, спрашивал Ермакова, правы ли каменщики, прозвавшие его фантазером. Неужели нельзя начинать стройки с прокладки улиц? Вначале трубы тянуть, дороги; если надо, и трамвай подводить…
Ермаков начал шутливо. Как и тогда. И почти теми же словами: – Опять, Шурик, свои фонари-фонарики развесил?
… Александр вцепился в подлокотники кресла, выдавил из себя: – Нам с Некрасовым тут не жить. Рассчитывайте. Поеду… куда глаза глядят.
Ермаков вышел из-за стола, присел в кресле напротив Александра, как всегда, когда пытался вызвать человека на откровенный разговор.
В это время в дверь постучали. Секретарша доложила: пришли из милиции.
– Говорят, по срочному делу!
Ермаков попросил Александра подождать в приемной. Перебил самого себя:
– Впрочем, нет!.. Вначале мы сами разберемся что к чему… – Он отвел Александра в боковую крохотную комнатушку, где стоял обеденный стол и лежали гантели (комнатушка пышно величалась комнатой отдыха управляющего). – Повозись с гантелями. Хорошо сны стряхивает. Когда понадобишься, кликну.
В кабинет вошел болезнено худой, желтолицый юноша с погонами сержанта милиции; в руках он держал тоненькую папку с развязанными тесемками. Он не то улыбнулся Ермакову, своему недавнему знакомому, не то просто шевельнулись его худые, плоские, точно отесанные плотницким рубанком желтые щеки..
– Опять нашествие хана Батыя на трест? – мрачновато произнес Ермаков, протягивая руку. – Садитесь.
Сержант был следователем отделения милиции, которое два месяца назад разместилось в одном из новых корпусов. Он спросил, был ли вчера Ермаков в клубе.
– Ну? – хмуро пробасил Ермаков, давая понять юноше, что они находятся не в кабинете следователя.
“Хан Батый” улыбнулся, отчего его желтоватое лицо вдруг растянулось вширь, казалось; чуть ли не вдвое, положил на стол папку, на которой была наклейка с надписью черной тушью “начато” и сегодняшняя дата. Он рассказывал, глядя куда-то в окно и время от времени бросая на Ермакова испытующий взгляд:
– Вчера милицейский наряд, вызванный Инякиным в клуб, обнаружил дверь на запоре. Между тем, вечером в клубе, как удалось выяснить, произошло событие, проливающее свет…
Обстоятельность, с которой он перечислял все сказанное Староверовым, неприятно удивила Ермакова: “Тебя еще тут не хватало!..”
Он то и дело срывался, – этот двадцатилетний следователь, с официального тона, завершая свои сухие, точно из протокола, полуфразы почти веселым присловьем “худо-бедно”:
– Провоцирование беспорядков… Хулиганство… Клевета на строй . Избиение руководителя-орденоносца….за такое– худо-бедно!– от ДВУХ ДО ПЯТИ лет, – Он потеребил тесемки на папке…. Если, конечно, нет преступного сговора. Коллективки…
“Тощ Батый, ни жиринки, в чем душа держится, ему бы для поправки пирожка куснуть, а не человечины…”
Ермаков посасывал с невозмутимым хладнокровием папиросу. Когда спустя четверть часа следователь спросил его, куда мог пропасть Староверов, он прогудел нетерпеливо:
– В тресте две с половиной тысячи рабочих. – Ермаков встал со стула и, подхватив следователя под руку, чтоб не обиделся (не стоит с милицией ссориться…), повел его к двери, приговаривая: – Вот что, друг любезный. У меня сегодня нет времени на талды-балды. Зайди, если хочешь, вечером, я пошлю за бутылкой шампанского или… ты что пьешь?
Следователь надел форменную фуражку с синим околышем, чуть-чуть сдвинул ее на бровь, проверил положение лакированного козырька. Вытягивая руки по швам и становясь подчеркнуто официальным, он сказал сдержанно, с достоинством, что он не пьет и что он просит, как только станет известно о местонахождении Староверова.
Ермаков приложил свою разлапистую ладонь к груди: мол, примите и прочее.
В дверь постучали, сильно, требовательно. Ермаков не успел ответить, как в кабинет начали один за другим входить, – точнее, даже не входить, а вваливаться подталкиваемые задними, каменщики и подсобницы в брезентовых куртках и накидках. У кого-то белел на плечах кусок клеенки. С фуражек и плеч на пол стекала вода,
Вскоре весь угол кабинета словно из брандспойта освежили.
Ермаков оглядел нахмуренные лица. Бригада Силантия..,
– Что случилось? – спросил он, посерьезнев.
Ответили разом, гневно:
– Почему выгнали Некрасова? Шура еще мало сказал, надо бы крепче… Куда его задевали?! Правда, значица, глаза колет?
Ермаков зажал уши руками, стоял так несколько секунд, морщась от крика.
– Говорите по одному!
Милицейская фуражка выделялась в толпе, казалось Ермакову, как синяя клякса. Не будь ее, он дал бы каменщикам выкричаться, надерзить вдоволь, а затем открыл бы боковую дверь и торжественно передал Александра с рук на руки. Взглянуть бы тогда на лица крикунов!
Но напористый следователь так и не ушел, и потому, резким движением подтянув к краю стола телефон, Ермаков зарычал в трубку: – Чумакова!
Чумакова в конторе не оказалось. Бросив трубку на рычаг, Ермаков сказал успокаивающим и, насколько мог, бодрым тонок, что все это недоразумение. Козни враждебной Антанты, или – бросил взгляд на юного следователя – нашей родной милиции… Никто Некрасова не выгонял. И мысли такой не было! Со вчерашнего дня Некрасов – один из руководителей треста Мосстрой-3…
Заметив недоверчивые глаза Тони, и чуть поодаль насмешливые – Гущи, добавил : – Игорь Иванович мой советник по… политике, в которой вы, дорогие, ни уха, ни рыла. Потому и прислан лично Никитой Сергеевичем, чтоб вы не одичали окончательно.. – Снова не верится? Да разве ж можно вас оставить без хрущевского глаза?! Особливо Тонечку или Гущу.
Кто-то хохотнул, от дверей подтвердили: Тут он, Некрасов, в тресте…
– А Шурка ваш на постройке, – сказал Ермаков.– Вернетесь туда – он опустится с неба, как кузнец Вакула, который летал во дворец императрицы за черевичками. Не ясно только, кому черевички? Кто его любовь?
Ермаков давно знал; нет лучше громоотвода, чем веселое слово, шутка. Он показал рукой на кусок белой, блестевшей от дождя клеенки на плечах Нюры и спросил у Ивана Гущи – Королевскую мантию что ж с нее не сняли?
Минуту или две в кабинете стоял негромкий, прерывистый хохоток. Еше на нерве, но уже веселее.
– Ка-аралевскую мантию!.. Ха-ха!..
Ермаков досадовал на Чумакова, у которого все последнее время нелады с рабочими. “Это не первый случай!” Ермаков никогда не сомневался: хоть Чумаков и числился начальником строительной конторы, мыслил он как бригадир, от силы – десятник. Вчерашний каменщик, он более других начальников контор думал о том, сколько и кому надо заработать Давая задание, он прежде всего прикидывал, а заработает ли такой-то на этом? И сколько? Поэтому – то у него на постройке всегда грязно – малооплачиваемый труд со дня на день откладывался. И у него, Чумакова, более всего недовольства?
Ермаков взглянул на часы и воскликнул тоном самым безмятежным:
– Э! До конца обеденного перерыва десять минут! Нечего разводить талды-балды!.
Дверь кабинета приоткрылась, толкнув кого-то в спину. Рабочие оглянулись. В кабинет просунулась белая голова Тихона Инякина. Задыхаясь, – видно, всю дорогу бежал,-Тихон возгласил своим тонким голосом:. – Староверов нашелся! На постройке он!
– Ну вот, видите! – воскликнул Ермаков с облегчением “Незаменимый человек Иняка!” К Тихону Инякину потянулись со всех сторон:
– Кто видел? Когда?
Тихон, как выяснилось позднее, поднялся на корпус, где работала бригада Силантия; кто-то сообщил ему: “Пошли разносить Ермакова”. “Иняка” помчался следом – сдержать страсти.
Его затянули за руку в кабинет. -.Сам видел? Не ври только, завитушечник!
Тихон Инякин замялся, пробурчал, комкая в руке свою финскую шапку, что не он сам. Другие видели.
Возле окна началось какое-то движение. К Инякину проталкивался Силантий, хмурый, ссутулившийся, в коротких валенцах, на которых были надеты самодельные, из красной резины, галоши. Силантий подступал к Тихону, тыча перед собой чугунным, с острыми мослами кулаком:
– Ах ты… лжа профсоюзная! Иль ты не знал, что Некрасов в тот же вечер вслепую работал? В дождь. В туман… не виноват он ни в чем… Шура правду сказал – за всех! – Первый раз врезал правду, в глаза, и тут же им, значит, милиция интересуется?… А надо бы, к примеру, поинтересоваться, почему Шуру мытарят. … С каких пор! То премии лишат. То выведут, как за простой. То в холодную воду опустят его, то в горячую. Нынче он за набаловушка, завтрева – пропащая головушка… – Он повернулся к Ермакову:-Ты, Ермак, зачем эту лжу привечаешь?








