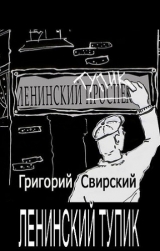
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Тетка Ульяна отсела подальше от коменданта, который толкал ее. под бок, и воскликнула с обидой в голосе:
– Он, паскуда, нам на шею семью бросил, а мы расхлебывай! Жена у его в Кашире при деле. Продавщица. Дети при ей, в школу ходят… А говоришь – дети в забросе!
Комендант, когда Акопян спросил его мнене, поерзал на скамье, но кривить душой не стал:
– Для нас, товарищ Акопян, слишком начетисто. Из-за одного никудышника еще пять душ.
Акопян повернулся всем корпусом к Александру и его соседке: .
– Ваше решающее слово, бригадиры!
Из-за плеча Александра протянулась худая рука Матрийки с желтыми подушечкам-мозолями.
– В правительстве разве знали, что он такой,– мне, мол, давайте поболе, – Матрийка потерла обожженный известью палец о палец, – а я вам вот, – пальцы ее сложились в фигу.
Александра охватило чувство стыда. В канцеляриях, откуда все эти бумаги пришли, плотника и в глаза не видели. Но он-то, бригадир, видывал! Сам поймал его с краденой фанерой и выгнал из бригады взашей. Почему же сейчас он поверил не себе, а этим бумагам с грифами?.. Нет, не поверил, конечно, – сробел перед бумагой: мол, верх за нею…
Александр набрал полную грудь воздуха, точно собирался нырять.
– Из-за того, что он пишет во все инстанции” никаких уступок не делать! – И вот еще что, – добавил Александр, когда Акопян стирал на широченном, как простыня, листе следы своего красного карандаша. – Надо его вызвать на постройком, сказать: “Не мучай семью. Уезжай к ней. Создавай новую жизнь. И не писаниной, а честным трудом”.
На следующей папке было начертано наискось: “Гуща”. Папка оказалась еще; более пухлой, чем первая. И здесь добрую половину ее занимали письма на имя Председателя Совета Министров, руководителей Госстроя, депутатов.
Тетка Ульяна всплеснула руками: “И Гуща шлендал повсюду! Горлопанил!” Она притихла, когда Акопян зачитал заявление Гущи и письма. Дом Гущи разбомбило. С той поры он ютился в дощатом сарае, в котором ранее помещалась и общая, во дворе, уборная. Яму уборной он засыпал. Стену обшил листами сухой штукатурки. Сложил плиту. Но все равно зимой на полу без валенок не выстоишь. Дети заболели ревматизмом.
Акопян взглянул на коменданта с неприязнью:
– Неужели места в общежитии не нашлось?! Почему довели работящего человека до того, что он стал писать во все концы?
Комендант пожал узкими плечами, как бы удивляясь наивности Акопяна.
– Общежитие ему ни к чему, товарищ Акопян. Он и заявления не подавал. Дадут общежитие – оттуда не скоро вылезешь, а сарай на дерьме – дело верное.
Силантий, тугодум, встрепенулся лишь тoгда, когда Акопян взялся за красный карандаш. – Хитер Гуща, – прозвучал его хрипящий голос.
– Детей в теплый угол не захотел.. – Силантий и раньше знал об этом, не одобрял Гущу. Но раньше-то Гуще, как говорится, бог был судья, а теперь он, Силантий. – Гуща, видать, бабе своей поддался, безмозглице. На себе рубаху рвал. Раны миру показывал. – Силантий хлопнул ладонью по скамье. – А вот дать ему за хитрованство похужее! Ты какой этаж написал? Третий? Под самые стропила его! На голубятню!..
Едва успокоили расходившегося старика.
Затем белыми лепестками “посыпались на стол заявления в две строки да при них брачные свидетельства. Папки тоненькие, веселые, на многих листках в графе “члены семьи” запись ” + 1” (и тут же справка о беременности). В папке каменщика Аксенова, одинокого, тоже вдруг обнаружили пометку ” + 1”.
– И этот на сносях?! -загрохотала тетка Ульяна. Скамейка под ней заходила ходуном.
Оказалось, отец-одиночка. После недолгих прений приравняли его к матерям-одиночкам и выделили комнату-светлицу с балконом, чтоб было куда выкатывать коляску. .
В тоненькой папке Староверовых не оказалось справки из закса.
Александр потупился, объяснил, что они с Нюрой не расписаны. Оба Староверовы. Однодеревенцы…
Тетка Ульяна посоветовала, лукаво сверкнув глазами! дать им две маленькие комнатушки в разных подъездах. Чтоб не повадно было.
Силантий долго тряс своей жиденькой, свалявшейся надо лбом седой челкой.
– Хитер! Выделить ему на голубятне. Без балкона.
– Завтра распишемся! – взмолился Александр, – Я же не со зла…
Брачного свидетельства недоставало не только в папке Староверовых. Дверь постройкома то и дело открывалась, и запыхавшиеся молодые люди протягивали свеженькие документы, с радостью внимая голосам членов комиссии:
– Это другой разговор!
– Другие метры!
Акопян назвал фамилию Чумакова. Благодушное настроение как рукой сняло.
Папка Чумакова оказалась самой тоненькой и самой неожиданной.
Неожиданным был прежде всего адрес Чумакова: “Дебаркадер No 8”.
Как?! Наш единственный орденоносец, и на воде живет?! – воскликнул Александр. В его возгласе слышались и изумление и откровенное недоверие.
Контора под началом Чумакова возводит в год до двадцати восьмиэтажных домов. Полторы тысячи квартир. И Чумакову не отыскалось места на земле? На воде поселился?
– Тут что-то не так!– убежденно произнес Александр. – Чтоб такой всемирно прославленный жох, проныра, доставала, как наш начальник..-..
Тетка Ульяна вскинулась в гневе:
– Молод ты еще начальство свое чихвостить! Молоко на губах не обсохло.
Комендант двигал локтем, как маховиком, но тетка Ульяна в своих бесчисленных одежках была непробиваема. Утерев концом кашемирового платка уголки губ, она повела неторопливый рассказ, причмокивая и озирая членов комиссии сдержанным достоинством, как бы прощая их за то, что они, беспонятливые, не сразу определили, что значит для ихних забот тетка Ульяна.
– В его квартире, на набережной, дочеря живут незамужние. Трое. Вот он и оказался на воде.
– Выжили его, значит…– в голосе Силантия слышалось сочувствие.
– Какое! – Ульяна, как .всегда, пояснила обстоятельно: – Старшая, к примеру, Наталья. В девках осталась. Через отца. Она просилась в медицинский институт. Он ее не пустил: не девичье, говорит, дело с голыми мужиками “шу-шу-шу” и “вздохните глубже”. Ввязла она по отцовой воле в машинное дело и… без мужика сохнет, Чумаков локти кусает. Была бы, говорит, врачихой, отыскался бы мужичонка. Хоть бы хворый. А при машине отыщи-ка, мертвая материя. Младшенькой он не препятствовал, даже когда ее в акробатки совращали, хоть с тех пор седеть начал.
– Тетка Ульяна снова утерла уголком платка края губ. Акопян нетерпеливо застучал карандашом по столу:
– Ближе к делу, уважаемая!
– Куда уж ближе! Оставил он дочерям квартиру: при комнатах все легче мужика заарканить… А сам – на воду. Жена Чумакова работала на табеле. В порту. Выхлопотала себе комнатушку на дебанкадере, возле моста. Меня как-то посылали туда. За Чумаковым. В комнатке сырость. Над оконцем плесень с кулак. Как он, сердешный, чахотку не схватил…
– Жизня! – отозвался Силантий. Он уважал Чумакова за то, что тот умел раздобыть в один час кирпича на два дома, а для самого себя и шиферу, когда крыша на дебаркадере прохудилась, не попросил. – Дочерям отдал, а сам на воде -лодке, как китаец….
– Запишите ему самую хорошую комнату! – сдавленным от волнения голосом произнесла Матрийка, и все вдруг притихли, вспомнив, что и Матрийка, хоть и мордва, а лучший на стройке бригадир, осталась вековухой.
Игорь Иванович, который во время рассказа тетки Ульяны, вошел в комнату, потянул к себе папку Чумакова, полистал справки. Все правильно. “Дебаркадер No 8”. Он, Игорь, мог дать голову на отсечение, что Чумаков и Тихон Инякин – два сапога пара… Хапуны. И вот тебе! “Сердешный…”
Впервые за много лет упоминание о Чумакове не вызвало раздражения Игоря Ивановича. Он почувствовал себя веселее, легче, словно бы тащил долго какую-то тяжесть и наконец скинул.
– Дайте ему окнами на юг, – сказал он усмешливо, – чтобы обсох скорее.
Два листочка списка склеились. Если бы Александр не заметил этого, Акопян, может, перевернул бы их вместе. Первой на разлипленных страницах значилась фамилия Тони.
– “… .На стройке с тысяча девятьсот сорок девятого года… одинокая… детей нет…” – монотонным голосом читал Акопян.
Александр сказал, что Тоне нужно выделить комнату на двоих. У Тони мать, дряхлая старушка. При сельской больнице живет, в которой до войны работала няней. Сейчас старушку потеснили куда-то в каптерку без окон. Дровец и тех заготовить ей некому .
– Мы не можем документировать мать, – решительно возразил комендант, но, взглянув на потемневшее лицо Акопяна, добавил тоскливо: – Придется писать объяснение. Доказывать.
– И докажем! – твердо сказал Александр. На то нас избрали,
Акопян оторвал руку с карандашом от бумаг, точно обжегся:
– Э-э, товарищи! Производственная характеристика ее хуже, чем у того плотника.
Александр махнул рукой: – Это Чумаков в дурную минуту… Вызвать его. Сейчас– ему совестно станет.
Позвонили Чумакову, а пока приступили к другим папкам, лежавшим на столе ворохами.
Чумаков прикатил тут же. Поняв, зачем его вызвали, он удивленно воскликнул:
– Тоньке… комнату?! -и, откидывая на плечи капюшон брезентового плаща (в таких на стройке спускаются в канализационные люки), добавил: -Ей не комнату, камеру-одиночку… – Чумаков взял из папки трудовую книжку Тони в серой измятой обложке, полистал ее небрежно, одним пальцем. – Комнату – ни в коем разе! Хотя бы потому, что нет у Горчихиной стажа. Сами видите: отработала в тресте без году неделя. Уволена в ноябре тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Убежала… куда убежала?.. Пожалуйста, вот: штамп. На Кавказ.
– В теплые края,– осклабился комендант.
– … Бегала она, бегала и вернулась в наш трест. Когда? Вот круглый штамп. Январь тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Стаж прежний ей можно считать? Hи в коем разе! Значит, она в тресте пять лет непрерывно, как того требуется для получения комнаты, не отработала.
Акопян взял у Чумакова книжку, полистал ее, повертел в руках, разглядывая печати. Наконец сказал удовлетворенно:
– Путаете вы, Чумаков! У нее весь перерыв-то два месяца. Эти два месяца, кстати говоря, она не на пляже лежала, а клала стены санатория “Москва”. К тому же стройуправление, в котором она трудилась, кажется, влилось в систему ГлавМосстстроя.
– Не влилось!
– Давайте позвоним Ермакову…
– Мне звонить нечего! Вы позвоните.
– И позвоню.
– А я уточню кое-где…..
Тягуче заскрипела под теткой Ульяной лавка. Чем громче становился Чумаковский голос, тем сильнее она скрипела и вскоре уже потрескивала сухо, подобно дереву, которое вот-вот вырвет из земли с корнем. В углу вскипел яростный шепоток коменданта:
– Помолчи!
– Не могу, ей-богу, терпеть..,
– Помолчи!
– Не могу.
– Помо…
Шепоток коменданта смяло рокочущим голосом тетки Ульяны:
– Ты за что ж, Пров Алексеич, ее так, Тоню?! Зло на нее держишь за что?
Чумаков взглянул на тетку Ульяну через плечо, бросил отрывисто, почему-то дотрагиваясь пальцем до уха:
– Никакого я зла на нее не держу! Она тормозная, любое дело тормозит. – Не совестно вам, Пров Алексеевич?! – воскликнул Александр, но Чумаков, как и когда-то, на конфликтной комиссии, отмахнулся от него. Снова взял в руки трудовую книжку Тони, принялся листать ее.
Голос тетки Ульяны прозвучал уж гуще, грубее:
– И что разрыскался? Что разрыскался?! Ты не к бумажкам приникай. К сердцу. Тоня -девка сердечная, работящая.
– Все у тебя, тетка Ульяна, сердечные,
Чумакови повернулся к ней на каблуках, оставляя на полу следы глины:
– Вот что, Ульяна. Тебя пригласили не на инякинскую комиссию. Ты веди себя как положено. В рамках…
– Не на инякинскую?! – вскинулась Ульяна.-Вот ты каков…
Не отвечая на гневные возгласы тетки Ульяны (негоже начальнику конторы вцепляться в волосья дворничихе), он попытался, подражая Ермакову, завершить дело шуткой:
– Ох и широки же у тебя рамки, Ульяна Анисимовна! Да и сама ты, смотрю, расползлась вширь, хоть опалубку делай.
Тетка Ульяна подалась всем своим могучим телом вперед, точно собираясь кинуться на Чумакова:
– Помру – тогда будешь опалубку делать, пройда! Из тесин, которые у тебя повсюду пораскиданы. А пока жива… Ты, вижу, и Тихону готов уж опалубку сотворить, и Тоньке. И осиновый кол на могилку!.. Никто тебя, водяного, не боится!
Полемический пыл тетки Ульяны доставлял Акопяну истинное наслаждение, и все же он вынужден был вмешаться, утихомирить ее.
Чумаков ждал тишины, поглядывая на окно. По стеклам звенели градины. Он произнес неторопливым голосом, в котором угадывалось превосходство игрока, припасшего козырного туза:
– За промытыми стеклами работаете, товарищи комиссия. Каждое ваше движение как на ладони. И документик этот, – он потряс трудовой книжкой Тони. – Здесь черным по белому… разрыв стажа в два с лишним месяца. Значит, она в тресте непрерывно лишь с пятьдесят четвертого. Таких у нас легион… Дадите ей -завтра комиссию в клочья разорвут.
Александр слушал Чумакова молча, опустив глаза к полу; ему было совестно за него, словно бы он поймал управляющего конторой, как того плотника с краденой фанерой. Только тут не выдержал:
– У страха глаза велики, Пров Алексеевич!
Чумаков натянул на голову брезентовый капюшон. У двери оглянулся:
– Я бы, Шурка, на твоем месте и не чирикнул. Или забыл, что Тонька комнаты нынче лишается через тебя? .. Что уставился?
Он хотел уйти, но в стекла точно рукой застучали. Дождь припустил сильнее. Чумаков вернулся.
– Дело прошлое, но почему, скажи, она рванулась из треста куда глаза глядят? Нюра к тебе пожаловала с приплодом…
Александр вскочил на ноги:
– Неправда! Тоня не из-за Нюры удрала, из-за вас!
Чумакова трудненько было чем-либо удивить или оскорбить. Из года в год он вырабатывал в себе бесчувствие к глухой неприязни, окружавшей его.. На любое слово у Чумакова всегда отыскивалась пригоршня словечек похлестче. Но и бранясь он оставался неизменно спокойным. Монтеры окрестили его “экранированным”.
Однако восклицание Александра заставило его приподнять свои бесцветные брови. Когда Александр повторил в запальчивости: “Из-за вас! И докажу!” – Чумаков попросил насмешливо, в нарочитом испуге, позволения присесть. “Сейчас Шурка докажет по трудовой книжке, по штемпелям, что не он, а я с Тонькой на подмостях обнимался, и готово, ингфарк у меня..,”
Александр и в самом деле потянулся к трудовой книжке Тони. Чумаков устроился на стуле, принесенном откуда-то комендантом. Почему не потешиться над Шуркой? К тому же спешить было некуда, в стекла по-прежнему било как из брандспойта.
Силантий обернулся к Александру, пожевал в нетерпении губами. Не ударил бы Шурка в грязь лицом! . Редкие, по обязанности, выступления Староверова на торжественных собраниях, он называл “макаронинами италианскими” (“Жует, как макаронину италианскую”).
И вдруг… Будто это и не Шурка вовсе, а – судейский какой… Что ни фраза, тут же официальная бумага, документ: печать в трудовой книжке, запись в наряде, даже к свидетелям обратился, благо они под руками…Бегство Тони со стройки не совпадало по времени с приездом Нюры более чем на полгода;
Александр поднес Чумакову трудовые книжки Нюры и Тони, показал пальцем на печати.
– Появление Нюры – об этом тут же вспомнили – подействовало на Тоню по другому. До этого только и слышалось на подмостях: “Тонька, не дреми, тетеха!”, “Куда поставила кирпич, раззява!” А тут сразу стало веселее каменщикам от Тониных “куды-куды!” и “алло-алло!”. Заблаговолило к ним небо. Аккурат минута в минуту спускалась оттуда бадья с раствором и, главное, точно, куда надо. Без задержки убиралась тара. Кому требовалась помощь, Тоня тут как тут.
– Спасалась она в работе, – сказал Александр с виноватой улыбкой, – опору искала…”
К лету фотографию Тони поместили на Доске почета, под стекло. Под фотографией сделали черной тушью надпись о том, что такелажница Горчихина выполнила месячную норму на 168 процентов.
Доска почета, изукрашенная серебристыми вензелями, отдаленно напоминающими лавровые ветки, находилась неподалеку от кабинета Ермакова, рядом с пятилетним планом треста, победными цифрами и диаграммами. Фотографии на ней менялись в лучшем случае – один раз в год.
В то лето на стройке не хватило подсобниц, и в один из дней Тоня узнала, что она больше не такелажница, а подсобница каменщика Гущи. Обиделась ли Тоня (“Не спросили, не поговорили по-человечески:..”) или не по сердцу пришлось ей новое дело: держала пятитонный кран под уздцы, пожалуйте лопату в руки, – но отныне она стояла на подмостях точно в дреме. Ни один каменщик не оставлял ее возле себя больше недели. И снова раздавалось на корпусе “Поворачивайся, тетеха!”
А портрет Тони на Доске почета меж тем все висел. Пожелтел, пожух, а висел. Забыли о нем, что ли? Тоня напомнила о нем Тихону Инякину – он отмахнулся: Напомнила в другой раз – он ее матерком… Тоня поняла, что Тихон распорядился заснять ее для Доски почета вовсе не затем, чтобы почтить, обрадовать, а только потому, что полагается время от времени вывешивать на фанерном щите портреты передовиков. Что же касается лично ее, Тони, то хоть пропади она пропадом…
А рабочим между тем было обидно, что портрет Горчижкной висит на Доске почета. Многие трудятся куда лучше ее. Кто-то окрестил ее с издевочкой “168 прОцентов”. И прилипла кличка. Как-то, под ноябрьские праздники, сдавали дом. У Гущи и сорвись под горячую руку: “Скоро ты там расчухаешься, сто шестьдесят восемь прОцентов?!” В тот день Тоня, не взяв расчета, не попрощавшись с подругами, ушла со стройки.
– Вот когда ей небо с овчинку показалось! Когда ее рабочую гордость помоями окатили. – Александр передал трудовые книжки Акопяну. и сел на прежнее место, добавив глуше: -Хоть она и вернулась через два месяца, сердце до сих пор не заструпело. Как заговорит кто о процентах… – Он махнул рукой, недовольный своей первой речью перед комиссией, собранной – он видел – не для бумаги. “И длинно, и нудил, -укорял себя, – и…об одних только печатях и записях…”
Акопян обернулся к Чумакову: ..
– Вы по-прежнему возражаете?
Чумаков молчал, горбясь, о чем-то думая. Александр вскочил на ноги, заговорил взахлеб:
– Девушка она надежная, верная, Пров Алексеевич, к кому душой прилепится… Вы знаете, Пров Алексеевич, на что она ради меня решилась… А ради больной матери своей она с пятнадцати лет в Воронеже у кино папиросами торговала, пачками и вроссыпь. Приставания терпела, да какие приставания, коли она, вдруг бросив все, в дальний город завербовалась… Сейчас она во сне видит, как с матерью съедется. С войны они горе мыкали…
– Ты его не перехребтишь! – голос Силантия сорвался яростным фальцетом. – Не мечи бисер.
Чумаков от изумления приоткрыл рот, зажелтели зубы, съеденные почти до десен.
Александр умолк на полуслове, уставясь на своего бывшего старшого как на диво. Невольно вспомнились Александру и первая заповедь Силантия “не зудят – так и не царапайся”, и то, что Силантий, как говорили, ни разу не осмелился перечить начальнику конторы. А чтоб голос на него повысить?!.
Мог ли он предположить, что в эти минуты Силантий, сидевший на скамье, как отставной солдат, грудь вперед, руки по швам, был бесконечно далек от тoro старшого, которого Александр знал и любил покровительственной любовью сына, давно познавшего слабости своего отца; что нынешний день значил для старика больше, чем даже для него, Александра. Именно здесь, в прокуренной комнате постройкома, пробудилось в Силантий высокое чувство, впервые испытанное им много-много лет назад, когда он, владимирский парень, мобилизованый на деникинский фронт, писал перед атакой, отрешась от суетных дум, последнее, как он думал тогда, письмо…
– Решили, значит, так… Тоне комнату, четырнадцать метров, – кивнул Силантий вслед Чумакову, который прошелестел мимо него своим брезентовым плащом.
– Почему на двоих? – спросила Ульяна, – Девка она засидевшаяся, перематорелая, мужика не приведет, мужик – дело десятое! А ребятеночка в подоле принесет…
Заспорили, уговорили Акопяна записать Тоие комнату в семнадцать метров.
Завязали тесемки Тониной папки – дело пошло быстрее. Если бы Акопяй не придерживал прыти Силантия, то верхний этаж наверняка бы заселили одними алиментщиками, дебоширами, любителями длинного рубля
К полуночи почти все папки были рассмотрены, уложены четырьмя стопками по конторам. Остались ляшь несколько папок да какая-то бумага, начертанная крупными, вкривь и вкось, буквами, как пишут первоклассники. Оказалось, это заявление дворничихи Ульяны.
Акопян спросил коменданта, почему заявление Ульяны Анисимовны отложено в сторону. Комендант ответил, что комнаты, как известно, выделяют лишь тем, кто работает на самой постройке, а тетка Ульяна ..
– Где вы сейчас живете, Ульяна Анисимовна? – перебил Акопян коменданта.
– Там же. В преисподней. Силантий со своей. И я… за занавесочкой.
Акопяи посмотрел список сверху вниз, затем снизу вверх. Оставались лишь двадцатиметровые комнаты.
– Да-а-а…-задумчиво протянул он, отводя глаза от Ульяны.
Она шумно задышала. – Так и знала я…
Члены комиссии притихли. Каждый чувствовал себя словно бы виноватым в том, что тетка Ульяна останется жить в подвале.
Тишину нарушил низкий, прерывающийся голос Ульяны:
– Я всю жизнь по полатям да подвалам промыкалась. Ни одного денька одна не жила. Все на людях и на людях. Мне помирать скоро, – так, видно, в своей комнатке и не пожить…. – И кинулась к двери, закрыв лицо рукавом праздничной кофты.
Из приоткрытой форточки донесся вскоре чей-то встревоженный голос:
– Кто тебя, Анисимовна?! Да ты скажи, кто тебя?
– Дадим ей комнату! – Александр пристукнул по столу кулаком. – Никто не возражает? Пишите! Переселить какую-либо семью из маленькой в двадцатиметровку. А в маленькую – Ульяну. Ей за пятьдесят пять перевалило. Доколе ждать?
Убедившись, что Акопян записал решение комиссии точно, Александр бросился к выходу, нагнал у трамвайной остановки тетку Ульяму, которая беззвучно всхлипывала, приткнувшись лбом к металлической мачте, закричал во все горло:
– Вывели тебя из подвала, Анисимовна! Вывели из подвала!
… В пять утра Игоря Ивановича всполошил телефонный звонок. Ермаков вызывал его к себе. Сообщил сдавленным голосом:– Дом отбирают.
8.
Уже давно звучали в телефоне вместо глухого сдавленного голоса Ермакова короткие гудки отбоя, а Игорь Иванович все еще не отнимал трубки от уха. Он мысленно крестил себя отборными флотскими ругательствами, которые, казалось ему, забыл безвозвратно. Такой приступ отчаяния Игорь Иванович испытал разве что в небе Заполярья, когда однажды заградительные очереди из его раскаленного штурманского пулемета. “шкас” не спасли товарища.
Застегивая на ощупь, одна пола выше другой, демисезонное пальто, сбегая по старой, с расшатавшимися перилами лестнице, он словно бы слышал бас Ермакова: “.. .отнимает. Наш общий друг”.
Когда Игорь Иванович садился в такси, его бил озноб.
– И куда все летят?! – пробурчал, шурша газетой, старик шофер, когда Игорь Иванович попросил его ехать быстрее.
– Дом отбирают, отец. У рабочих.
Шофер рванул с места, и не успел еще Игорь Иванович собраться с мыслями, как машина, трясясь по булыжнику неведомых Игорю окраинных переулков, уже выскакивала к Ленинскому проспекту.
. И мысли Игоря, казалось от тряски, перемешались, смятенные, раздерганные.
“Наш общий друг… Конечно, Зот Инякин-младший. Кто же еще?!. Но… пойти на такое? Отобрать у своих рабочих! Ведь он слышал, как живут Староверовы, Гуща… И я говорил ему, и Ермаков. Да и не только мы… Здесь какое-то недоразумение. Обездолить своих рабочих. Впрочем, он может… Нет, не может! Впрочем…”
В памяти всплывали одна за другой встречи с ним. Совещание “давай-давай!”. Закрывая его, Зот Иванович отложил в сторонку свой автоматический, с золотым ободком карандаш. Карандаш этот, за редким исключением, не касался журнала учета в обложке из толстого картона, как не касаются карандашом канонического текста молитвенника, пусть далек, бесконечно далек его текст от живой жизни.
Тогда и мелькнуло впервые у него, что многоэтажное здание инякинското управления в центре города, с гранитным цоколем и стеклянными парадными, огромные кабинеты по обе стороны ветвящихся коридоров, сотни инженеров-строителей в этих кабинетах, склоненных над арифмометрами, разнарядками, “процентовками”, батальон машинисток и секретарш – что все это пышное великолепие – для бумаги?!
– Ч-черт! – Передние колеса такси взлетели на бугре, насыпанном на месте траншеи, поперек шоссе. Игорь Иванович привстал на ногах, как кавалерист в стременах. “Бумага бумагой… но значит ли это, что Зот способен обездолить?”
Серел рассвет. На домах уже различались белые полотнища с портретами вождей, темные полоски первомайских транспарантов.
Праздничный кумач на светлых фасадах Ленинского проспекта вызвал в памяти Игоря последниe рабочие собрания. Зот Инякин повадился ходить на них. Такого доселе за ним не примечалось. Когда он сидел в президиуме, худое острое, как у лисицы, лицо его казалось бесстрастным, скучающим, но в действительности у него был напряжен каждый мускул. Зот Инякин терпеливо высиживал до конца собраний и тогда лишь шел к трибуне, напружиненный, как перед прыжком.
У него не было своих слов.Он никогда не доказывал. Он “подверстывал”.
Есть у газетчиков такое выражение “подверстать”. Например, подверстать статьи под одну рубрику. Зот Иваныч “подверстывал” своих недругов к тем, кого в данный момент ругали наиболее непримиримо. Если били за формализм, архитекторы, инякинские недруги, тут же объявлялись формалистами Если били за космополитизм, Зот тут же обвинял своих недругов в космополитизме. Не важно, к кому “подверстать, важно дубиной достать…”
B одной из газет увидел странное выражение: “.. .выискивают и смакуют”.
Зот Инякин немедля встал и на эти рельсы. Принялся клеймить тех, кто недостатки на стройке “выискивает и смакует”. Он кричал, и ноздри его гневно трепетали.
Строго говоря, на этих грозовых собраниях Зот был единственным человеком, который “выискивал и смаковал” все, что хоть сколько-нибудь укрепляло его решимость “завернуть гайки”, “подтянуть узду”, “дать по рукам”. С каждым нашаренным им “подходящим к делу” фактом он, казалось, укреплялся в мысли: без таких, как он, Зот Инякин, на местах порядка не будет!
Игорь Иванович пригнулся к передней спинке машины, вглядываясь в подсвеченные прожектором силуэты возводимых кopnycов. “Инякин изо всех сил старается превратить рабочих в молчунов, в бессловесную тварь.. А теперь пытается еще и отнять у них возможност жить по-человечески…”.
Игорь вскричал вдруг под ухом шофера:
– Но ведь это одно к одному.
… На всем Заречье светилось лишь одно окно. Некрасов кивнул в ту сторону. Ермаков сидел за столом своей секретарши в плаще и мятой шляпе, разыскивая в картонной папке какой-то документ. Не переставая листать бумаги, он начал рассказ.
Утром он должен быть в инякинском управлении. На совещании. Стороной узнал, что туда прибудет сам Степан Степанович, председатель исполкома городского Совета, и что кроме других дел речь пойдет об их доме, половину которого передают инякинским служащим, половину – еще кому-то.
– Когда пирог на столе, у кого слюнки не текут…
В белом китайском плаще, широком и коротеньком, Ермаков походил на розовощекого младенца, завернутого до колен в огромную пеленку и готового орать благим матом.
Впервые Игорь Иванович видел управляющего растерявшимся.. В самом деле, что можно сделать?
Ори не ори…
Оказалось, решение уже подготовлено. Оно белело на письменном столе перед председателем исполкома, который сидел в кожаном кресле Инякина, насупленный, хмурый.
У Ермакова задергалось веко. Вялым движением (“Степановича не перерогатишь…”) он достал из портфеля папку, где лежали финансовые отчеты и сводки, свидетельствующие о том, что их трест сдал за пять лет почти столько же жилья, сколько все остальные тресты города, вместе взятые. Нет в городе коллектива строителей, который бы возводил дома быстрее и дешевле.
Когда Ермакову предоставили слово, он напомнил обо всем этом решительным и вместе с тем недовольным тоном, который, казалось, и сам по себе, помимо слов, говорил о том, что ему, Ермакову, похвальба несвойственна и противна и лишь крайние обстоятельства заставляют его так настойчиво выпячивать заслуги треста.
Председатель исполкома что-то сказал Инякину, быстро пригнувшемуся к нему. Инякин, еще не дослушав, закивал: “Понятно, понятно!” И объявил:
– Есть мнение. Ермакову оставить полдома.
Возглас Инякина, в котором угадывалось удовлетворение, вызвал в памяти Ермакова иной возглас, скорее даже не возглас, а всхлип, и всхлип человека сильного, самолюбивого, пытавшегося скрыть закипавшие в его голосе слезы: “У Ермакова просить комнатенку-.что на могилке посидеть!”
Этот словно бы заново услышанный Ермаконым женский всхлип потянул за собою все пережитое за последние дни, когда распределялись комнаты. И плач беременной такелажницы, и причитания старушки табельщицы, которая вдруг бухнулась посередине кабинета управляющего на колени.
Ермакова точно ожгло. Словно именно это обжигающее дыхание огня за своей спиной заставило его сейчас заговорить – медленно, веским тоном, каким он сообщал лишь о глубоко и всесторонне продуманном:
– Я противник постыдной крохоборческой дележки Дома. Один или даже два подъезда на трест не уменьшат нужды в жилье, лишь внесут раздоры и дезорганизацию. Это не государственный подход к делу…
Ермаковский план был на редкость заманчив. Ермаков предлагал набрать дополнительно рабочих всех специальностей ровно столько, сколько может вместить их новый дом, превращенный в общежитие. В связи с этим резко увеличить тресту годовую программу. Скажем, на десять корпусов. Когда эти десять корпусов через год войдут в строй, два из них отдать строителям, восемь – горсовету. Жители города получат в подарок около ста тысяч квадратных метров жилья. Ни одна живая душа не останется более плесневеть в подвале.
Председатель горсовета стремительно поднялся на ноги.
– Вот это по-государственному! – Голос его был грубее и на октаву ниже ермаковского. – А кадровики твои еще год потерпят. – Не привыкший к многословию, он повернулся к стенографистке, продиктовал: – “Дом отдать Ермакову. Ему же набрать пятьсот новых рабочих. Расселить. Увеличить программу треста Жилстрой номер три на сто тысяч квадратных метров”.– Он оглянулся на Ермакова.-Дельное предложение!
Ермаков выскользнул из кабинета Инякина, не дождавшишись конца совещания. Оглядевшись, нет ли вокруг знакомых, он толкнул стеклянную дверь ресторана “Арагви”, расположенного возле Главмосстроя, набрал номер телефона и приказал немедля отыскать Чумакова. Пусть позвонит по номеру… Ермакову еще не успели принести заказанной им бутылки цинандали, как его позвали к телефону.








