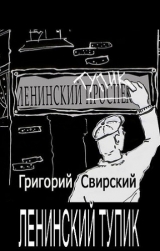
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Домой шел кривобоким и кривошеим
Но оказалось – все это цветочки. Вот когда в середине марта на новом пятитонном соскользнул с дальнего колесика трос…
Игорь, полез на стрелу, и здесь, лежа на животе и перегнувшись с высоты десятого этажа вниз, пытался завести трос на место.
Чудилось -тут, на высоте, горел воздух, синий, как огонь над спиртовкой. Он гудел в подкосах крана, раскачивал его, как корабельную мачту. Жег лицо, слепил. Зима напоследок брала свое. И рука Игоря, которой он держался за металлическую балку, пристыла к металлу.
Внизу кто-то закричал дурным голосом. Тоня бегала по подмостям взад-вперед и показывала ему руками, головой, плечами: “Уйди оттуда! Уйди!..”
Сама она не поднялась помогать. Потом объяснила: голова высоту не принимает. Погнала вверх какого-то каменщика в зеленом ватнике (так Игорь впервые познакомился с Александром). Александр держал крановщика за ноги, пока тот доставал окровавленными руками трос.
– Сколько тебе платят? – спросил Александр, когда они вернулись по стреле к кабине. – Это вместе с премиальными? – Он сплюнул. – Повисишь так – ничего не захочешь.
Оставшись в кабине один, Игорь обмотал руку носовым платком, сразу пропитавшемся кровью. Взялся за дверцу, чтоб спуститься в медпункт, но в эту минуту внизу, на подмостях, кто-то в заячьем треухе широко развел руками: “Перегородку давай!”
Игорь заскрипел зубами. Включив мотор, повернул штурвальчик. Кабина вздрогнула, затряслась, как вагон на стрелке. Силантий с того дня говорил о новом крановщике: “Безотказный!”.
Когда из треста потребовали избрать редактора “молнии”, Силантий, поколебавшись, выкликнул Некрасова: “Пущай растет!”
Игорь пристроил у крана ящик для заметок, похожий на скворечник. В первую неделю была опущена одна-единственная записка: “Выпустите “молнию”, вы женатый или нет?”
Завел записную книжку. Каждая страница была разделена пополам. Слева записывалось увиденное им, справа – что предпринять. Мельком просматривал записи слева. “Любая эмоция вызывает бессмысленный мат”. ” Крановщики – “тарзаны” (один крановщик на три недостроенных корпуса). “Что я, собака, привязываться буду?!”
Чем больше подобных записей появлялось у Игоря, тем большую неудовлетворенность испытывал. Лишь сейчас смутное и растущее со дня на день беспокойство прояснилось стало мыслью. Что берет на прицел? Лишь самое поверхностное
“Сам хотел наверху оказаться..”
В бригаде хозяина нет. Отцепит кто-либо груз – и уйдет. Крючки лежат на полу, никому нет дела до того, что кран простаивает.”
Может быть, больше всего растревожил Игоря разговор с Александром Староверовым. Как-то они курили во время обеденного перерыва. Александр спросил вполголоса:
– На стройку… из учителей? Игорь оторопел: -: Почему так думаешь?
– Говоришь книжно: “Вы полагаете…”, “Очевидно, вам следует…”
Игорь усмехнулся: – Из учителей.
Александр пыхнул папиросой. – Выгнали или сам ушел? Игорь замешкался.
– За язык выгнали, а? – Александр понизил голос.
Игорь решил повременить с объяснениями. Пусть парень выскажется.
– Да-а, – задумчиво протянул Александр. – Учителю туго… Читаю “Литературку”. Процентомания. Показуха. О новых книжках судить вообще, что на пятитонном трос заводить. На дальнее колесико. У кого нервы слабые… – Александр бросил папиросу, примял ее ботинком. – И отсюда сбежишь!
– Как так?
– Думаешь, у нас сахар! Полазаешь по стреле взад-вперед на коленях да получишь приглошню пятаков:– станешь кумекать.
Игорь взглянул на него искоса:
– Ты, значит, уже кумекаешь, что к чему?
Александр ушел, не ответив…
… Когда за “немым дверь подвала, где шел традиционный “обмыв”, закрылась, обсуждение своих дел продолжалось.
Силантий постоял молча подле стола, наконец подался всем телом вперед и, стараясь не глядеть на расходившегося Гущу, тяжело проговорил то, что хотел услышать Тихон Инякин:
– Из шума вашего, мужики, я заключаю, что Шуре мы шестой разряд дадим. Теперь ты, Лександр, каменщик первой руки. – Он отлил водку из своей банки в соседнюю. – Возьми баночку!.. Что? Это когда ты на твоей трещотке мотоцикловой – ни-ни.—. А по такому случаю ничего… – И. взъерошил своей разлапистой” как клешня, рукой нерасчесанный, цвета соломы вихор парня. – С радостью тебя, Лександр!
Гуща щумел: – НабалОвушков плодите!
Остальные молчали. Силантий не без царя в голове, коли он так дело повернул, по Тихону, – значит, иначе нельзя.
Александр выскочил из подвала, на ходу надевая ватник, пробежал мимо тетки Ульяны и Нюры, которые терпеливо ждали выхода мужчин из подвала, прячась от ветра за штабелями кирпича.
Темнело. Воздух был холоден и чист. Но уж не по-зимнему. Потянуло горьковатым запахом сырой древесины, смолой от теса, сваленного возле корпуса.
Неподалеку шли подсобницы из бригады Силантия, визгливые, горластые. Влажный весенний ветер далеко разносил их голоса.
– Поздравьте Шурку-набаловушка! – крикнул им Гуща, не в силах сдержать переполнявшую его ярость. – С шестым…
Девчата кинулись к Александру. Одна спросила на бегу:
– Правда, Сашок?
Вперед выскочила широколицая, грудастая Тонька, лет двадцати двух, разведенка, которую на стройке окрестили “смерть кудрявым” или “шамаханской царевной” за ее невиданно пестрые платья, поверх которых надевалась старенькая, в клочьях ваты, стеганка. Из-под платьев неизменно виднелись ватные, а летом – спортивные, из сатина штаны. Не дожидаясь ответа Александра, она осторожно, чтоб не запачкать, обняла парня, отставив в сторону черные, в саже и асфальте, ладони. Впилась влажными губами в его губы.
– Раз, два, три…—считала одна из девчат, хохоча и взмахивая рукой, как судья возле поверженного наземь боксера.
Болезненно вскрикнул тоненький женский голосок. Так кричат здесь, лишь когда случается на стройке несчастье. Все оглянулись на крик. Кто-то бросился к корпусу.
– Что там, тетка Ульяна? – быстро спросили несколько человек у подходившей Ульяны.
– Ничего… – Ульяна отыскала взглядом того, кто ей был нужен. – Лександр! – окликнула она строго.
– Что?
– Жена приехала.
– Чья?
– Твоя. Из деревни!
Александр отмахнулся: такого не могло быть. Ульяна скрестила руки на груди, ее гулкий альт разнесся наверное, по всей стройке: – Слышь! С дитем приехала! – И, на всякий случай, не дав ему опомниться, продолжила: – Ославил стройку! Всех нас ославил! Дура, если простит тебя, шалопута.
Растерянный, недоумевающий Александр двинул за Ульяной туда, где виднелся белый силикатный кирпич, сгруженный навалом, наполовину битый, и сырой тес, пахнущий смолисто и горьковато.
Больше ничего там не было
И никого.
4.
В подвал Ульяны Александр вбежал, высекая металлическими подковками искры. У двери остановился. Хотел постучать – рука не поднялась. Хотел спросить, можно ли войти, – не сумел и слова из себя выдавить. “Не писал, дурень! Дурень!” Так и стоял, переминаясь с ноги на ногу, пока запыхавшаяся Ульяна не распахнула двери ударом ладони.
Нюры в комнате не было. Александр вытер рукой ватника лоб.
Возле высокой кровати Ульяны виднелась прикрытая марлей качка из светлых прутьев. Александр на цыпочках приблизился, обтерев руки о ватные штаны, двумя пальцами приподнял край марли.
“Скулы – в мать. Чингисханские… Нос?…
– Уши гляди! – гудела за спиной тетка Ульяна.– ровно бельевыми защепками вниз оттянуло.
Кровь бросилась Александру в лицо. Он пригнулся к сынку, но Ульяна оттащила его за рукав:
– Не дыши табачищем!
Александр спросил в какой уж раз, скороговоркой, захлебываясь словами:
– Что ж она не писала? Я ведь и ведать не ведал….
– Ври больше, – грубо перебила его Ульяна, хотя еще по дороге уверилась в том, что Александр действительно ничего не знал. – Не ведал!.. Как обнимать-целовать ведал?!
Медленно – петли скрипнули – открылась дверь. Вошла Нюра, держа в опущенной руке смятую зеленую шляпку. Остановилась у порога. На всем лице Нюры, казалось, остались только глаза. Дегтярные. Без блеска. Словно бы невидящие.
– – Уходи отсюда, – выдавила она из себя глухим голосом. – Ну!
– – Ты что, дура? – удивился он.
То же самое повторилось и на другой день. И на следующий. Александр заговаривал с Нюрой в коридоре общежития, на стройке. Она либо проходила не глядя, либо, когда он пытался схватить ее за рукав, отвечала презрительно, неизменно одно и то же: -Ты нас своими нечистыми руками не касайся!
Как-то Александр увидел ее у входа в ясли. На другой день он отпросился у прораба, накупил резиновых кукол, слонов, плюшевого мишку и поехал в ясли. Игрушки у Александра отобрали в дверях. “И бог с ними!”. Он поднялся вслед за дежурной сестрой на верхний этаж, где орали грудные; взволнованно вдыхал кисловатый молочный запах.
Дежурную сестру кто-то окликнул, она бросила Александру:
– Я сейчас, идите! Вторая комната направо.
Во второй комнате направо сухонькая старушка в белой косынке обмывала водой из графина соски. Увидев мужчину в коротком, выше колен, белом халате, она выпрямилась и сказала добродушно:
– Тебе напротив, папаша… – И, вздохнув, вновь принялась за соски. – Тут, кажись, одна безотцовщина.
Пальцы Александра, стягивавшие на груди халат, разжались. Халат распахнулся, обнажая мятую, с оборванными пуговицами сатиновую рубашку, загорелую грудь.
“Безотцовщина”!.. Слово это преследовало его, сколько он помнил себя. Все горести детства были связаны с этим словом. И вдруг о его сыне, о его родном сыне – безотцовщина!
Он был терпеливым, Александр Староверов. Ни звука от него не услышали, когда он, однажды рухнув с карниза, лежал на песке с переломленной ногой. Он научился не раскрывать рта и тогда, когда прорабы, не разобравшись, костили его за чужой брак.
А тут сжал зубами козырек фуражки, чтоб не зареветь. “Безотцовщина”!
Он выскочил из комнаты, задев металлические сетки с пустыми молочными бутылочками, пробежал по коридору мимо удивленной сестры, которая крикнула вслед: “Куда вы, папаша?”
Александр напялил кепку на уши, “Силантий дело сказал: дать ей раза… Ведьма цыганских кровей”:
Ведьмы дома не было. Александр оставил на ее тумбочке четыре сотенных бумажки – все, что у него было с собой. Вечером ему их вернули..
На другой день, когда Нюры не было в комнате, Ульяна допустила его к качке. “Одним глазком – и назад!” Он попытался подержать сына на руках, она почему-то выхватила ребенка и вытолкала Александра за дверь взашей, огрев его на прощание кулаком по спине.
Он дождался Нюру у дверей. Она шла прямо на него с шипящей сковородкой, крикнула зло:
– Отойди!
Он переступил вслед за ней порог, она круто обернулась к нему и, оттесняя его раскаленной сковородкой за дверь, прокричала свое неизменное:
– Ты нас своими грязными руками…
Поначалу тетка Ульяна одобряла ее. “Круче отваживает– ловчей заманивает”, – говаривала она. Но прошел месяц,…
– Кончай игру, девка, – сердито сказала она Нюре, сидя за вязаньем. – Этак он заворотит рыло, д а пойдет к другой..
Ульяну позвали, она выскочила из дома, – дела , видно.
А когда возвращалась, еще в коридочике услышала плач , и тоненький голосок.
– Без догляда будешь расти…
Нюра рыдала, не повернулась к вошедшей Ульяне, рыдала нзвзрыд, приговаривая:
– Как же ты будешь расти, Шураня, без отца?! У всех отцы, а ты, как и я, будешь без защиты.. – И застонала, забилась.
Почувствовала , кто-то пришел. Обернулась.. Торопливо смахивая слезы ладонью, протянула виновато: – Извини, Ульяна, ослабла я что-то. За дитя боязно. Без отцовского догляда…
– Так в чем же дело?! Он же тут крутится. Руку подай, и вот он…
Нюра как-то сразу подобралась, сделала неопределенный жест, который можно было истолковать, как “больно он мне нужен”.
Ульяна ткнула спицей в ладонь: не во сне ли?
– Тебя берут, а ты?! В глазах Ульяны то, что “берут”, было неслыханной наградой, девичьим торжеством. За всем, что она говорила Нюре, жило именно это прямо не высказанное, вековое, рабье. “Тебя берут…”
Нюра, сама того не осознавая, попирала святая святых тетки Ульяны.
– Погодь, Нюрка! Заведут тебя в оглобли…
Нюра отложила пеленку, которую подрубала, и возразила спокойно:– Не лошадь я. Не заведут.
Припомнились ей – в какой уж раз – посиделки в детдомовском саду, как она отбивала каблуками – пыль столбом – и заводила весело, бездумно под балалайку.
– Я любила, ты отбила,
Что ж , люби облюбочки..
Она тогда словно швыряла их кому-то, эти презренные “облюбочки”. А нынче ей пытаются всучить их. Тонькины облюбочки.
Оказывается, он с ней давно, еще до нее, Нюры. Выходит, она, Нюра, вообще так, сбоку припеку… Не ей Шурка изменил. А присухе своей.
По ночам Нюра накрывалась с головой ватным одеялом. Щеки пылали, ровно Ульяна нахлестала их перед сном своей каменной ладонью.
“Облюбочки”…
Нюра сама не могла понять, что с ней происходит. Иногда ей хотелось забиться куда-нибудь в пустую раздевалку или подвал, повыть там по-бабьи, в голос. Она корила себя за то, что ничего не сделала (“палец о палец не ударила”), чтобы вернуть Шуру. Хотя бы ради сыночка.
Но стоило ей только подумать о Шуре, не то что уж увидеть, как она тут же почти физически ощущала мартовский вечер, груду мокрого теса, пахнущего горечью, и Тоньку “шамаханскую”, которая бежала к Шуре, расставив, руки, точь-в-точь пугало огородное. Задыхаясь, Нюра отбрасывала одеяло, затем снова натягивала его на мокрый висок. И потрясение женщины, крутой, ревнивой и в то же время отвергающей ревность как чувство недостойное, и боль за сына, который будет расти без отца, – все слилось вместе в коротеньком песенном слове “облюбочки”. Это слово вспоминалось ею, как злая, со звоном, пощечина, от которой кружится голова и болит сердце.
Нюру определили разнорабочей. Она сшила себе новый, из мешковины, фартук и подушечки на плечи. Эти “генеральские погоны”, как она их назвала-, она подкладывала под лом, на котором перетаскивала с кем-либо чугунные батареи водяного отопления. Теперь плечи не обдирались, болели меньше…
Первая же получка погрузила Нюру в раздумье. На руки ей выдали за полмесяца одну сотенную бумажку да шесть мятых десяток. Она тут же прикинула: половину – за ясли, десятку – за общежитие, восемнадцать рублей трамвай. А есть-то что?
– Знамо что. “Колун”, – утешила ее Ульяна, откладывавшая деньги на очередной подарок Тише.
– “Колун”? – удивленно спросила Нюра.
Со времен войны привилось это словечко. В те треклятые деньки, бывало, накупалась килька, салака самых дешевых сортов. В огромной кастрюле на всю комнату варилась, картошка в мундире. Закипал чай-спаситель На завтрак, на обед, на ужин. Чай, чаек, чаище. Такая еда и называлась “колуном”… :
Еще терпим был “колун” затяжной, но куда хуже “смертельный” – за два-три дня до получки, когда даже на трамвай приходилось одалживать.
– “Колун”,– упавшим голосом повторила Нюра, выслушав объяснения Ульяны. – Меня дите сосет…
Тетка Ульяна пообещала поговорить с Силантием.
Силантий несказанно удивился: – Куда ее пристроить? В подсобницы каменщика?! Утром щи лаптем хлебала, а к вечеру в подсобницы?!
Как-то во время обеденного перерыва Нюра уселась на бревно, жевала принесенный из дому хлеб с килькой. Невдалеке остановился зеленый вездеход в грязи по крылья. Кто-то окликнул ее голосом нетерпеливым и властным: – Эй, красавица! Подойди сюда! Оглохла, что ли?!
Нюра с удивлением оглянулась на машину;
– Это вы мне? – И пояснила со спокойным достоинством: – Я не “эй, красавица”, а Нюра.
Из машины не вышел, а скорее вывалился грузный мужичина в дорогом и широченном пиджаке; с силой хлопнув дверцей, пробурчал: – Буду я каждую бабенку по имени-отчеству называть! Из какой бригады?
Узнав у Нюры, где бригадир, он снова направился к машине. Нюра положила на бумажку хлеб, бросилась следом за незнакомым мужчиной.
– Товарищ начальник!-Она схватилась за приоткрытое стекло кабины, боясь, что машина тронется.– Помогите мне в подсобницы выйти! Силантий Нефедыч не берет…
– Сколько ты на стройке? – Стекло опустилось. Из окна высунулась большая, подстриженная под бокс голова на темной не то от пыли, не то от загара могучей шее борца-тяжеловеса. -Только-то….. Ты знаешь хоть, какой стороной гвоздь в стену вбивают?
– Знаю! Шляпкой!
– Э, да у тебя, вижу, дело пойдет! – Дверца кабины приоткрылась. – Вот что, Нюра. Негоже подруг обходить. С годик проработаешь – тогда уж…
– Мне нельзя ждать. Меня дите сосет.
Машина накренилась, мужчина вылез из нее и стал спрашивать посерьезневшим голосом, быстро:
– Мать-одиночка? Только что выдумала?.. Родители твои где? .. Погибли? Ребенок у кого? .. Как выглядит заведующий яслями?.. Ну, лысый? С косами?.. Так, верно… Сколько платишь за ясли?.. Так, верно.– Он достал из кармана блокнот, похожий на портсигар в никелированной обложке, что-то написал на листочке, вырвал его, отдал Нюре.
С этим листочком Нюра явилась в стройконтору, оттуда ее направили к прорабу, и в конце, концов она предстала перед своим бригадиром.
Силантий взглянул на листочек, испещренный по всем четырем углам визами, и ахнул:
– Отец Серафим, мать богородица! К Ермакову подобралась! Какие нынче девки пошли! – Он сдвинул добела выгоревший картуз на лоб, поскреб затылок.
“Куда ее ставить, чертовку?”
Не по душе была Силантию эта девчонка, из-за которой у Шурки Староверова, он видел, выпадали из рук кирпичи. Но более всего он злился на нее за другое. За “угол”.
Это произошло совсем недавно. Приступили к кладке двухэтажного дома, под детский сад. Перед тем как положить первый кирпич, Силантий и другие каменщики, по давней традиции, кинули на фундамент, под будущий угол дома, чтоб стоял незыблемо, серебряные монетки.
У Нюры, как на грех, оказалось в кошельке лишь тридцать пять копеек. А на трамвай? Она бросила пятачок.
Что тут началось! Силантий матерился, раскричался на нее так, как не кричал даже на портачей и лодырей. Как нарочно, пятачок закатился за железобетонную плиту. Силантий потребовал подвести кран, подцепить плиту и во что бы то ни стало “выбросить медяшку”.
Этого Силантий забыть не мог. И Шурка еще защищал ее! – Он долго скреб и скреб ногтями затылок.
И вдруг осенило:
– Лады! Встанешь подсобницей. К однофамильцу свому… к Лександру.
– К кому?!
Силантий.словно бы не расслышал ее возгласа, пошел от нее, показывая что-то новому крановщику, который высунулся из своей скворечни.
Кровь прилила к лицу Нюры. Она бросилась догонять Силантия, остановилась на полпути, снова побежала за ним.
– К Староверову не пойду! Хоть увольняйте!
Силантий ответил через плечо успокоенно:. – Тут тебе не игрушки. Стройка! Капризуй дома. Возьми свою записочку и топай, куда хочешь.
– У меня нет другого места…
– Надумаешь – скажешь!
Почти все лето проходила Нюра с носилками. Как-то на седьмом этаже – Нюра подавала железную ограду для балкона – у нее закружилась голова. Она отпрянула от края , медленно, держась за перила, сошла вниз, отыскала Силантия.
– Некуда деваться. Согласна к Староверову.
Стояли первые дни осени. На стройке работали без рубах – последнее тепло, – думали о дождях, о редких письмах из дому, где еще не управились с урожаем, об осенних свадьбах.
В думах и разговорах этого раннего, не по-осеннему душного утра не было и намека на события, которые надвигались на Заречье.
Александр Староверов являлся на стройку, по обыкновению, за полчаса до начала смены. Трамваи в это время были переполнены. Всю дорогу приходилось стоять. Перед работой Александр любил, взобравшись наверх, “поближе к богу, подальше от начальства”, отдохнуть: позагорать, почитать книжку, растянувшись на дощатом настиле.
Волновали книги о войне, которая только кончилась. И десяти лет не прошло. О сталинградской битве. Если чувствовал, без вранья, перечитывал. Виктора Некрасова, Василия Гроссмана.
В этом году на книги был особенно большой спрос. Заголовки некоторых намекали, а то и прямо указывали на переменчивость природы, погоды, на оттепель. Газеты писали об этих книгах больше с ожесточением.
“Не нравится, значит, кто власть против шерсти…”
Афиши, расклеенные по всему городу, звали на сатирические пьесы, которые никогда не видал. Названия задиристые “Голый король.”,”Опаснее врага”. На что намекают?
Многое оставалось неясным. В газетах и журналах говорили о сталинском времени, будто шли по свежей кирпичной кладке. Шаг ступят – остановятся: не загреметь бы с высоты…
Не схватило, значит, еще кладку. В конце -концов Александр вернулся к книге нерушимой, как храм , сложенный древними мастерами: “Борис Годунов”
Ныне взял с собой на подмости неведомое ему “Дело Артамоновых” – библиотекарша рекомендовала. Лежа на спине и беззвучно шевеля губами, читал о подгулявшем на Нижегородской ярмарке купце, который рвался на волю, крича: “В Магометы хочу!..”
– Ох, непонятно… От больших денег…рехнулся, что ли?…
Часы показывали семь утра, а кирпичи уже нагрелись. Видно, они и не остывали. В ящик с раствором словно горячей воды плеснули. Александр сгреб рукой немножко раствора, растер его между пальцев. Мягок. “He раствор – целебные грязи”, – удовлетворенно подумал он.
Александр напился из ведра, стоявшего поодаль. Вода была тепловатой и попахивала хлором. Он хотел плеснуть остатки на лицо, шею, но взглянул на мокрую спину заканчивавшей смену подсобницы и отошел ведра: “А то ее снова за водой погонят…”
Сняв рубашку, бурую от пота на лопатках, он, привязал ее к ржавому анкерному пруту, с закруглением наверху, торчавшему из кладки. Рубашка затрепетала над стеной как флаг.
– Шурка открыл осеннюю навигацию! – весело крикнул сменщик его, который торопился выработать в оставшиеся полчаса свой раствор. – Куда вечером поплывешь? Опять в ясли?
Александр кивнул, растянулся на спине.
Чуть попахивало гарью. Наверное, внизу асфальтируют дорогу. Ветер несет мимо сероватый дымок. Небо – голубень. Ни облачка. Если смотреть на него – будто лежишь на палубе парохода. И кричат вокруг, как на пароходе, гулко: “Зачаливай! Зачаливай! Вира! Майна!” Только визгливый голос такелажницы Тоньки “шамаханской” портит впечатление, Она орет крановщику по-своему: “Алло! Алло!” – что значит “вверх” – и нервно: “Куды! Куды!”– понимай как “стоп”. Куриные мозги, даже термины освоить кишка тонка!
Ветер теплел. Волосы лезли на глаза .Грудь точно ласкал кто. Благодать!
До него донесся зычный голос Силантия: – Гуща, на санузел…Мало что Ермак насоветует. Он со своей верхотуры кирпича не видит, а мы кирпич цельный день в руках голубим. Делай, как я сказал. Шурка, гони капиталку!
Александр чуть приподнял взлохмаченную голову, оглядел капитальную стену, начатую им вчера. Класть “капиталку” – одно удовольствие: ни оконных проемов, ни дверей. Разгон! Нынче попашем.
– Шурка! – вновь услышал он. – Шу-урка! Спишь, леший? Вот тебе подсобница.
Александр медленно перевалился на живот, стал отжиматься от настила на мускулистых, широкой кости руках. Вдруг он припал к настилу, прижался к нему, словно в него, Александра Староверова, целились.
Возле Снлантия стояла она. Маленькая, в большом фартуке из мешковины. На голове марля до бровей. Точно, забинтованная!
– Покажи ей, что к чему… – Силантий приподнял топорщившиеся во все стороны белые брови: подмигнул что ли? – И вообще, приру… кхе!.. приучай.
Александр облизнул сухие губы. – Пошли, Нюра.
– Пойдемте! – наставительно произнесла она, не трогаясь с места.
Александр повторил послушно:
– Пойдемте. Вон наша “захватка”.
Они двинулись по плитам перекрытий, по скрипящим настилам к своему рабочему месту, своей “захватке”, как говорят каменщики..
Нюра огляделась. Вдали серела ставшая уже привычной столица, Москва– река, слепящая глаза. Восход отражался в верхних боковых стеклах домов, – казалось, город занимается огнем.
Непримиримо поджатые губы Нюры смягчились.
– Профессия наша хорошая, – заметил Александр.– Все время на свежем воздухе. Опять же виды…
– Слышала уж!
Александр нагнулся, взял моток бечевки и, встав коленями на стену; стал зачаливать шнур – натягивать его вдоль всей стены, чтобы кладка была ровной, не пузатилась, не заваливалась. Нюра хотела помочь ему – он прикрикнул на нее голосом старшого:
– От края! – И спокойно, но столь же категорично добавил: – Без моей команды – никуда. Я теперь отвечаю за вашу жизнь.
Теперь вроде самое время было посвятить ее в историю кирпичной кладки, начав издалека, со времен знаменитой Китайской стены. Но вместо этого, приблизясь. к Нюре, он, неожиданно для самого себя, жарко зашептал о том, что скоро они дом начнут строить. Для свого треста. Выделят нам комнатку.
Нюра присела на угол железной бадьи, поглядывая на него терпеливо, с горестной улыбкой, прислушиваясь к голосам вокруг себя.
– Раствору давай1 Раствору, че-орт!
– Вира! Вира!
Слух ее внезапно выделил в гомоне утра резкий, гортанный голос.
– Алло! Алло!.. Куды?! Куды!
Она зло перебила Александра:
– Неча болтать! Показывайте, что делать.
Александр умолк на полуслове, взял широкую, совком, лопату, которая лежала в бадье с раствором, почему-то взвесил ее на вытянутой руке и откинул в сторону.
– Соня! – крикнул он вниз, сложив ладони рупором. .– Ты кончаешь? Дай свою пух-перо.
Нюра шагнула к бадье, взяла откинутую Александром совковую лопату, так же покачала ее на вытянутой руке; встала, опершись двумя руками о черенок, и всем своим видом показывая, что она готова немедля класть на стену раствор и не каким-то там “пух-пером”, а вот этой тяжелой совковой лопатой.
Спросила излишне громко: – Начали?
Надев рукавицы, Нюра снова взяла совковую, примерилась, загнала ее в раствор по шейку лопаты и – не смогла даже выдернуть оттуда.
– Это вам не песочек! Подсекайте раствор, как рыбу подсекают,– бросил Александр через плечо, протягивая руку к кирпичу.
Их отвлек от работы гортанный возглас. Тонька бежала вдоль кладки с кепкой в протянутой руке:
– По пять “рваных”! По пять “рваных”!
Она остановилась возле Александра, приветствовала его с подчеркнутой веселостью:
– Бог дает день, а черт – работу” По пять “рваных”!
Нюра уже знала, – “рваными” назывались деньги, предназначавшиеся на пропой. Хотя женщин на “обмыв”, как известно, не приглашали никогда, они безропотно открывали кошельки.
Нюра взглянула на грудастую Тоньку, на ее широкие плечи, затем на Александра, который доставал из кармана полотняных брюк бумажник, и обрезала:
– Ни рваных вам, ни целых! – И махнула рукой: мол, улепетывай.
Тонька остолбенела. Такого еще не бывало, чтоб подсобницы не давали на “обмыв”…
Отойдя, она оглянулась на Нюрку, бросилась дальше, крича не то удивленно, не то тревожно:
– По пять “рваных”! По пять “рваных”!
Александр посмотрел ей вслед, сжимая в– руке бумажник, и закричал что есть мочи:
– Эй! Эй! – Он в три прыжка настиг Тоньку, сунул ей еще пятерку и приложил указательный палец к губам. Тонька чуть развела руками -так она обычно клялась: “Могила!”;
Нюра шагнула навстречу Александру:
– Я просила за меня платить?!
– Я не за вас. Я в прошлый раз на дармовщинку…
У Нюры потемнело лицо.
– Заберите деньги, которые вы дали за меня! Выпивохи разгульные.
Александр взял из груды кирпич, швырнул его назад, расколов пополам.
– Нюра, сживут, – тихо произнес он. – Из века так повелось…
– Инякина поить?! Да старшого?
– Почему? Сообща, так сказать…
– Я не пью!
Александр схватил кирпич, скомандовал строго: – Раствор! Без комков!
Она захотела что-то добавить, он перебил ее голосом старшого: – Стоим много! :
Нюра раскидала, растерла сверху уложенного ряда раствор. Разбила лопатой вязкие и жирные, как глиняные, комки; один из комков не поддавался, – камушек что ли? Она взяла его рукой, отшвырнула.
Комки попадались и позже. Нюра измазала в растворе рукав платья. Александр посочувствовал ей:
– Работа наша грязная.
– Ладно бы, только работа была грязная, -неопределенно отозвалась Нюра.
На лицо ее упало солнце. Александр то и дело поглядывал на нее, словно никогда не видел Нюру, освещенную восходом.
Темный пушок над ее верхней губой влажнел. Он видел, Нюра еще не приноровилась. Зачерпнув .раствор, она отводила руки с лопатой до отказа назад. Локоть ее ходил взад-вперед, как маховик. Наверное, так она работала локтями, когда забрасывала вилами сено на высокий стог или кидала снопы на молотилку. Здесь не требовалось такого усилия.
“Пообвыкнет…”
Он поглядывал на нее с гордостью. Сам того не сознавая; он гордился неуступчивостью Нюры, за которую искренне проклинал ее и как-то даже собирался поколотить.
Александру нравилось, как размеренно движется ее стянутое фартуком тело, худенькое, угловатое, как повязана марлевая косынка – чисто военная сестра. Он любовался ее плавными, размашистыми движениями, движениями крестьянки, которая не умеет работать вполсилы; он прислушивался к милому сердцу воронежскому говорку.
– Ученава учить… – цедила она сквозь зубы.– Лутче за кладкой сма-атри.
Так же мягко и нараспев акали дома.мать, сестры, которых он уже почти не помнил.
Он принялся мысленно вторить ритму кладки.
“Нюра”
Рука его тянется за поставленным на ребро кирпичом. Поворот всем корпусом.
“Нюрок!”
Рука жмет на камень, как пресс. “Нюраша”
“Нюра,..”
Достает кирпич, вокруг которого еще не улеглась, пыль.
“Нюрок!”
Александр надавливал на кирпич большим пальцем левой руки, ноготь на этом пальце почернел, вмялся, а сам палец развился, стал неимоверно сильным, “железным”, как не раз жаловалась Тонька, подставляя лоб после очередного проигрыша в лото: Александр и щелчки привык отбивать этим пальцем.
Где-то постукивал топор, – видно, загодя готовили деревянный настил. По грубо сколоченной лесенке, гордо откинувшись, с лопатой наперевес, Нюра всходит на новый настил. Александр спешит за ней, кричит весело, сложив ладони рупором: -Эй, небо!
И “небо”, чуть повременив, спускает им и раствор, и кирпич в железной таре. Рука Александра словно бы сама тянется за приготовленным Нюрой кирпичом.
“Нюра…”
Корпус Александра отклоняется под углом назад,
“Нюрок!”
Cтена вырастает на удивление скоро, и с каждым новым рядом кирпича, с каждой новой захваткой растет Нюра в мыслях своего напарника, не подозревающего, что сам он в то же время в глазах Нюры летит куда-то вниз, под раскат…
“Выпивохи! – Нюра ставила кирпич торцом на кладку. – Ненажоры подвальные…” С сухим звуком приставляла к нему другой, бралась за лопату.
Раскидывала раствор, затем растирала лопатой комки, мысленно обращалась к ним:
“Вздулся, пустота. Был бы хоть камень.., фальшивка!”
Нюра опускала лопату в бадью с раствором, поглядывая на мокрое лицо Александра.
“Щеки-то как в румянах. Что накрашенный. А брови головешкой подвел? – спрашивала она самое себя, словно бы забыв, как в недавнее время безуспешно пыталась стереть наслюнявленным пальцем “смоль” с торчащих во все стороны жестких бровей Александра.– А носина! Неужто у Шурани такой будет? – пугалась она. – И как я не побрезговала?!”








