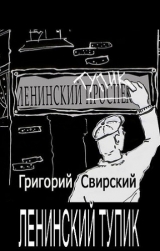
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Ермаков и лицом, и плечами, и руками выразил недоумение, испытывая чувство, близкое к зависти: “Ради меня вечный молчун вряд ли б заговорил..А ради Шуры .. на ревматичных ногах, а примчался”. Ермаков сделал шаг к боковой двери, заставил себя вернуться назад. Заложив руки за спину, прошелся несколько раз от стола к боковой двери, внимательно прислушиваясь к хрипящему голосу молчуна.
– Лебезливые в чести, а таких, как Шура, в черном теле держат…
– Он иного и не заслуживает, твой Шурка! – оскорбленно произнес Тихон Инякин.
– Что-о? – Нюра, сильно оттолкнув плечом Ивана Гущу, приблизилась к Тихону. – Да если бы тебя, “завитушечника”, так уважали, как его, ты бы не мчался псом, язык на плече, через всю стройку: “Шуру видели! Шуру видели!” Ты Шуре в подметки-то гож?! Шура правду про тебя говорит – “кариатида” каменная!”Что то ты своими плечами подпираешь, каменный? Дружбой с Шурой гордятся. Совета у него ищут, все равно как у Некрасова. А с тобой кто дружит? Полуштоф! – Она принялась сравнивать Шуру и Тихона Инякина с таким одушевлением и категоричностью, в звенящем голосе ее слышалась такая неуемная страсть, что каменщики заулыбались и начали подталкивать друг друга локтями. Воронежский говорок звучал во всей своей первозданной чистоте. – Лутче Шурани-то, коли хочешь знать, у нас найдешь кого?!
И тут произошло неожиданное. Бесшумно и откуда-то сбоку, словно из стены вывалился, в кабинете появился Шура Староверов Светлые кудри спутаны (где только он в эту ночь не побывал!), под бровью запекшаяся кровь, толстые мальчишеские губы приоткрыты, дрожат, в pyке чугунная гантель.
– Нюра! – изумленно произнес он, прижимая к груди гантель. Он стискивал гантель в руке, словно еще и еще раз пытался убедиться в ее доподлинном, наяву; существовании. – Нюраша!
Он протянул перед собой руку с гантелью и кинулся за Нюрой. В первый момент она закрыла лицо ладонями, затем бросилась к выходу, расталкивая всех.
Каменщики один за другим заспешили из кабинета.
Ермаков обернулся. В углу, возле окна, сидел на краешке стула следователь милиции, уставясь на Ермакова остановившимся взглядом.
– Товарищ Ермаков, – холодно, официальным тоном произнес юный следователь. – Я не из милиции. Я из “органов”..
– Та-ак, -хрипло протянул Ермаков, – а чего вы все время прячетесь? То под милицию работаете, то под слесаря -отопителя. Ведь не вы же расстреливали невинных россиян веером от живота… А снова наводите марафет, точно ворье перед ограблением банка… Есть дело, заранее позвоните! Я кликну кого-нибудь из юридического отдела Мосстроя. С вами надо держать ухо “востро”…
Потирая лоб и морщась, Ермаков посмотрел куда -то поверх следователя, прошел в боковую дверь, минут через пять появился– в резиновых сапогах и зеленом армейском плаще с капюшоном-
– Бывай! – кивнул он “органам”, нервно вскочившем со стула. Тот последовал за управляющим, прижимая к боку тоненькую папку и облизывая в нетерпении губы кончиком языка.
Выйдя из дверей треста, Ермаков пересек шоссе и двинулся напрямик к Чумакову.
– Товарищ Ермаков! – растерянно и возмущенно крикнули “органы”, беспомощно топчась на краю шоссе в своих начищенных хромовых ботинках.
– Повторяю и требую: Остановитесь!
Ермаков даже не оглянулся, опасаясь, что разрядится не на Чумакове, а на этом опасном заморыше.
Медленно продвигался он между корпусами, выискивая, куда бы поставить сапог. Но куда бы ни ставил, всюду было одно и то же, и, вытягивая ногу из глинистой жижи, он придерживал сапог за голенище, чтобы не оставить его в грязи. Облепленные красновато-желтыми комьями сапоги отрывались от земли с чмокающим звуком.
Ермаков остановился передохнуть. Отовсюду слышалось такое же мерное и тяжелое “Ц! Ц! Ц!” Словно бы вокруг работали десятки насосов, которые откачивали воду.
“Морозца бы!..”
С кладки то и дело доносились бранчливые голоса.
“Морозца бы.,.” – Ермаков натянул на голову капюшон, зябко повел плечами – затекло за ворот рубашки, – прислушался.
Кто-то выкрикивал сверху номера железобетонных плит. Ермаков стряхнул со лба и бровей холодящие брызги, вгляделся. Чумаков! Он стоит внизу, подняв руки над головой и показывая пальцами, чтоб не спутать услышанную им цифру.
“Вот ты где, грабьконтора, -подумал Ермаков, сворачивая к нему. – Вот ты где, герой-доставала! Так тебя и этак!…
Чумаков был “доставалой” особого рода, Он не любил обивать пороги канцелярий. Шел своим путем – выписывал кому-либо из своих рабочих за аккордную работу в два-три раза более, чем тот заслужил, брал себе излишек и с этим излишком отправлялся в путь…
Коли требовалось побыстрее завезти портальный кран, настелить пути под краном – он отправлялся к знакомому бригадиру из треста механизации – выбивать кран”… с поллитром в кармане.
Не хватало железобетонных блоков – он мчался на бетонный завод – “выбивать блоки”… с поллитром в кармане.
Чумаков считал: главное в его работе – знать кому сказать: “Пойдем пообедаем”. Он так привык к “дергатне” со снабжением, что уж иначе и не мыслил существование строителя.
“Строитель-жилищник – сирота, беспризорник, – говаривал он. – Его день кормят, два – нет. Ничего не поделаешь, приходится тащить корку хлеба из чужой торбы…”
Вылезая из кабины автомашины с грузом железобетона, предназначавшегося для другой стройки, Чумаков хлопал на радостях по спине Силантия или какого– нибудь другого бригадира: “Ничего, брат. Пока бардак– работать можно!”
.. .Ермаков уж набрал полные легкие воздуха, чтоб обрушить на голову Чумакова брань, от которой прорабы цепенели. Но в это время Чумаков увидел управляющего, шагнул к нему, отбрасывая на плечи брезентовый капюшон.
Лицо Чумакова было зеленовато-серым. Небритые щеки запали за последнюю ночь, казалось, еще сильнее. Веки набухли, покраснели. Он произнес со свистящей хрипотой, хватаясь рукой за горло, перевязанное платком, из-под которого торчала вата:
– Поеду оконные блоки выколачивать. – Начальник конторы, чувствовалось, был так задерган, измучен, что Ермаков заставил себя – свернуть от него в сторону, пробасив таким тоном, что тот втянул голову в плечи: – С утра – ко мне!
Остановился Ермаков лишь возле дальнего корпуса, переводя дух и оглядываясь.
Дождь словно покрыл все вокруг свежей краской. Рыжие горы глины заблестели. Дорога почернела, казалось– вздулась, как река в половодье, резко выделяясь в желтых, песчаных берегах.
Невдалеке oт нее торчали из воды надраенные до блеска железные пятки бульдозера. Опрокинувшийся в канаву бульдозер был грозным напоминанием всем, кто попытался бы свернуть с дороги.
Ветер гнал по бурой, разлившейся между корпусами воде белые щепки, как по реке. Тянуло промозглой сыростью, которой пропиталось вокруг все, – казалось, даже кирпичи.
– Расейское бездорожье… – произнес Ермаков с ожесточением, переминаясь с ноги на ногу и все более увязая в глинистой жиже.
Картина раскинувшейся перед его глазами осенней распутицы показалась ему значительной, полной глубокого смысла. “Бездорожье!” Оно в эту минуту переставало быть для него лишь жизненным неудобством, оно вырастало в его глазах в символ; этот символ тревожил его сильнее, чем дождь, который хлестал по лицу и холодил за воротом рубашки: он почти перестал его замечать.
Бездорожье – куда не кинь глаз! Все годы так! Во всем виновны не зоты инякины, полудурки чиновные, и те, кто их назначают и берегут, а следствия. Потому виноватых даже в уличных происшествиях не ищут, а назначают. Хулиган – Шурка, еще страшнее – Тонька. Явился кретин с готовым протоколом, ни во что не вникая.
“… провоцирование беспорядков…” Из года в год – лучших – под нож..
Боятся они своего народа до дрожи.
Ермаков рванул ногу, она выдернулась из canora. Ермаков оступился шелковым носком в грязь. Пальцы заломило от холода. Ермаков чертыхнулся, в мыслях прибавилось злости.
А что делать-то? Делать что?! Огнежкины химеры проводить в жизнь?
Он добрался до своего кабинета и, проходя приемную и отряхиваясь, бросил секретарше: – Огнежку!
Секретарша положила руку на телефонную трубку.– Что ей захватить с собой?
– – Голову!
10.
Огнежка вошла – дверь точно сильным ветром распахнуло. Ермакова обвеяло холодноватой свежестью. Свежесть исходила, казалось ему, от замерзших щек Огнежки, от всей ее промокшей одежды – красных, с синим рисунком перчаток, красного шарфа, красной вязаной, шапочки, напоминавшей ему фригийский колпак. Ермаков усмехнулся.
– Садись, Жанна д’Арк жилищного строительства.
Ермаков вытащил из ящика стола непочатую коробку папирос. Помолчав, швырнул ее обратно, достал из стола жестянку с монпансье. Кинул несколько конфеток в рот, пододвинул жестяную коробку Огнежке.
Огнежка произнесла без улыбки, стягивая перчатки: – Не надо подслащать пилюлю! Я вас слушаю.
..: Ермаков встал с кресла, прошел к окну, взглянул на потемневший от дождей недостроенный корпус, на котором вот уже битый час сидели под навесом из фанеры плотники.
– Вот они, энтузиасты…Инякинские рацеи о пользе сознательности, видать, им обрыдли. Ну, и чуть дождичек – талды-балды! Возьми, например Гущу Ивана. Не заплати ему полста в день – он пальцем не шевельнет, гори все Заречье ясным огнем. Если б он один такой на борту…
А делать то что? Как пришпорить? Поллитра на ниточке подвешивать? Кто дотянется, тот пан!… Лады! Приду, приду сегодня, Огнежка,
Акопяны, наконец, переехали в свой дом. Теперь у Акопяна был свой долгожданный кабинет с чертежными досками. Ермаков был и архитектором и прорабом “замка Огнежки”, как шутливо именовалась застройка арки в новом корпусе. Ермаков обошел свое творение со всех сторон, одобрительно прищелкивая языком.
Арка выходила на пустырь, она, строго говоря, была здесь ни к чему. Ермаков решил застроить ее после того, как начальник управления Зот Иванович Инякин, брат Тихона Инякина, отказал Акопяну в квартире: “На пенсионеров не напасешься…” На другой день Ермаков добился в горсовете разрешения застроить раздражавшую его арку, а еще через два дня грузовики подвезли сюда кирпич и железобетонные блоки.
Дверь открыл Ашот Акопян. Сказал, что их замок только что взяли приступом Огнежкины друзья и воздыхатели.
– Сергей Сергеевич, пройдемте тихо прямо в кабинет, к пульману, наши чертежи готовы. Они пусть беснуются. Без нас.
Прихожая “замка Огнежки” и в самом деле напоминала замок рыцарских времен. Высокая, в два этажа. Потолок аркой. Лестница, которая вела на верхний этаж, покоилась на основании из белого кирпича. Хотя лестница размещалась внутри квартиры, Огнежка попросила, чтоб “выдержать стиль”, не заштукатуривать этот кирпич.
“Не хватает лишь рва и подъемного мостика, -весело мелькнуло у Ермакова, – и… царевича Димитрия”.
Поправив перед зеркалом галстук, Ермаков приложил ко рту ладони рупором и возгласил своим гулким басом:
– Марина Мнишек! Я царевич Дмитрий!..
Это сразу расположило к нему, если не Огнежку, которой было не до шуток – у нее подгорал гусь, то, во всяком случае, ее гостей, незнакомых Ермакову молодых людей, которые высыпали на лестницу, навстречу “царевичу Дмитрию”, неся кусок пирога и наперсток с вином для опоздавших.
“Царевич” оказался в летах. К тому же у него были круглые щеки и такое брюшко, что какой-то юноша в синем костюме присел от хохота, хватаясь рукой за перила.
– Лжедмитрий! Это видно с первого взгляда! – кричал он. – Самозванец!
Молодые люди за спиной юноши завели хором, размахивая руками в однн голос: – Пейдодна! Пейдодна!
Товарищи Огнежки, они представились почти в один голос– имен их Ермаков не разобрал. Взглянув на накрытый стол, за который сегодня присаживаться ему было недосуг. И все же наметанный глаз засек: водки на столе не было. Одна бутылка Цинандали. На всю братию?!
“Интеллигенция гуляет…” мелькнуло весело. И тут заметил с дальнем углу стола Игоря Ивановича
Мелькнуло ревниво: “Тут ему и место, университетчику”.
– Игорь Иванович, – весело прорычал он.– Рад вас видеть в семейном кругу. Разрешите один бестактный вопрос. Заметил своим хитрым глазом, Огнежка прорабов в гости не приглашает. Чаще музыкантов. Пианистов и флейтистов. Значит, вас приравняли к дудочнику.
– Нет, Сергей Сергеевич, я тут прохожу, как Маркс и Энгельс.
Огнежка произнесла нынче спич в мою честь. Начала со слов. “Твои идеи народовластия…” Вот так! Прошу любить и жаловать.
Ермаков и Акопян захохотали, поздравили Некрасова с народным признанием…
Ермаков был несколько задет тем, что тонная Огнежка назвала Некрасова “на ты”. Настолько сдружились?
Ашот Акопян тянул Ермакова за руку в кабинет. Работать. К пульману. “Кальки чертежей готовы”. Ермаков отбивался. Ему почему-то захотелось пусть ненадого, но задержаться.
Серые глаза Некрасова вежливо улыбались Огнежке. Но выпяченные мальчишеские губы, как уж не раз замечал Ермаков, были откровеннее глаз – они приоткрылись от удивления.
Из-за шутливого “ты”?
Парень явно был взволнован. Но, видно, не только тем, что рядом была дерзкая и остроумная Огнежка, неожиданно позвавшая его на свой “мальчишник”. Ермаков проследил направление его взгляда, шарящего по стенам.. А, вот в чем дело? – понял успокоенно.
Все в этой комнате было пронизано памятью о Серго. Большой, по грудь, портрет Серго Орджоникидзе, написанный маслом, был водружен в простенке между широкими окнами. Маленький, из красной меди, бюст стоял на пианино. На бюст падало закатное солнце, и голова Серго на черном и лаке пианино пламенела
Игорь Иванович спросил вполголоса Ермакова не столько голосом, сколько взглядом. – Отчего так?
– Допей свой наперсток, все станет ясно.
Ермаков попросил Огнежку принести ему семейный альбом Акопянов с потускневшими от времени вензелями на обтянутой черным бархатом обложке. Он разглядывл его не однажды. Альбом был старинный, передавался из поколения в поколение. Открывался портретом старухи с гордым профилем на дагерротипе. Ермаков пояснил, что это внучка казненного Екатериной II польского повстанца, известная революционерка.
– Огнежка, наколько мне известно, дали имя в честь нее – Агнешка. Правильно, Огнежка?
Игорь принялся быстро листать альбом. На нескольких фотографиях Серго был снят рядом с Акопяном . На одной – Серго что-то говорил Акопяну из глубины “Эмки” . На другой – Акопян показывал Серго новый фабричный корпус со стенами из стекла.
Ермаков рассеянно сунул свой пустой наперсток в карман, что было тут же замечено веселяшимися гостями, что Ермакова не смутило.
– Воровство – это моя фамильная черта, -шутливо ответствовал он, призвав в свидетели хозяина дома..– Вот Акопяна, кстати, я тоже украл…У Хрущева.
Акопяна он, в самом деле, приметил на совещании у Хрущева. Еще на Украине. Никита, не разобравшись, окрестил во гневе группу инженеров, подавшую резкую докладную о нуждах жилищного строительства, в те годы – мертвого – доморощенными мыслителями. Все смолчали. Запротестовал лишь один, длинный и сутулый человек с покатыми плечами, чем-то похожий на стебель полыни, примятый колесом.
Ермаков любил людей независимых, задиристых, языкатых. Если человек может отстоять себя, значит, он и дело отстоит. Он тут же заинтересовался – Кто такой?
Начальник Ермакова, Зот Иванович Инякин, быcтренько выяснил в “соответствующих инстанция”х: – Акопян Ашот. Спасал, откачивал затопленные шахты в Донбассе. Жена– полька, ушла от него во время войны к генералу войска польского. Вообще человек сомнительный.
Другие называли Акопяна склочником, неуживчивым человеком. Ермаков навел справки. Не только на Лубянке. Тогда-то он узнал, что Акопян “из гвардии Серго” (так его впоследствии с гордостью представлял Ермаков), В день смерти Орджоникидзе Акопян был доставлен в больницу с сердечным приступом, а затем в тюрьму: Каганович объявил на совещании промышленников: “Акопян – международный шпион, он – расстрелян”.
Что там говорить он, Ермаков не ошибся в выборе. Акопян как инженер был выше, чем он, на две головы И– смел до дерзости, – не прошла для него даром школа Орджоникидзе.
Игорю и в самых страшных снах не грезилось, что он “загремит” в Мосстрой, когда Акопян, чтоб не сорвать графика стройки, рискнул заложить первые дома в Заречье без технической документации; документацию эту проектные институты везли на волах. На такое мог решиться лишь Акопян. Когда Зот Иванович Инякин спрашивал Ермакова, как он ужился со склочником, Ермаков отвечал, хлопая Зота Ивановича по плечу:
“Среди живых Акопян уживется”.
На нескольких фотографиях Акопян был изображен в доспехах охотника. Болотные сапоги на ногах. Двустволка за плечами. Не хватало лишь одной детали– ягдташа с дичью.
Акопян, по ироническому наблюдению Ермакова, был охотником-теоретиком. Он был неспособен убить не только зайца, но, наверное, и комара. С охотничьим ружьем в руках он уходил от людей, от их споров, не связанных с техникой, от объяснений с дочерью, которую он не посвящал в свои раздумья о “выводиловке”, которая ныне вылилась в форму управления страной. Стала узаконенной разновидностью бандитизма, говорил Акопян, и Ермаков не мог отказать его мысли в последовательности..В самом деле, закон “горит” во всех сферах жизни. Суды и расстрелы, по сути , та же самая “выводиловка, лишь доведенная до своего завершения…
Ермаков отобрал у Игоря Ивановича альбом, с удовольствие поведал, что и этот круг полированного дерева, и шкафчик для магнитофонных лент, и стремянку на колесиках для книжных полок Огнежка сделала сама. А как прихожую удумала? Она – строитель. Прораб. Каждой каплей крови.,.
И тут он заметил картины. Много картин, они были и на фанерных щитах, и прислонены к стене.
– Да тут вернисаж. Картины только несколько странные.
– Вот это например. Полоски, пятнашки сверху донизу, а надпись “Холодное молоко”. При чем здесь молоко?
Парень в ярком и многоцветном свитре усмехнулся снисходительно. -Когла пьешь ледяное молоко, мурашки по всему телу. Это ощущение художник и передал.
– А, так это импрессионизм! – догадался Ермаков, которого на западе, хотел он этого или не очень, поводили по музеям. Он искоса поглядывал на Огнежку, которая перебирала ленты магнитофона. То и дело смотрела в окно, похоже, ожидая кого-то…. Включила одну из лент, послышались звуки клавесина, негромкие и медлительные до чопорности, – полонез.
Огнежка и в самом деле ждала…. Утром ей принесли ворох поздравительных писем. Одна из иллюстрированных открыток – на ней был оттиснут орущий благим матом младенец со щеками-помидоринами -была без подписи. Эту открытку Огнежка не показала отцу.
Почти два года Огнежка дружила с Владиком, студентом консерватории. Но приходить в его дом было для нее сущим наказанием. Ее раздражало там все. И кресла в белых чехлах, и фальшиво-преувеличенная хвала таланту Влададика. Огнежка не переносила оскорбительных комплиментов матери Владика “Ума не приложу, Агнесса, как вам удалось сохранить себя в том хамском мире…”
Само собой предполагалось, что, выйдя замуж, Агнесса немедля уйдет со стройки. Но она предпочла уйти от Сергея. И вместе с тем в ней жила надежда, что Владик придет….
И вот сегодня открытка… :
Ермакова насторожил взгляд Огнежки, в котором проглянули ожидание и тоска. Он привстал со стула, воскликнул, ни к кому не обращаясь: “Ну нет!…”. И, выступив вперед, церемонно шаркнул ботинком по блестевшему желтоватым глянцем паркету.
– Огнежка! Пшепрашем… или как там?
Вот уж никто не думал, что Ермаков выдержит темп Огнежки Акопян! Крупный, опущенный живот его колыхался в такт мазурке, а когда Ермаков приседал,– словно бы проваливался вниз, – думалось: не встать ему. А он уже был в противоположном конце комнаты – вниз! вверх! вниз! Вверх! Зацепившись носком башмака за неровность паркета, он на мгновение остановился; пышущее жаром лицо его стало таким, что казалось, он сейчас воскликнет в гневе: “Кто клал?!”
Сергей Сергевич выдержал аж три головокружительных круга. Затем Огнежка заставила себя сказать “Уф!” и остановилась. После чего предложила шутливо: “ПередОхнем, Сергей Сергеевич? Ермаков не оставлял Огнежку ни на минуту. Она начала учить его старинному и более спокойному польскому танцу куявяк. Ермаков покачивался всем корпусом взад-вперед, в такт все убыстрявшемуся стаккато, напоминая своими движениями бегемота, который плещется в воде. На него нельзя было смотреть без хохота.
– Прораб! – восхищенно пробасил Ермаков, возвращаясь к Игорю Ивановичу и шевеля оттянутую на груди рубашку. Для Ермакова не было звания выше и почетнее прораба, он еще долго не мог успокоиться. – Прораб она! Прораб до мозга костей!
Игорь Иванович потер ладонью щеку, как всегда, когда его осеняла какая-либо догадка. Спросил вполголоса: – Почему именно прораб?
Ермаков недовольно повел плечами: – Тебе-то и спрашивать совестно! Прораб – это… Акоп! Разъясни ему, что такое прораб.
Акопян изо всех сил тащил Ермакова в кабинет, говоря, что у них работы часа на три, прислали гору синьки, и не понимая, почему тот так упрямится. Он выругался. Но, видимо, привыкнув к чудачествам своевольного Ермака, все же бросил на ходу, что прорабы – непременно оптимисты. Люди веселые, неунывающие.
– Главное все же не это, -бросила Огнежка, торопливо роясь в каких-то бумагах. – Прорабы прежде всего самостоятельны. Упорно отстаивают свою собственную точку зрения. Всегда! Это их профессиональная черта.
Ермаков, уже у дверей кабинета хозяина,. обернулся, поддержал ее: – Это точно. Им лучше не мешать.. Коли прораб имеет собственную идею, пусть даже ослиную,. пусть лучше по своей сделает хорошо, чем по чужой хорошей плохо… Э, да что там толковать! – Он показал рукой на Огнежку, которая перебирала какие-то бумаги. – Вот вам прораб. В натуру. Как вы, наверное, уже постигли, осел по упрямству сравнительно с этим прекрасным прорабом– котенок. – И открыл дверь кабинета.
Огнежка метнулась к Ермакову со стопкой листков. Попросив тишины, она перелистывала бумаги, которые оказались ее заявлениями на имя управляющего Ермакова. В каждом заявлении Огнежка просила вернуть ее на высотную стройку
прорабом. Все завершались резолюцией Ермакова “Отказать”.
Все листочки читать, гордячка, не стала. Подняла над головой только верхний листок, который был перечеркнут из угла в угол красным росчерком Ермакова: “ОТКАЗАТЬ.”
– Вот, видите?! Прораб Агнешка Анопян хочет осуществить собственную “ослиную” идею. – НЕ ПОЗВАЛЯМ, как кричали самоуправные панове в старом сейме.
Ермаков, по обыкновению, прибег к всегда выручавшей его шутливой интонации: – Подловили, черти зеленые! Оплели-опутали. Как по нотам разыграли.. – Он взял у Огнежки пачку докладных, присел на диван. Рука его непроизвольным движением скомкала уголок верхнего листочка, тут же разгладила измятое “Отказать”. И кто ей голову заморочил?! Жила тихо-мирно..”
Огнежка долго готовилась к минуте, когда она сможет “при всем честном народе” переломить самонадеянного упрямца, который не принимает ее, как настоящего прораба, всерьез; перебрала, наверное, с тонну нарядов и заявок, вычисляла, прикидывала, чертила графики, думала.
Насмешливо-самоуверенный вид Ермакова сковывал ее. Однако управляющий не был в эту минуту ни насмешлив, ни самоуверен.
Он жалел Огнежку. Припомнилось, что таких, как Огнежка, в тресте было двадцать с лишним человек. Целый взвод. Он собрал выпускников в кабинете, поздравил с тем, что они наконец, как он выразился, перестали быть дармоедами государства. – Здесь грязь, холодище. Иной раз грохнут над ухом лошадиным матом… – говорил он. – Наступление. Где, как не во время наступления, проявить себя! Берите в свои руки управление огнем.
Взяли, как же! Если б только хлюсты дезертировали, если б только они ползком-ползком – да за столы канцелярские!.. И хороший народ бежал. Он, Ермаков, шумел на них скорее для порядка. Может быть, он не прав, но он их не обвинял. Нет! Они бежали не от дождя или холода. Не от низких ставок. Они спасались от безвылазной “расейской распутицы”, в которой увязали, тонули все их благие начинания. Им, инженерам, осточертело слезно скорбеть о неустранимых простоях. Им, молодым энтузиастам, претила роль нечистых на руку доставал. Они не желали идти по стопам “порченых”, которые покровительственно похлопывали молодежь по плечу, на деле следуя принципу: “Топи щенков, пока слепые”.
…Огнежка страдала от того, что еще ни чего не высказала, а от нее уже готовы отмахнуться; как от ребенка, который назойливо вмешивается в разговоры взрослых.
– Слушайте же! – воскликнула она сдавленным голосом, пытаясь перекрыть ермаковский бас. – строительную бригаду следует расширить, влить туда и каменщиков, и плотников, и такелажников. Платить за конечный результат..
– Короче – котел! – быстро перебил ее Ермаков.– С общей выработки. По сути, тот же колхоз-губитель… Спасибо, колхозами уже сыты…
Инженер Ашот Акопян взял себе за правило: за дочь на стройке никогда не вступаться. Бросили с борта в воду-выплывет… Впервые он изменил своему принципу. – А если попробовать, Сергей Сергеевич? Пусть идея плоха. Вы же сами сказали: лучше пусть прораб по своей плохой идее сделает хорошо, чем…
Ермаков снова закрыл дверь кабинета. – Куда ни повернись Акоп-филантроп! То с шуркиными фонариками носится как с писаной торбой: “Небоскреб на колеса и “но-о, родимая!” То сиганет на четверть века назад… Что Огнежка предлагает? Прогресс? Узаконить артель она хочет, вот что! Так, бывало, подрядчик ставит ведро водки на кладку, кричит: “Ребятушки, сложите за день стенку-водка ваша!” При нынешнем развороте дела бригадир в такой бригаде должен быть о двух головах, о четырех глотках. Обеспечь-ка этакой махинище фронт работ! Талды-балды. Посадит нас дщерь твоя возлюбленная в тюрьму за развал строительства. Кто мне будет передачи носить?
Ермаков подошел к магнитофону, включил на середине запись Шаляпина, как бы говоря этим, что прения сторон окончены.
Сатана там правит бал..,– гремел могучий шаляпинский бас.
“Вот именно – сатана…” – бросила Огиежка вполголоса.
Этого Ермаков уже не вынес. – Акоп, чего мы стоим7! – вскричал он. – На работу! К пульману.
Когда гости, один за другим, прощались с Огнежкой, Игорь Иванович подумал об одной особенности треста Жилстрой No 3, о которой не принято было говорить. Почти каждого своего помощника Ермаков когда-либо выручал из большой беды, в которую тот попадал чаще всего благодаря своей несговорчивости, резкости – “языкатости”,
Акопян был избавлен Ермаковым от репутации склочника и “сомнительного человека”, которая много лет следовала за ним по пятам
Ермаков вовсе не выискивал попавших в беду, чтобы позже они служили ему верой и правдой. Просто он узнавал о людях, которые приходились ему по душе, главным образом тогда, когда над ними нависали тучи. И те никогда не забывали, кому они обязаны. В этом была большая сила треста, но в этом, видел теперь Игорь, таилась и грозная опасность. Помощники Ермакова, смелые, крутые на язык в кабинете управляющего, на общем собрании или на бюро горкома теряли дар речи.
Ермаков, в конце-концов, переставал считаться со своими инженерами, которые, как бы ни пришлось им солоно, сора из избы не вынесут. Он стал относиться к ним почти так же, как к тем плотникам, печникам, пастухам, которые, как Чумаков, пришли в трест четверть века назад, на сезон, от спаса до покрова, а потом осели в городе, выдвинутые Ермаковым в бригадиры или даже в прорабы. “Это надо было мне давно иметь ввиду”,– Игорь понял, что Огнежке надо активно помогать
Когда Емрак с Акопяном часа через два вышли из кабинета, Ермаков вскричал удивденно:
– А где гости, перед которыми Огнежка меня распяла на кресте?.. Кто они, кроме будущего классика?
Огнежка перечислила: – Одинн пианист, два художника, один поэт.
– И ни одного прораба?! Или хотя бы архитектора?! И пред ними меня распинали?!… Огнежка, такого позора не ожидал… Игорь Иванович, намекнул бы… Кстати, все ушли, а вы, Игорь Иваныч, задержались…
– Это бывает, Сергей Сергеевич. Одиссея, который рвался домой, на свою Итаку, волшебная нимфа Калипсо задерживала целые семь лет. – А меня нимфа Огнежка держит всего два часа.
– Нимфа, уволю! – с грозной шутливостью произес Ермаков.
– Кроме того, Сергей Сергеевич, – перебил своего патрона Игорь.– Надо было вас выручать.. После такого рабочего рывка, вы же мукузани не ограничитесь. А я тут с “Москвиченком”. -
– Дорогой мой спаситель! – Ермаков не удержался от сарказма,– задержались вы совершенно напрасно. Акопян мой молочный брат. Он вот уже двадцать лет пьет только молоко. Козье, к тому же. А я бы вызвал свою машину…
Игорь Иванович ответил со стеснительной улыбкой.
– Простите, я совершено забыл, что вы, Сергей Сергеевич, давно живете в мире древнегреческой философии. От “Илиады” Гомера до Эсхила и Еврипида все сообщали нам о БОГАХ НА МАШИНАХ, и губивших и спасавших их героев. И это правда на все века. Кто ныне наши губители и спасатели? Бог на колесах Хрущев. Бог на колесах Ермаков.
– Иронизирует, злой мальчик, – сказал Ермаков Акопяну. – Не перед нимфой ли так разошелся? А где она, кстати? Куда вдруг исчезла? Легла спать?! Молодец! В девять утра как штык будет на работе.
Встряхнув уставшей головой, оживился неутомимый спорщик и иронист Ашот Акопян.
– Игорь Иванович, не сообщили ли вам Боги что-либо о колесах, на которых они прикатывали на свою тяжелую работу?.. Мне, как инженеру и бывшему кучеру лагерной водовозки на двух неравных колесах, это крайне интересно!.. Колеса, как выяснил, впервые появилсь на шумеровсклй пиктограмме 35 века до нашей эры. На ней была изображена повозка – сани на колесах, вырезанных из дерева целыми дисками. А ваши любимые Боги мчались спасать или убивать героев и на “радужных крыльях”, и на “бессмертных конях” и даже на “крылатых змеях”. О колесе ваши дорогие любимцы, похоже, еще и понятия не имели… Бесконечно отсталый древнегреческий мир!
Игорь засмеялся. – Господин Ашот, вам судьба писать книгу “Инженерия на Олимпе”. Нами, филологами, оно будет увенчано, как золотое руно ХХ века… Кстати, бродячие певцы– аэды и рапсоды сообщали, что отсталые Боги не пренебрегали и “золотыми колесницами”…Титан Океан, скажем, являлся миру на крылатой колеснице… И это вовсе не “чистая мифология”, господин инженер! Олимпийские игры возникли в Греции в первом веке до нашей эры. Первые игры состоялись в 776 году д.н.э. Среди различных состязаний представлен и “бег на колесницах”…
Следовательно, вполне правомерно то, что я посадил Богов на машины, в том числе, и колесные…
– Ашот, не спорь с профессором! Это племя не переубедишь!..
– Господин инженер, на сдавайтесь! – Игорь засмеялся – Еще шаг, и вы поверите, что о колесах греческие Боги знали всегда. До всех древних инженерий.








