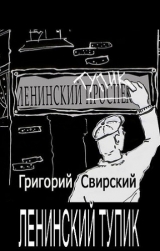
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Разноголосый гул не прекратился, лишь чуть поутих, когда в кабинет вошел стремительным шагом маленький кособокий Зот Инякин. Лицо усталое, тусклое, как лампочка, горящая в полнакала.
Под глазами тени. Он кивнул сразу всем и, не медля ни минуты, раскрыл журнал в толстой картонной обложке – в такие обложки в старое .время переплетали церковные книги.
– Трест Мосстрой номер три… – забасил Зот Иванович – Корпус семь. Пятнадцатый квартал. Записано, что передается под отделку двадцатого июня… Как так не сдадите?!
Спустя четверть часа Игорь Иванович начал нетерпеливо поглядывать на инякинский журнал: сколько времени протянется “давай-давай”?
От скуки он начал разглядывать кабинет Инякина. Над головой Зота Ивановича висела цветная диаграмма строительств бетонных заводов, заложенных в этом году,-красные кривые молчаливо призывали жаждущих бетона управляющих к терпению.
Дубовые панели по стенам.. Дубовые двери, высокие и резные, как во дворцовых покоях. Книжные шкафы под цвет дубовых панелей. Объемистые книги в них.. под тот же дубовый цвет. Прислушиваясь краем уха; к возгласам управляющих, Игорь Иванович сделал любопытное наблюдение, как ему сперва показалось – чисто филологического свойства.
В каждой профессии, как известно, кроме специального жаргона, существуют слова, хотя и общеупотребительные, но связанные с данным делом, что назывется пуповиной. У управляющих строительными трестами тоже оказалось свое кровное словечко, столь же близкое им, как морякам, например, слово “компас” или астрономам – “Орбита”. Даже не одно словечко – целое выражение, Оно, правда, не помечено в этимологических словарям как строительное, но кому же не известно, что этимологические словари отстают от жизни в лучшем случае лет на сто.
Исконным выражением своим управляющие стройками, по наблюдению Игоря Ивановича, считали словосочетание “пиковое положение”. Бог мой, что они, по праву хозяев, творили с этим выражением!
– Меня загнали в пику! – кричали с краю стола, – У него пика! – поддакнули от дверей. – И мне пику устроили! – взорвался молчавший доселе сосед Игоря Ивановича.
– Я вторую неделю с пики не слезаю! – Это воскликнул, вскакивая на ноги, средних лет мужчина в дорогом синем костюме со следами белых масляных брызг на рукаве, Иван Анкудинов, или “Иван-рызетка”, как с добродушной ухмылкой называл его Ермаков. Игорю Ивановичу нравился порывистый, горячий Анкудинов. У него открытое, простодушное лицо, металлические зубы,– свои он потерял, выпав некогда из малярной люльки. Хоть Анкудинов порой и называл розетку “рызеткой”, но чувствовалось – не доставь ему вовремя этой самой “рызетки”, он поднимет с постели, если понадобится, и самого председателя исполкома.
– Кто может сразу после штукатурки делать малярку? Ты можешь? Он может? Я не могу. Сыро! – Анкудияов вел себя так, будто он и в самом деле, был посажен на острие пики. Он дергался всем телом, размахивал руками и кричал, кричал захлебывающимся голоском, тщетно пытаясь обратить на себя Внимание Зота Ивановича Инякина. – А как с паркетом? Нет букового паркета.
Его успокаивал сосед тягучим, добродушнейшим басом: – И я, друг, на пи-ике.
Игорь Иванович пытался отделаться от своего навязчивого и, как он думал, чисто языковедческого наблюдения. Он пришел к Инякину вовсе, не за этим. Но вскоре он отметил с тревогой, что его наблюдения, кажется, выходят далеко за пределы стилистических… Почти каждый управляющий утверждал, что он “в пике” или “на пике”. И молил, требовал немедленной помощи… Возможно, некоторые преувеличивали. В бригаде Староверова, подумал Некрасов, дела похуже. Но так или иначе, Инякину следовало бы вмешаться, по крайней мере разобраться.
Но разобраться ему было, по-видимому, недосуг. Как только произносилось слово “пика”, скрипучий, с металлическими нотками голос Инякина начинал звучать, как глушитель: – Переходим к корпусам треста Моссетрой номер четыре.
– Букового-то… букового паркета нет! – все еще пытался докричаться до своего отчаявшийся Анкудинов. – Сырой, из сосны, ставить чистое преступление. Вот и пика.
Глушитель покрыл его голос:– Двадцать восьмой квартал. Больничный корпус намечен к первому июля… Как так не успеете?!
Игорь Иванович пригнулся к Огнежке, чтобы сказать ей, что, по-видимому, к Инякину нет смысла обращаться. Он не произнес ни слова, увидев руки Огнежки, лежавшие на ее коленях. Худые, обветренные руки ее. со сплетенными пальцами были заломлены.
16
Ночью Огнежке приснилась вращающаяся дверь, из которой один за другим выскакивали управляющие трестами. Они разевали рты,– видно, хотели что-то объяснить, может быть, предложить иные сроки. Но дверь нестерпимо резко, инякинским голосом, скрипела: “Давай-давай!” Управляющие не мешкали. Замешкаешься– наподдадут сзади так, что вылетишь на улицу, сам в одну сторону, портфель – в другую. Огнежка приостановилась на мгновение, чтоб объяснить гибнет новая бригада… Дверь отшвырнула ее на мостовую…
Огнежка проснулась с гнетущим ощущением своего бессилия. Вчера их даже не захотели выслушать… Она окликнула отца. Отец уже ушел. Огнежка быстро оделась, разогрела кофе. Выйдя из дома, остановилась возле подъезда в нерешительности.
В ночи светился опоясанный пятисотсвечовыми лампами корпус. Ее корпус. Лампы всегда вызывали у Огнежки представление об иллюминации. О празднике… Она знала: там ждут ее. Ждут вестей. Не в силах идти туда, Огнежка свернула в трест.
– Где Некрасов? – спросила она секретаршу Ермакова.Та пожала плечами.
– А Ермаков?
– Здесь.
Огнежка переминалась с ноги на ногу. Секретарша подняла голову от стола:
– Идите, идите, Огнежка! Он сегодня какой-то необыкновенный. Двум прорабам разрешил отпуск летом.
Секретарша у Ермакова новая. Ермаков долго уговаривал ее, вдову академика архитектуры, с которым, Ермаков был некогда дружен, поработать у него годик “для исправления манер”.
Огнежка никогда бы не поверила, если бы не видела сама, как действовала на людей эта дебелая дама, почти старуха, являющаяся на стройку в платьях строгого покроя, с неизменным кружевным воротничком немыслимой на стройке белизны. При ней никто – и прежде всего Ермаков – не смел не только садануть “лошадиным матом” – об этом и речи быть не могло, – но и голоса-то повысить… Старики каменщики называли ее графиней Шереметевой и, входя в трест, тщательно, с мылом и щеткой, мыли руки: “графиня” имела обыкновение протягивать свою белую и пухлую руку; удерживая в ней чьи-либо немытые, в краске или кирпичной пыли, пальцы, покачивать головой…
“Нынче в трест идешь как в церкву, – жаловался Огнежке Тихон Инякин. – Сапоги и те час моешь…”
А Огнежке почему-то были противны манеры секретарши, они казались ей надменными, барскими… “Зачем ее посадили сюда? – подумала она.– Чтоб на весь свет слава пошла: Ермаков перестраивается, кепок с голов не срывает, простых людей зауважал… С каждым-де в его приемной на “вы” и “пожалуйста”… Все для вида, пыль в глаза пустить. Заслонить свежим кружевным воротничком грязь Чумакова…”
– Идите, идите, – повторила секретарша Огнежке, которая повернулась к выходу. – Он сегодня, мало сказать, в духе… Таким я его еще и не видела.,. Куда же вы?!
Ермаков и в самом деле никогда еще не был таким мягким и сдержанным, как сегодня. Он даже бранил людей с улыбкой приязни к ним, даже водопроводчика-рвача и пьяницу – не выгнал из кабинета, как обычно, а кивнул ему на прощание и пожелал скорейшего вытрезвления. И лишь когда тот вышел, Ермаков нервно повел плечами и подергался, точно на нем был костюм, не по нему сшитый, узкий в груди, с короткими рукавами, – казалось, из-за этого Ермакову и руки приходилось держать под столом.
Похоже, Ермакову не терпелось скинуть с себя этот связавший его движения костюм, но он продолжал сидеть в кресле, складывая руки на животе и улыбаясь всем, кто входил в его кабинет.
Ермаков готовился звонить Зоту Ивановичу Инякину, Инякину-младшему. Молить о железобетоне…
Вспыльчивый и резкий, Ермаков опасался: как только Зот Иванович откажет, он, как уж не раз бывало, нагрубит ему и тем окончательно погубит Огнежку и все ее начинания, поразившее его, Ермакова, своими возможностями… Чтоб не сорваться, не накричать на собственное начальство, Ермаков с утра, что называется, “брал разбег”…
Проводив очередного посетителя, Ермаков, в который уж раз, взглянул на телефонную трубку. Ее прохладный глянец неизменно вызывал в памяти какое– либо столкновение с Зотом Ивановичем. Ермаков клал трубку на рычаг и… принимал еще одного посетителя– “для дополнительного разбега.”
К полудню от насильственной улыбочки у Ермакова свело скулы. Если когда-либо он проштрафится, его следует не в тюрьму засадить, а в какое-нибудь посольство. Хуже каторги!
Но как иначе достать железобетон? Вчера он обзвонил, наверное, всех знакомых ему управляющих трестами, не даст ли кто взаймы перекрытий… Одни, как он и предполагал, изображали из себя сирот казанских (“последний кусок доедаем!”), другие рады были бы оказать услугу Ермакову, да сами сидели у разбитого корыта; третьи, выслушав, отвечали мрачновато – насмешливо: “Отдай жену дяде…”
Большие надежды Ермаков возлагал на Чумакова, но тот словно с цепи сорвался, заорал исступленно в телефон, что он скорее на рельсы ляжет, чем “этой хвостатой помогет. Облаила меня и умчалась, стервь не нашего бога!”. И, что уж вовсе было не похоже на Чумакова, добавил: пусть хвостатая на том корпусе хоть стены крушит шар-бабой! Он, Чумаков, и не шелОхнется!..
.Ермаков швырнул трубку на рычаг, чтоб не наговорить Чумакову злых слов, и снова потянулся к белой пуговке звонка. – Следую… – зарычал секретарше и, спохватившись, повторил умиротвореннее: – Следующий!
Приняв всех посетителей, Ермаков наконец настроился: на мирный лад, – по его мнению, настолько, что мог бы уже спокойно побеседовать хоть с самим сатаной. И лишь тогда набрал номер Инякина-младшего.
– Зот Иванович!.. Как здоровьице? Решился я оторвать, вас от государственных дум. (“Не иронизируй, идиот!”} Понимаете, Зот Иванович, какая штука. Квартальный лимит железобетона мы съели за месяц и десять дней… Ну да, комплексная бригада. Ваше детище. Содрали они с меня последнюю рубаху. Чудеса показали. Цифры знаете?.. Хорошее вы дело поддержали, а я недооценивал. (“Так держать!”) Размаху .у меня не хватило. Чувства нового. (“За это, пожалуй, даст”.) Нe проявил я государственного подхода, (“Даст, пес его разорви!”) Подкормите, Зот Иванович, свое детище?
В трубке долго, – похоже, ошеломленно,– молчали. И немудрено. Не сразу признаешь за голос Ермака вот это ублаготворенное и вместе с тем нетерпеливое урчание медведя, в мыслях своих уже забравшегося на пасеку.
Наконец послышался настороженный, глухой голос Инякина-младшего: -Нет железобетона, Сергей Сергеевич. У меня уже был твой… Некрасов. Ни одного куба1 -И, видно опасаясь, что таким ответом он отбросит дружелюбно протянутую ему – в кои-то веки! – руку Ермакова, Инякин внезапно зачастил скороговоркой Тихона, своего старшего брата: – Сегодня у нас семейное торжество, Сергей Сергеевич. Отцу нашему восемьдесят. Как водится, отмечаем.,. Обещал быть… – он назвал фамилию са-мо-го… председателя Моссовета. – Приезжай – встретишься с ним в неофициальной обстановке. Думается, это лучший выход.
Ермаков, буркнув в ответ что-то неопределенное, бросил трубку. Несколько минут сидел неподвижно, сложив руки на круглом животе, затем вскочил на ноги, раскинув локти по сторонам, как крылышки, точно намеревался куда-то упорхнуть.
И вдруг грузно осел на стул – в приоткрытых дверях стоял Игорь Иванович Некрасов с пачкой заявлений в руках.
– Поначалу, Сергей Сергеевич, организуем шестнадцать таких же бригад, – Игорь Иванович потряс мятыми листочками, – где все делают все! Где плата за готовый этаж, без “выводиловки”… Если каждая из таких бригад на нашей стройке
повысит производительность иа сорок процентов, как бригада Староверова…
В ответ прозвучали какие-то рыкающие звуки: – Никаких бригад, никаких этажей!
Игорь Иванович начал потирать указательным пальцем над верхней губой, что было верный признаком гнева, и вышел, не сказав ни слова. Из приемной Ермакова он позвонил в ЦК, в секретариат Хрущева
– Передайте Никите Сергеевичу, что Некрасов из Мосстроя просит его принять. Срочно! Останавливается строительство.
Ермаков, держа трубку параллельного телефона, слушал голос своего романтика; показавшегося ему в своем крутом негодовании великолепным: Осторожным движением положил трубку. удовлетворенно крякнул: “Этот может!,,”
Время было ехать к Инякину. Квартира Инякина находилась в некогда тихом месте, на набережной, напротив парка культуры; Ермаков распорядился свернуть в противоположную сторону, к вокзалу, где начал работу соседний трест… У ближнего котлована Ермаков вылез из машины. Котлован, вокруг которого громоздились красноватые отвалы глины, был только начат; вот-вот хлынут талые воды, работу… приостановят.. Фундаментстрой явно отстал от графика, но железобетон уже был завезен. Вдали серели штабеля перекрытий, которые понадобятся здесь, Ермаков прикинул: в лучшем случае, через месяц-полтора…
Ермаков вынул из кармана демисезонного пальто блокнот, сделал записи, царапая пером вечной ручки бумагу И приговаривая мысленно: “Выскользнул, угорь! Юркнул за чужую спину! Ну-ну…” ‘
Вдалеке ползла густая и неоседающая, как газовое облако, пыль. Экскаваторы разрывали бывшую городскую свалку. Пыль вздымалась то бурая, то сиреневая -ковш какие-то химикаты разворошил, что ли? Фундамент здесь будет глубокий, дом придется ставить на сваи. А перекрытия уже сгружают с машин. Точно по графику!
От вокзала Ермаков двинулся к аэродрому, оттуда в центр города – на все объекты, находившиеся под воЛодением “болярина Инякина-младшего”, как давным-давно окрестил Ермаков своего недруга. Там и сям серели штабеля междуэтажных перекрытий: у законченного дома, подле законсервированной постройки…
Уже стемнело, а Ермаков все колесил и колесил по городу, нащупывая плиты перекрытий фарами автомашины. Желтоватые снопы света скользили, как лучи, прожектора; они выхватывали из мрака стены корпусов, груды сброшенного навалом кирпича, размочаленный тес, узкие плиты перекрытий; плиты кое-где лежали одна на другой, высотой чуть ли не в два этажа; нижние плиты треснули под тяжестью.
“Выскользнул, угорь… Н-ну!..”
Ермакову стало жарко, он расстегнул крючки пальто, дышал тяжело. Теперь, когда в его блокноте находился словно бы мгновенный снимок хозяйствования Инякина-младшего, можно было, пожалуй, ехать к нему в гости.
Он вытер платком лицо и, откидываясь на заднем сиденье вездехода, пробасил глуховатым тоном:
– Еду и думаю. До чего же нечеловечески живуча советская власть!
Зеленый котелок шофера (он носил велюровую шляпу котелком) не шелохнулся, лишь спустя некоторое время послышалось недоуменное,– видно, шофер уловил сдерживаемую ярость в голосе Ермакова:
– То есть в каком это смысле, Сергей Сергеевич?
Ермаков повторил, смяв в пепельнице окурок:
– До чего же нечеловечески живуча наша рОдная власть, если мы ее до сих пор еще не угробили таким хозяйствованием!..
Ермаков долго удерживался от соблазна, обозвал себя за колебания “бабой в штанах”. И лишь по дороге к Зоту Инякину решился: отпустив свою машину, вызвал по автомату главный гараж тяжелых грузовиков, отдал приказ немедля увезти по его списку адресов перекрытия – к прорабу Огнежке Акопян…
Квартира Инякина находилась в некогда тихом месте, на набережной, отделенной Москвой-рекой от шумного парка культуры с его “колесом смеха” и прочими развлечениями подвыпивших горожан.
Ермаков дважды прошел, руки назад, вдоль темной громады дома, где жил Инякин, прежде чем позволил себе войти в подъезд. Ермаков ткнул большим пальцем в черную кнопку звонка с такой силой, что она зацепилась за что-то, звонок затрезвонил беспрерывно, вызвав в доме Инякиных переполох.
Дверь открыл сам Зот Иванович. Щупленький, брату Тихону по плечо, Зот Иванович сильно пожал руку Ермакову. Ермаков знал, что Зот Иванович заядлый тенисист, каждое утро развивает кисти рук. Руки у него действительно стали сильными и жесткими, и он любил, когда люди замечали это.
Ермаков едва ощутил пожатие Инякина, но тем не менее заставил себя воскликнуть: -Ти-ше, черт возьми! Безруким хочешь меня оставить?
Зот Иванович улыбнулся от удовольствия; – Тебя оставишь…
Проведя гостя до прихожей с панелями из красного дерева, Зот Иванович пояснил, что никого из знакомых Ермакова не будет:
– Родня понаехала, как водится… Волей-неволей пришлось ограничить круг приглашенных…
Ермаков воспринимал бесцветный голос Зота Ивановича необычно обостренно. И говорит-то словно прячется. То за обычай, древний, не им введенный: “понаехала, как водится…” То за извинительные обстоятельства: “волей-еволей пришлось…” “Угорь! Угорь!..”
Зот Иванович провел Ермакова по комнатам.
Когда Тихону Инякину говорили: “Купи себе новый ватник”, – он бурчал: “С каких доходов?” Брату стесняться было нечего. Он покупал лишь самое лучшее. Если лыжи – так многослойные, хоть для слалома. Свитер – так норвежский. Ермаков облегченно вздохнул, когда Инякин ушел, оставив его в крайней комнате, где сидел возле ломберного, покрытого зеленым сукном столика Иван Иванович Инякин.
У Ермакова была ручища, но уж у отца инякинскогого!.. Такой лапы Ермаков сроду не видывал. Каждый палец – два обычных человеческих пальца. Темная, жесткая ладонь, как дно сковородки. Бурые пальцы правой руки Ивана Ивановича шевелились, как щупальца. “Ухватистая ручка! – с уважением думал Ермаков.– Такой бы пошвырял кирпичики…” Пальцы левой руки были приплюснуты и вывернуты, как коренья хрена,– похоже, где-то придавило старику эту руку. Ермакову невольно вспомнились рукопожатие Зота Ивановича и единоборство с Тихоном.
Хвастовство силенкой у сынков, видно, от родителя… – Отец, разогнешь? – Подтянув вверх рукав пиджака, Ермаков согнул свою руку в локте, уперся локтем в ломберный столик.
Старик улыбнулся с гордостью, сказал:
– Не те годы… – Голос у него оказался неожиданно тоненьким, визгливым. Затем сплюнул зачем-то на ладонь и обхватил своими могучими пальцами широкую кисть руки Ермакова. Чтобы оттянуть ермаковскую руку, наверное, надобен был артиллерийский тягач, не менее. Но Ермаков – надо же доставить имениннику удовольствие! – попыжился, покряхтел, да и позволил старику прижать свою руку к ломберному столу.
Наверное, это был самый лучший, подарок, который сегодня сделали имениннику. Во всяком случае, самый радостный. Старик засмеялся характерным инякинским смешком, схожим своими шумными придыханиями и высокими, булькающими звуками с плачем. Потрепал Ермакова по плечу.
До семидесяти восьми лет Иван Иванович работал пильщиком на продольной пиле. Внизу сменялись одни за другими внуки, а наверху бессменно стоял старик, посмеиваясь над обессилевшими, сплевывающими опилки потомками.
– Бо-ольшую деньгу зашибал… – похвалялся он Ермакову.
Но тут вернулся Зот Иванович, прервал застольную беседу, предложив Ермакову, пока позовут к столу, “перекинуться в преферантик”.
Ермаков терпеть не мог преферанса. Он называл его игрой дичающей российской интеллигенции. Увязают в преферансе, говаривал он, где? В мягких вагонах или там, где собираются люди, которые не привыкли, не умеют или опасаются говорить об общественных или просто общих вопросах. Не общаться, в силу обстоятельств, невозможно. Вот и общаются – молча…
Ермаков высказал с полуулыбкой свой взгляд на преферанс – игра, естественно, не состоялась. Зот тут же сменил программу. Принес коньяк. Столь немыслимо дорогой, что Ермаков видал такой лишь в аэропортах, в винных отделах, под замком. Выпили хорошо. И тут Зота повело:
– Ермак, слух идет по миру, ты революцию готовишь в строительстве. Вот-вот объявишь… Не иначе ты слету еврейскую идею подхватил… Пошто еврейскую? Революционная! Ты кто? “Рязань косопузая”, как дразнили мы, калужане, вас. Родная кровь! Высота рязанца Ермака – отливки для блоков. Керогазы всякие – сушить штукатурку. Говорю, как со своим, без обиняков: ты – Ермак: с кляузой не побежишь! Донос – не твоя профессия!… Коли революционная – Акопян тебе дорожку проторил.
– Так он же не еврей. Чистый армян!
– Все они, кто не нашего бога людишки, жиды пархатые. “Великая” Литва нашему Ивану Грозному перебегала дорогу. А Кавказ? Чтоб его через коленку сломать, сколько русских солдат полегло?!
Кстати, мать у твоей Огнежки еврейка в четвертом поколении, хотя и ополяченная. . Сведения точные…
В этот момент Зота Инякина позвали к телефону. Разговор Зота с кем-то затянулся.
Отец инякинский тут как тут. Повел Ермакова показывать, как он живет Старик вел Ермакова , медленно, бочком спускаясь по скрипучей лестнице внутри квартиры. На ходу рассказывал доверительно:
– Годов, значит, этак-тридцать назад времечко было лихое. Я наказывал сынам. Тишке, тому, что плотничает на стройке, и Степану, – этого недоглядели, в бандиты пошел, царство ему небесное, – говаривал им, что ни подстелет вам жизнь под ноги, ковер дорогой или рогожку, чтоб одной бороздой шли. Сам знаешь, с чужими людьми дружись – за нож держись… -… У нас вокруг одни свои… Вишь, исполнилось. Одним двором живем.
Ермаков и раньше знал, что Зот Иванович объединил две квартиры, расположенные одна над другой, в одну. В верхней жил “сам”, как говаривали маляры из треста Мострострой, которые белили квартиры Инякиных; нижняя была прозвана ими “людской”. Там расположились, в четырех комнатах, Тихон Инякин с женой и сыновьями-школьниками, и отец, Иван Иванович. Здесь же останавливалась инякинская родня из деревни, наезжавшая в город на рынок с яблоками, грушей, медом, ягодами всех видов. Дармовые фрукты почти круглый год громоздились во всех комнатах, распространяя вокруг сладковатый аромат грушовки или свежесть антоновки.
– Одниим двором живем, – тянул старик, точно из благодарственного молебна, умиленно-благолепно,– одни-им.
Он довел наконец Ермакова до своей комнаты, весь угол которой занимал старинный обшарпанный буфет, усадил в резное, из черного дуба кресло (внизу доживала свой век прежняя обстановка Зота Ивановича), отпер своим ключиком белый шкафчик, висевший над кроватью, достал оттуда пузатый графин с ликером, тягуче-сладким, отдающим ванилью, чокнулся с Ермаковым. Обтерев рот ладонью и причмокивая: “Эх, жизнь-патока!”, старик ответил наконец на словно бы вскользь заданный Ермаковым вопрос:
– Почему я только Тихону и Степану наказывал друг за дружку держаться, а Зотушку обошел? Хе-э-э!..
В этом-то вся и заковыка… Еще по одной? .. Эх, жизнь– патока1 Зотушка-та рос в семействе, дело прошлое, вроде девки. “Да, тятенька… Нет, тятенька…” – и весь разговор. Ластился ко всем котеночком. Глядит, бывало, в отцовы глаза, желания угадывает. Занесешь над ним кулак – пальцы сами разжимаются. И всего страшился. Все ему что-то мстилось… Как-то проснулись -мы на печке спали – от крика… А сельцо наше, Злынцы, на отшибе. Волки по ночам забегали. Да и людишки, известно, до чужого добра охочи… Купил я, одним словом, на толчке старинный пистолет, гладкоствольный, без мушки, – толковали, таким бары друг дружку угробляли,,. Проснулся я, значит, от крика. Зотушка босой, ротишко перекосило, – хвать пистоль. А пистоль завсегда под рукой лежал, в ларце, Выскочил из хаты, заорал что есть мочи: “Выходи! Стрелять буду!”
Зотушка, понял я потом, вечерних бабкиных разговоров наслушался. Места наши болотистые, матушке моей, покойнице, все черти болотные мстились… “Выходи!” Молчат. Он, значит, в кусточки, в злого Духа – ба-бах! На него оттеда кошка – прыг.
Старик утер ладонью свои мутные, слезящиеся от смеха глазки.
– В бабку он. То кошку за злой дух примет. То ужака за гадючку, прибежит из лесу – аж зайдется от крику: укусила-де, пухнет рука, пухнет.
Старик посмотрел куда-то в потолок и спросил, пожав плечами, скорее не Ермакова, а самого себя:
– Жизнь, что ль, переменилась? Я был не из самых пужливых, – он сжал свои кувалды-кулаки. – А как только чуть оперюсь, меня жизнь по темечку слегой… Вторую коровенку мечтал приволочь к себе на двор – от раскулаченных. Не дали! Для чего ж раскулачивали? Как-то мужичка принанял овес убирать. Едва откупился от высылки. Думал, не дадут Инякиным подняться. Каюк! Ан Зотушка вынырнул… Кто б подумал? Зотушка! Квартира– палаты. Как у шаха персидского. Обстановка новая, ерманская, Полировка как зеркало. Деньжат гребет… Что я, бывало, в год, он – в месяц. Работниц, вон, двоих держат, хоть сама-то цельный день только и делает, что меняет серьги на климзы… как их?., ну да, клипсы. Поговаривают, еще девку принаймут – вызовут дачку охранять и для посадок на участке,.. Чего? Я только второй год, как к Зотушке прибился. Обида.. Кто вынырнул? Не Степан, не Тихон. Зотушка… Ну да ладно… Одним двором зажили… – снова возгласил он молитвенно. .
Ермаков задышал открытым ртом.
“Зотушка вынырнул. Самому не удалось стать кровососом. Прищемили лапу. .Зотушка вынырнул…”
Шофер Ермакова. гнал вездеход напрямик по перекрытому – ремонтировали мостовую – проезду. Машину швыряло. Талая вода под колесами шуршала, чудилось Ермакову, как клубок змей. Вот на чем буксовали полуспущенные для езды по бездорожью шины вездехода со стертыми протекторами!
– Давить их! Давить! – вырвалось у Ермакова, то и дело хватавшегося за дверцу кабины.
С Зотом Ивановичем Ермаков встретился на другое утро в приемной председателя исполкома Моссовета, куда Ермаков был вызван на заседание.
Ермаков сдержанно извинился за вчерашний до времени, уход (“Отец твой довел… Ликерчиком…”), попросил Зота Ивановича выйти с ним в коридор потолковать. Они остановились у подоконника. Ермаков достал записную книжку и ровным, на одной ноте, голосом перечислил железобетон, который. можно было бы без ущерба для строительства перебросить на участок, где вот уже какой день простаивала первая в городе комплексная бригада.
Ермаков перелистывал книжечку, а цифры называл на память. Главным образом, те, откуда его тяжелые грузовики – дизеля, еще не успели увезти перекрытия…Искоса посматривал на Зота Ивановича, который при каждом хлопке двери поднимал голову и кивал входившим.
Зот Иванович слушал рассеянно, полуприкрыв глаза. Он знал по многолетнему опыту: Ермаков жаловаться на него не станет, хоть режь его на части.
Ермаков, человек самолюбивый, и в самом деле считал для себя зазорным искать в Главмосстрое, а тем более в ЦК управу на такую, по его мнению, тлю, как Инякин. “Сам не совладаю с Зотом, что ли?”
Круглое желтоватое лицо Инякина с отягченным жирком подбородком и всегда-то казалось Ермакову тусклым. А сейчас оно вообще ничего не выражало. Даже усталости. “Не лицо,– раздраженно мелькнуло у Ермакова,– а коровье вымя. Попробуй пойми, какие чувства обуревают коровье вымя”.
Бас Ермакова становился все более ироничным.
Звонок на заседание прервал его. Заседание длилось, казалось, бесконечно. Ермаков устал. В голове не было ни одной мысли. Точно она ватой набита. До сознания доходили лишь раскаты Инякина: “Понятно! Понятно!
Зот Иванович, как известно, был не только человеком редкой понятливости – он неизменно подчеркивал свою понятливость. Стоило председателю исполкома перестать говорить, перевести дух, Зот Иванович тут же вставлял свои “понятно-понятно!”, звучавшие исступленной клятвой: “Твой я! твой!..”
“Два брата-супостата”, называл инякиных Акопян. “Прозорлив Ашот!”
Ермаков порывисто потянулся за портсигаром, как всегда, когда его осеняла какая-то мысль.
Игорь Иванович, помнится, звонил в ЦК, вообразив, будто он, Ермаков, душит подушкой новорожденные бригады. Не остыл бы дорогой подкидыш в своем рвении, дозвонился бы до первого: стоит ведь Инякину услышать в Заречье шум хрущевских лимузинов, он бросит сюда все на свете. Застрянут в грязи дизели – он попытается на своем горбу плиты тащить. Надорвется под ними, а потащит. Всех бухгалтеров в грязь выгонит, всех сердечников в гроб загонит, но заставит машины плечом подпирать да кричать: “раз-два, взяли!..” Или он ошибается в Инякине, или завтра с рассветом придут сюда дизели с железобетоном…
Под Москвой, в ополчении, Ермаков однажды спас свой стройбат от окружения тем, что вызвал огонь батарей “на себя”.
Не тот ли это случай, когда, он снова может спасти дело, вызвав огонь на себя?
Рискнуть?!
Вернувшись к себе в кабинет, Ермаков позвонил Игорю Ивановичу, пробасил с вызовом: – Ну как, дозвонился к Генеральному строителю, де, такой-сякой Ермаков… А?!
Некрасов не стал разговаривать, бросил, видно, трубку..
Ермаков ощутил холодок между лопатками. “Ох, дадут по мне залп! Из всех орудий…” Но тут же пробормотал успокоительно:
– Ничего-ничего, Ермаков, у тебя шкура толстая…
Назавтра он приехал в Заречье к семи часам утра.
Отпустив машину, остался у дороги, ведущей к корпусам. Тьма чернильная. Ветер сырой, слякотный. Мимо проносятся, точно их вихрем подхватило, фары. Скачут, скользят. Белые. Желтые. Круглые. Подслеповатое.
Хоть бы кто завернул на стройку!
“Одноглазка, сюда?.. Вот– медленно тащится не иначе полна коробочка”.
Мимо.
“Придут дизели?”
“Неужели я ничего не понимаю в людях?” . Мимо Мимо! Мимо!!
“Ч-черт!..” Какие-то фары, круто, как прожекторы описав полукруг, свернули с шоссе на “дорогу жизни”. Вот они ближе, ближе… В слепящем свете их видно, как несется наперерез дождь не дождь, снег не снег. По тому, как легко, волчком, вертанулись фары, Ермаков нонял – идет легковушка. “Кого это в такую рань?!”
Автомобиль затормозил у ног Ермакова. Приоткрылась дверца, послышался нервный голос Зота Ивановича:
– Ждешь?
– Жду, – помедлив, пробасил Ермаков и зевнул в руку: мол, я вовсе не обеспокоен.
– Кому обязаны? – спросил Зот Иванович, с силой хлопнув дверцей.
Ермаков ответил сонным голосом: -Кто его знает? Как снег на голову… – Кто сообщил?
– Подкидыш, наверное… -сладко зевнул в руку.
Лицо Зота Ивановича забелело поодаль и снова пропало в темноте. Заурчал автомобильный мотор, до Ермаков а донеслось: – Узнаешь, что выехали, – звони!
Ермаков направился к подъезду, почти убежденный – придут дизели.
И точно. Два спасительных белых огня медленно, с достоинством, развернулись к “дороге жизни”. Сзади подоспел еще один грузовик, освещая в длинном, как санитарные носилки, кузове серые плиты перекрытий. За ними выстраивалась целая колонна.
Ермаков не выдержал, выскочил из треста (в тресте, кроме ночного сторожа, ни души) без шапки, в расстегнутом пальто. Закричал, сложив руки рупором: – Эй!-эй! На какой корпус?.. Точненько! Налево, четвертый по счету.








