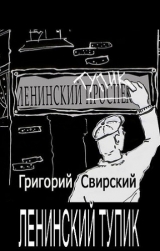
Текст книги "Ленинский тупик"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Ермакова будто холодом пронизало. Так промахнуться. И на ком?! На мордве!!
“Не экспериментируй, идиот!”. “Держись Некрасова. Он в лужу не посадит..” И он воскликнул с горячностью, которая давненько не наблюдалась в управляющем:
– Не в твоем, Игорь Иваныч, сострадательном – или как его? залоге суть дела! Двести процентов плана – вот мерило общественной активности Староверова… Дал триста процентов – нет активнее Шурки человека на стройке. Слава ему, лупоглазому!
– Правда, Акоп?! – тоном полупросьбы-полуприказа спросил Ермаков.
Акопян ткнул окурок тычком, повертел, словно намеревался пробуравить пепельницу из плексигаласа.
– Погодь! – вскричал Ермаков, хотя Акопян и рта не раскрыл.. Что сказано у Основоположника? Авторитет он для вас или не авторитет?! Будущее Шуркиной семьи начинается с их заботы о каждом пуде угля, хлеба.
– Так, Сергей Сергеевич, начинается действительно с этого. – подтвердил Игорь Иванович – начинается! Отметим это. Но к чему вы сейчас вспомнили Основоположника? Чтобы пробудить в Александре Староверове сознание хозяина государства? Ничего подобного. Чтобы утвердиться в своем праве задержать сознание Шуры на уровне нулевого цикла. О каждом пуде, Александр, заботься. Кирпичи клади. Двумя руками. Чем больше тем лучше. Но – от кладки головы не поднимай, на меня, управляющего, не оглядывайся. Не твое это собачье дело!
Ермаков глотнул воздух широко открытым ртом, точно ему угодили кулаком в солнечное сплетение.
– Сговорились?! Акопян лет пять назад… Когда я, из-за границы вернувшись, про шведскую фирму рассказывал, обозвал меня фирмачем. Теперь он к тебе пришел со своими болячками?!. Пригрел я на груди – дружочка милого! – гремел Ермаков, потрясая кулаками. – Слушай, Акопян, если у тебя осталась хоть капля совести, для себя я живу?!
Акопян задел нервным движением худющей руки пепельницу. Придавленные им ранее, торчком, окурки выпали на зеленое сукно.
– Для народа, Михаил Сергеевич, – ответил он почти спокойно. – Все для народа. Вся твоя жизнь…
– Так что же вы от меня хотите, в бога душу… Кхы! Прости, Матрийка!
– Чтоб ты был последователен, – прежним слабым, чуть дрогнувшим голосом продолжал Акопян, сгребая окурки в пепельницу. – У тебя, я слышал краем уха, есть опыт по части составления лозунгов, призывов и дружеских приветствуй… Вынеси из своего кабинета знамя -то, что в чехле из клеенки, за несгораемым шкафом. И поставь другого цвета, ближе к коричневому… – Все для народа. Ничего-через народ…
Ермаков стоял, постукивая костяшками толстых, волосатых пальцев о спинку стула. Если б такое сказал Игорь Иванович, досаждавший ему в последние дни так, что xoть караул кричи. (Сам затолкал парню ежа в голову – так терпи.). Но Акопян?! Дружище!
Это обезаружило Ермакова, по крайней мере своей внезапностью.
Увы, она оказалась не единственной, внезапность. Вдруг проснулся толстяк Зуб-праведник, никогда на собраниях-заседаниях рта не раскрывавший.
– Сергей Сергеевич! Радио с утра до вечера долдонит и долдонит: “Общественная – пассивность– активность…” Это все для меня, казака из станицы Вешенской, глухорожденного к высокой материи, как чужая планета. Вроде луны. Наши уважаемые интеллигенты Игорь Иванович и Ашот Акопян вроде с нее, луны этой, и вещают свое.. Позвольте мне сползти с луны на землю, и сказать попросту – по рабочему, который хорошо знает, что такое воры у власти… Наши сегодняшние расхождения с вами, Сергей Сергеевич, имеют имя и фамилию. Чумаков Пров Лексеич.
Зачем вам ворюга Пров, которому вы даже орден “За трудовую доблесть” выхлопотали? А вот зачем! Скажете вы ему – Пров, нынче сними с неба “Полярную Звезду”. Кого-то обманет и тут же принесет. Потребуете “Большую медведицу”. Украдет! И вам вручит.
Чумаков же для меня, Зуба , – ворюга иногордний. Он и в моей конторе, случалось, крал, коли соседи давали больше.. К тому же Чума… да он просто Не Человек.. Его закон – с какой ноги встал. С левой -тихий работящий Шура Староверов – “набаловушка”, с правой – пропащая головушка…. Чисто наш станичный большевик! Грязного ловкача давно пора гнать в шею.
Тоня, сказывали, к Шуре “неровно дышит”. Ясно, для девки Пров – изверг. Однако она до Чумаковской шеи не дотянулась. Рука коротка. Врезала ему в ухо.
Ошибочка небольшая, а он, отброс поганый, добивается в прокуратуре, чтоб ее заперли на полжизни в тюрягу. А вы, Сергей Сергеевич, грязного ворюгу холите-нежите…
Зуб человек уважаемый. Возражать ему, битому-перебитому казаку, крутому праведнику, не хотелось, да и что тут возразишь?
Почувствовал, пора закругляться…
– Как это понять уважаемые товарищи? – В голосе Ермакова не было обиды, он великодушно прощал всех своих непрошенных советников.
– Ну вот, в кои-то веки! вы, профсоюзники от сохи и кирпича, расправили плечи. Вздохнули полной грудью. А Игорь Иванович, помстилось ему что-то, – в набат!!
Народ сбежался на заседание. С поля. В погожий день. Донской казак Зуб занялся даже астрономией. А кто будет распределять железобетон, который повезли в его стройконтору? .
Карандаш выскользнул из ревматических, негнущихся пальцев Зуба..
– Сколько кубов, Сергей Сергеевич? Ну?! – Он схватил с вешалки свою армейскую шапку. – Извините, товарищи. Такое дело… – Он развел руками перед Игорем Ивановичем, пытавшимся удержать его.
Дверь за ним захлопнулась. Праведного Зуба отсек, но все равно, понимал, пора закругляться. Как всегда, шуточкой….
– Господа каменщики и господа интеллектуалы – оракулы с Луны, как нынче рассадил всех нас бывший казак, а затем доходяга-лагерник Зуб. Я выполняю то, что от меня требуют. Не выполню – снимут шкуру. Вы же мчитесь поперед батьки в пекло. Ваши придумки сейчас никому не нужны. Ни власти, ни народу. На нашей стройке довольны все!
– Кроме тех, кто голосит: “От получки до получки не хватает на харчи?”
– Это просто замечательно, дорогой Игорь Иванович, вы на стройке уж не просто поднялись, а – вымахнули в проводника народных требований. Исполать вам!…
Ермаков поднял обе руки вверх и, мол, некогда спорить – сдаюсь!– Но сдаваться было не в его характере. Не удержался. Вскричал:
– Игорь Иваныч, вижу, вы тут всех совратили. Весь профсоюз Мосстроя жаждет быть проводником , проводником! Хотелось бы вас, други, спросить: не рано ли ты, наша профсоюзная пташечка, запела. Ныне на дворе, или до вас еще не дошло, наступил – век полупроводников.
Шутка не удалась. Ермаков понял это не столько по нахмуренным лицам Акопяна и Некрасова, сколько по. лицу Матрийки– шрам на нем уже не проступал, горел багровой, как от автогена, полосой.
– Вот что! – грубо пробасил Ермаков. – Некогда мне тут с вами лясы точить! Если, по-вашему, отработал Ермаков свое, делайте выводы. Мчитесь в райком или. туда – он показала рукой куда-то в направлении свежепокрашенного потолка с неглубокими полосками на стыках плит.. тут мне Игоря Ивановича не учить…. – И. не оглянувшись, вышел из кабинета.
5.
Возмездие нагрянет, откуда и не ждешь Неделю назад на корпуса, поднялась комиссия. Судя по тому, что Ермаков на лестнице пропустил ее вперед, комиссия была правительственой, Сказывали потом, готовится очередное “постановление об ускорении”…
Ермаков окликнул клавшего кирпичи бригадира -тот, видно, не расслышал; Ермаков медленно, бочком– бочком, пробрался к нему по узкой, в снегу, стене. Обратно он пробежал по стене, как по канату, балансируя руками и напоминая тучного, вспугнутого кем-то гуся, который, раскинув крылья, пытается взлететь.
Ермаков спрыгнул на подмости возле Нюры. Снег из-под его ног взметнулся.
– Твой муж что, онемел?! До того замордовала парня, что….
Нюра подняла на него глаза, он осекся. Она хотела было ответить с вызовом: “Серые мы! Что у нас узнаешь!”
Вчера была довольна тем, что Некрасов позвал толковать с Ермаковым вместо нее Матрийку. Та мудрее – на войне побывала.
А сегодня чувствовала – пришел и ее день.
К ним приблизились члены комиссии. Один из них, немолодой, в каракулевой ушанке подал Нюре руку, сдернув свою кожаную перчатку. Нюра вытерла ладонь о юбку, поздоровалась. Рука у мужчины оказалась богатырской. У Нюры от его рукопожатия слиплись пальцы.
От этого ли, потому ли, что все остальные здоровались с ней второпях, Нюра ощутила симпатию к человеку в каракулевой ушанке, в его рукопожатии почувствовала уважение к себе, уважение к человеку, который день-деньской на морозном ветру возводит стены домов.
Чувство симпатии к нему, похоже, высокому руководителю (“Ермаков враз язык проглотил…”), вызвало у нее желание пожаловаться на Ермакова. “Проучить бы его!” Но жаловаться на кого-либо она, детдомовка, не любила. В детдоме это считалось последним делом… Пугаясь своей мысли и еще не зная, что она предпримет, она уже знала, что Ермакова она проучит.
Нюру спросили, когда они сдадут корпус Она хотела ответить вдруг, неожиданно для самой себя, осклабилась словно бы придурковато, протянула первозданным воронежским говорком, как, по ее мнению, и должна был отозваться неразвитая, из глухомани, баба, серость:
– Мы-та?
Мужчина в каракулевой ушанке повторил несколько оторопело: .
– Ну да, вы… бригада.
Нюра оглянулась на Тоню, которая стояла подле нее, опершись на лопату и намереваясь, судя по ее лицу, высказать начальству свои претензии, и спросила у нее прежним тоном:
– Тонь! Когда должон быть сдан дом-та?
От Тони, самой любопытной на стройке женщины, ничто не ускользнуло; Она, как и Нюра, прекрасно знала, когда предполагали закончить корпус, но отозвалась голосом не вполне проснувшегося человека:
– Когда будет готов, тогда, значит, и сдадут.
Прошло несколько секунд, пока прозвучал следующий вопрос:
– Девушки, а разве вы не соревнуетесь за досрочную сдачу дома?
Нюра взглянула на Тоню: – Тонь, мы соревнуемся?
– Что нам соревноваться,-вяло откликнулась Тоня. – Наше дело – лопатой махать.
Из горла Ермакова вырвался какой-то клекотный звук. Мужчина в каракулевой ушанке дотронулся рукой до его локтя: мол, погодите, Сергей Сергеевич, – и спросил обеспокоенно и удивленно:
– Девушка, вы откуда?
– Мы-та?-снова завела Нюра.
– Ну да, вы.
– Мы-та воронежские…
– Спрашивают, где вы сейчас живете? – перебил ее
кто-то из-за спины Ермакова.
– Мы-та?
– Ну да, вы? .
– Мы-та в Заречье.
– В общежитии?
Мужчина в каракулевой ушанке приблизился к Нюре почти вплотную.
– Скажите, у вас в общежитии красный уголок
есть? Красный уголок? Как же…
– К вам агитатор ходит?
Нюра откинулась всем корпусом назад, ответила c видом человека, оскорбленного до глубины души
– Ко мне мужчины не ходят! Бывал сродственник дядя, но нынче уехал.
Мужчина в каракулевой ушанке повернулся и молча зашагал прочь. За ним гуськом потянулись остальные
Нюру вызвали к управляющему в тот же вечер. :– Чем я тебя обидел? – вскричал Ермаков, едва она переступила порог его кабинета.– Чем?! Приехала с ребенком-взяли. В подсобницы вывели! Зачем дурочкой прикинулась? Без ножа зарезала!
Нюра подошла к столу управляющего и, глядя Ермакову в глаза, отчеканила своим тоненьким, протяжным голоском:
– Вы управляющий. Слово-то какое! Управляющий всей стройкой. А кем вы прикидываетесь?.. Изрявкался весь, исклектался!
От обидных слов Ермаков, по обыкновению, отмахивался. И тут же забывал о них, по горло занятый стройкой или станом. Но слова Нюры звучали не одной лишь обидой.
Клекчут только орлы. Стало быть, высоко ставит управляющего подсобница каменщика Нюра. Хоть и осмеяла, опозорила, но… в подсознании ее живет не “истявкался” или “извылся” – “исклектался!”.
Пилюля была в сахарной облатке.
К чему бы Ермаков в тот день ни обращался, все напоминало о слове, сорвавшемся с губ подсобницы от которого у Ермакова начинало гореть лицо.
“Исклектался!”
6.
Но в поступках своих Ермаков меняться и не думал.. “Статуй!” – окрестила его Нюра в сердцах. Даже на профсоюзную конференцию “статуй” явился, как и в прошлые годы, с полуторачасовым опозданием. И тут же начал куда-то торопиться, вышел из-за стола президиума, бросив, скорее, самому себе, чем председательствующему:
– Ну, я пошел!
Игорь Иванович, к радости Нюры, и, естественно, не только Нюры, задержал его, спросив громко, на весь зал:
– Вы кому это сказали, Сергей Сергеевич?
– Председателю?…Обратитесь, пожалуйста, к залу.
Подобными же словами Игорь Иванович пытался остановить Ермакова, устремившегося к выходу и на прошлогодней конференции
У Ермакова в тот раз вырвалось с искренним недоумением:
– К залу?!
В этом восклицании, говорили в тресте, был весь Ермаков. Теперь, вскинув руку, он посмотрел на ручные часы, помедлил, вернулся на прежнее место, стараясь не скрипеть подошвами.
…Председательствующий перевыборного собрания, начавшегося на другое утро, нажимал и нажимал кнопку звонка. Наконец, не выдержал.
– Вы что, как заведенные?!
Каменщики действительно были, как “заведенные”. “Завели”их еще вчера.. Оказалось пришло время пересмотра разрядов. Шумный “пересмотр” завершился в полночь. И к утру не унялись.
И были на это серьезные основания…
На улицах города появились невиданные доселе панелевозы, которые тянули на своих платформах-прицепах сероватые железобетонные “панели Ермакова”. Да и не только Ермакова. ДСК, как их называли -домостроительные комбинаты начали в тот год появляться, как спутники Земли, один за другим.
Каменщики следили за созданием ермаковского и других домостроительных станов ревниво. Машины грозили упразднить их нужнейшую, нарасхват, профессию, золотую профессию, которую они передавали из рода в род. Тут, в каменном деле, была их честь и удача.
Как-то теперь все сложится?
Александр Староверов, как и все другие, понимал и умом одобрял трудные поиски Ермакова и Акопяна, радовался их удачам, но в нем жило горьковатое чувство человека обойденного, почти обида, хотя неизвестно на кого или на что.
Новое дело началось, казалось ему, с новых обид. С перетарификации. Александр ходил по корпусу молчуном. Всего лишь месяц назад срезали разряды, люди только-только угомонились – и опять перетряхивать списки. Не рассыпалась бы бригада…
Гуща и Силантий еще до войны имели седьмые разряды. Попробуй зацепи их! Если уж стукать по темечку, начинать надо с бригадира. Иначе крику будет – ой-ой! |
Александр ждал, что Чумаков посоветуется с ним.
Но его так и не позвали в контору, где пересматривали разряды. От него потребовали лишь одного – собрать народ.
Он собрал бригаду в бараке-раздевалке, только что сколоченном у новой строительной площадки. Каменщики торопились после смены домой и, в ватниках и рабочих брюках, усаживались вдоль стен. Скамеек не хватило, кое-кто пристроился на полу, подогнув ноги. Задубелые на морозе штанины с болтающимися застежками топорщились поверх валенок брезентовыми трубами.
Смолистый запах соснового теса смешивался с едкой вонью махорки.
Александр вошел последним, присел на корточках, в углу барака, словно бы безучастный к окружающему
Чумаков, как и предполагали, произнес своим хрипящим голосом-скороговоркой речь о смысле происходящих на стройке перемен, в которой повторялась с небольшими отклонениями одна и та же утешительная фраза:
– Монтажники – это не то что каменщики. Им пупок не рвать. Поклоны не бить. Жить легчее – Чумаков, говоря, кривил безгубый рот. Дни сокращения штатов издавна заменяли ему церковное покаяние. В эти дни “на законном основании” сокращалось в его управлении число людей, недовольных им, Чумаковым. Ну а нет недовольных – считай, нет и грехов.
И на этот раз произошла осечка. И кто это ввел Огнежку в члены штатной комиссии?! Всю обедню испоганила!..
Чумаков с шумом втянул в себя воздух, точно обжегся горячим.
“Будешь за то, пагуба, читать списочек!” Он быстрым движением сунул отпечатанные на машинке листы Огнежке, стоявшей подле стола из необструганных досок: “Распускай перья перед народом, красуйся…”
И вот Огнежка “красовалась” уже битый час, выслушивала попреки и ругань. Перекрывая шум, она почти кричала митинговым голосом: – “Подсобница Горчихина Тоня. Оставляется в монтажной бригаде Староверова такелажницей. По старой специальности. Комиссия присваивает ей третий раз ряд!”
Александр Староверов поднялся, напомнил, что еще пять лет назад Тоня была такелажницей четвертого разряда… Тоня махнула в его сторону рукой. “Пусть они подавятcя моим разрядом!” – говорил ее жест.
Разгневанный голос Александра тонул в возгласах стариков-каменщиков:
– Бесчиние, Пров Лексеич!
– Не мытьем девку – так катаньем..”
Огнежка вопросительно посмотрела на Чумакова – тот стучал указательным пальцем с желто-черным пришибленным ногтем.
Огнежка сказала, зардевшись и глядя в окно:
– Насчет Тони, наверное, и в самом деле не так. Дадим ей на этой же неделе урок. Как справится.
Она отложила в сторону листок. Взяла со стола следующий.
Раздевалка утихла. Слышалось тяжелое дыхание взапревших людей, чей-то шепот:– Жарища – спасу нет!
– Сейчас Чумаков тебя охолонит…
– “Каменщик Гуща,—утомленно продолжала Огнежка. -Разряд седьмой… Комиссия решила установить, шестой”.
Яростный, с присвистом, голос Гущи вскипел где-то
– С-спасибочка! В прошлый раз эта же комиссия пос-становнла седьмой, месяц прошел – здрасте пожалте, шестой…
Огнежка, в какой уж раз, растолковывала, что изменяется весь профиль работ. Упрощается труд. Кирпичной кладки седьмого разряда не будет. – Все это было правдой, но тем не менее в голосе Orнежки чувствовались смущение и неловкость. Она, прораб без году неделя, вынуждена огорчать человека, клавшего стены домов четверть века.
Хитроватый, сметливый Гуща сразу почувствовал смущение в голосе Огнежки. Когда она попыталась успокоить его: “Обжалуйте Ермакову” – он вскипел негодованием:
– Как бы не так! Буду я каждый месяц проверяться, как чахоточный! И так в прошлый месяц насилу сдал, с двух заходов. Душу мытарили. – Видя, что Чумаков начал нервно перебирать перед собой руками, словно быстро копаясь в чем-то, Гуща воскликнул в ожесточении:
– Опостылел ты мне, Крот, до смерти. Расчет!
Огнежка продолжала читать, облизывая пересохшие губы:
– “Плотник Инякин Тихон Иванович. Седьмой разряд. Комиссия оставляет седьмой”.
Тишину, установившуюся после слов Огнежки, прервал суровый женский голос:
– Ежели Тоне срезали, режьте и Инякину!
От окна послышалось басовитое: – Ну вот, сравнили мужика с бабой!
Высокий голосок Нюры вскинулся почти весело:
– Ну разве только за то, что мужик, оставьте, ему седьмой разряд!
Угол, где теснились на коленях друг у друга подсобницы, взорвался хохотом. Оттуда прокричали тонким голосом:
– Пущай ему жена как мужику разряд устанавливает, а ты гляди на него как на мастера!
– А что, правильно! – Тоня проталкивалась к столу. – Пустосмехи! Инякин на работе не переломится. Вчера с бригадиром плиту подымали – он идет и физию воротит. Я ему крикнула; “Пособи!” – а он даже не глянул.
– Слышь, Инякин, критику? – добродушно произнес Чумаков. – Разряд тебе оставляем, но глядя в оба, зри в три…
Воздух от табачища стал сизым. Распаренно-красные лица утирали уж не платками – шапками, рукавами.
Едва Огнежка кончила читать, все поднялись.
В эту минуту и прозвучал высокий и напряжений голос Нюры:
– Подождите, товарищи!
Ее слушали стоя – торопились домой.
– Перепотрошил Чумаков нас, как курят. Перекровинил. А мы – вроде так и надо. Почему молчим о том, о чем промежду собой говорим? Да не говорим – кричим… Дядя Силан, – она отыскала взглядом Силантия, который стоял в дверях, одна нога в раздевалке, вторая в коридоре, – вот вы не раз хвалили Тоню: мол, за Тоней и горюшка не ведаете.
Силантий переминался с ноги на ногу, сдвинув на бок свой заячий малахай и выставляя ухо, заросшее белыми волосиками настолько, что казалось, они-то и мешают ему слышать.
– На панелях, конечно, нам будет легче. А вот на этом корпусе, на кирпиче… Подсобница за смену переносит две тысячи кирпича, да тонны четыре раствора… Никакая машина не сдвинет того, что подсобница за день наворочает. Разве гигантский самосвал. Так, дядя Силан? А платят Тоне, которая на подмостях куда более вас горбатится как? Кофточку купит – без хлеба сидит…
Нога Силантия в подшитом, надрезанном сзади валенке скользнула за порог, дощатая дверь захлопнулась.
Нюра молча глядела вслед. В недобро прищуренных цыганских глазах ее появилось выражение брезгливости и презрительной жалости, с каким она смотрела на Силантия еще тогда, когда он исповедовал на подмостях свое: “Не зудят – так и не царапайся…” Оттолкнув плечом Тихона Инякина, который попался ей по пути, она вышла к столу.
– Ладно! Дядя Силан век свой прожил. Не о нем буду говорить. О себе. И о своем муже. Мы одинаково с мужем на подмостях мерзнем. Кто на кладке более сил оставляет, подсобница или каменщик, сами знаете. Мне из окошечка дают на руки шестьсот с неболшим, а Шуре – две тысячи шестьсот. Разве это дело– работать с мужем плечом к плечу, а жить на его хлебах? -
– Все одно ты из него вытрясешь! – послышался насмешливый голос Тихона Инякина.
..На него шикнули, оттеснили в угол: не суйся, сучок еловый!
– Не хочу жить на мужниных хлебах. Я – работница!
Чумаков вытер зажатым в кулаке платком желтоватую лысину, прохрипел:
– Это ты своей головой удумала, Староверова? Или тут некоторые, – он окинул Огнежку недобрым, прицеливающимся взглядом, – некоторые воду мутят?
– Своей!
– Значит, ты за уравниловку? Всем одинаковые порты носить?
– Зачем одинаковые? Носите, как вы начальник, с кружевами.
– Что с ним говорить?! – вскинулся пронзительный Тонин голос. – У каждого руки к себе гнутся.
Чумаков торопливо скатал списки в трубочку, начал проталкиваться к дверям, кинув на ходу:
– По поводу выплаты была официальная бумага. Над ней голову ломали люди не чета вам…
– А-а, бумага! – зло воскликнула Нюра, подступая к нему ближе. – Нынче за бумагу не схоронишься. Не то время, чтоб над нами выкомаривать…
– Эт верно! – послышался вдруг глухой голос старика Силантия, вернувшегося в раздевалку.
– Дядя Силан! – обрадованно воскликнула Нюра.– Я знаю, вам совестно, что с каждой из нас срезают в день по двенадцати рублей и передают эти деньги высоким разрядам. Вы человек душевный. Так что ж вы… ровно у вас язык к небу прилеплен Тихоновым клеем? Жизнь протужить молча….
Чумаков, выставив локоть вперед, попытался пробраться бочком к выходу, но Тоня и еще несколько подсобниц стояли в дверях, плечом к плечу, необъятно широкие в своих рабочих ватниках и шерстяных платках, обхватывающих грудь и стянутых за спинами.
– Что вы на меня уставились, безумные? – обеспокоенно прохрипел Чумаков. – Я вам не Совет Министров. Идите туда или в ЦК… У нас ЦК за женщин. Ради вас водка подорожала и, говорят, за бездетность с вас брать не будут… Берите носилки и несите туда свои пром-блемы!
Нюра разрубила воздух рукой: – Половина проблем решится сама собой, если разряды мы будем устанавливать сами!
– Са-ми?!
– Сами!
Все, кто протискивались к выходу, остановились, глядя на чуть побледневшую Нюру, кто-то снова уселся на скамью, дернув стоявшего перед ним Силантия за пояс: “Не засти!”
Нюра показала на свернутые в трубку списки, которые нес Чумаков.
– Сколечко лет фонд зарплаты был у нас вроде горшка с Чумаковской кашей! Кому хочет Чумаков тому дает, кому хочет – нет… Нынче свое едим. Так? Но… ложкИ кто распределяет? Чумаков. Хоть. Тихону Инякину, дружку закадычному, вручил целый черпак, поварешку – седьмой разряд. Тоня ему поперек горла – ей чайную ложечку. Чтоб Тоня, в основном, не ела, а пар из горшка вдыхала… Ну?! Хоть и сдельно работаем, а та же самая “выводиловка” разбойная. Только в сокрытом виде…
– Эт верно! – поддакнул Силантий. Он вряд ли расслышал половину из того, что сказала Нюра, но, догадываясь, о чем речь, считал своим долгом время от времени подбадривать подсобниц наставительным “Эт верно!..”
Чумаков задергался то в одну, то в другую сторону, – казалось, опасался встать к кому-либо спиной.
– Анархия, значит? Никаких начальников? Под черным знаменем – и “Цыпленок жареный…”? Чтоб стройка развалилась?Да вы, оголтелые, значит, против нашей партии…
Тоня шагнула от дверей:
– Ты дождешься – лопаты бросим!
– Что? Ты чем грозишь? Не советский это метод!
– Всякий метод гож, который поможет тебе шею свернуть.
Крики, шум и аплодисменты на перевыборном профсоюзном собрании, “подогретым” вчерашним пересмотром разрядов, не утихали долго. Под этот шум и скользнул к трибуне Тихон Инякин. Утихомирить рабочих, по примеру прошлых лет, ему не удалось. Но все же он прикрыл собою управляющего: выступавшие обрушивались уже не на Ермакова -на Тихона.
Посыпались записки с просьбой предоставить слово.
Приподымаясь на стуле, Нюра думала увидеть на лице Тихона Инякина раскаяние, стыд, на худой конец – смущение. Ничуть не бывало! Темное точно в копоти, лицо его улыбалось. Вот оно стало нарочито безразличным. Сидит как на собственных именинах.!.
В какой уж раз Нюра спросила себя: отчего Тихона ничем не проймешь? В общежитии, на подмостях, на собрании, стоит Инякину показаться – его кроют на чем свет стоит. И все же… Поймет ли она в конце концов, почему… почему Тихон из года в год проходит в члены постройкома? И это при тайном-то голосовании, когда судьба кандидата решается каждым наедине со своей совестью!
Желающих ругать Тихона Инякина оказалось столько, что собрание пришлось перенести и на следующий день. Чем бы Нюра ни занималась, весь этот день она думала над тем, почему удерживается в постройкоме Тихон Инякин. И впрямь непотопляемый!..
” А ведь люди у нас прямые, порой крутые на язык. Однако Тихон… улыбается. Почему так?”
Вечером Нюра спросила об этом Огнежку. Огнежка, ни слова не говоря, повела Нюру … в ее постройком, в котором она, как видно, еще не чувствовала себя уверенно. Там они полистали несколько пожелтелых папок, отдающих прелью, и повсюду Огнежка отыскивала своего личного и многоликого врага – “выводиловку”.
– “Выводиловка” Нюра, косила людей, как пулемет,– объясняла она.
Слова Огнежки звучали убедительно. “Выводиловка”, даже по этим старым папкам было яснее ясного, все годы косила рабочих, как пулемет, только люди тут не погибали, а тут же разбегались со стройки куда глаза глядят. Не проходило и года, как в списках против множества, фамилий -против целой трети имен – появлялась унылая эпитафия канцеляристов: “Выб.”
Руководители строек молили, требовали: “Людей!
Людей! Людей!” – ссылаясь на неслыханные ранее гигантские планы строительства жилищ. Почти все остальные проблемы тонули в аморфном словечке “текучесть”..
Поезд за поездом высаживал на городском вокзале парней и девчат с фанерными чемоданами в загрубелых от крестьянского труда руках. Пополнения вводились в бой с ходу, как на войне маршевые роты. Благодаря им удерживались на плаву и такие корабельные шкуры, как Тихон Инякин.
Много лет подряд Тихон Инякин проходил в постройком голосами рабочих-первогодков, которые не успевали его узнать.
Таков был главный вывод Огнежки.
Едва Огнежка ушла, как Нюру снова обступили со всех сторон десятки “почему?”
“Теперь год – то какой! “Выводиловка”, говорят, на ладан дышит. Даже “Статуй” потишал, при встрече с Тоней головой кивает. А с Тихона – подумать только! – все как с гуся вода. Тоня как-то кричала, и справедливо, что у Тихона
карманы рваные. С чем к нему ни сунься, положит твою заботу в карман и потеряет. К Ермакову явится – карманы– пусты…
На другой день Нюра пришла на собрание рано. Заняла целую скамью на всю бригаду. Скамья еще была наполовину пуста, когда началось обсуждение рабочими списка для тайного голосования.
Фамилии кандидатов писались мелом на черной, отсвечивающей при, электрическом свете доске. Строители одолжили ради такого случая по соседству, в только что возведенной школе. На доске было начертано семнадцать фамилий.
Вскоре бухгалтер из конторы Чумакова, еще более низкорослый и диковато-косматый, чем Чумаков, привстав на цыпочки, стер ладонью две фамилии – удовлетворили самоотводы. На доске осталось пятнадцать фамилий, ровно столько, сколько предстояло избрать членов постройкома.
Нюра давно хотела “подсадить в постройком” кого– нибудь из их бригады. Но кого?
Она остановила свой выбор на Гуще. Недавно Гущу заставляли сложить стены наскоро, неважно как, лишь бы в срок. Он оскорбился: “Мастер своей руки не портит. Горд! Пытались ему помочь, как многодетному. Он раскричался: “Подавайте Христа ради сами себе! А мы прокормимся…”
Конечно, Гуща не сахар. Колесо скрипучее. Не доплати ему копейку – он месяца два будет скрипеть…
Но, коли такого избрать, он, может быть, станет скрипеть и на общую пользу?
В руках Нюры белел букетик подснежников, который Александр купил на трамвайной остановке по дороге с корпуса. Она приколола подснежники к своей аккуратно, по талии, ушитой лыжной курточке, подняла руку.
Но руки ее словно бы не замечали. В конце концов Игорь Иванович, сидевший в президиуме, показал на Нюру председательствующему:
– Вы что, не видите?!
Нюра выкрикнула фамилию Гущи.
Чумаков, который до этой минуты, казалось, отсутствовал, приподнялся на своем месте у стены, нервно повертел на пальце ключ.
За спиной Игоря Ивановича мрачноватый голос того же бухгалтера сообщил, что Гуща-де “лупцует жену смертным боем и вообще…”
– Вре-от! – взвился от дверей голос опоздавшего Гущи. – Брехня собачья! Я сроду ее и пальцем не тронул.
Игорь Иванович обернулся к бухгалтеру. Тот потер ладонью блестевший нос цвета болгарского перца и повторил свои обвинения.
Скорее всего, это был наговор. Но для проверки требовалось время. Что поделаешь! Не им, Некрасовым, заведено – любую брехню, даже самую явную, проверять, расследовать.
Кто-то назвал еще одну кандидатуру, – ее отвели с торопливостью, которая насторожила и встревожила Нюру уже не на шутку.
Некоторое время зал шумел глуховато и словно бы успокоенно, как отхлынувший от берега прибой. Затем ударила новая волна. Навстречу этой волне к краю сцены стремительно, как тряпичный петрушка к ширме, подскочил мужчина средних лет, в кожаной “капитанке” на локтях истертой до подкладки, грязно-коричневой, точно изжеванной. Он разъяснял тоном, в котором слышались и увещевание и угроза, что вряд ли есть необходимость добавлять кандидатуры (“разбавлять список пожиже”, – сострил он под собственный одинокий смешок), так как список продуман всесторонне.
Начальник первой стройконторы Зуб сердитым голосом потребовал дописать на доске фамилию известного на стройке каменщика. Взметнулось еще несколько рук. Среди них, у окна, – рука в гипсе. Ее тянул вверх, подперев у локтя здоровой рукой, пожилой рабочий в распахнутом ватнике, под которым алел орден военных лет. Когда кто-то крикнул: “Подвести черту!” – рабочий рванулся к президиуму, подняв над головой, чтоб случайно не повредить загипсованную руку.








