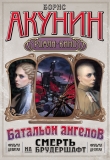Текст книги "САКУРОВ И ЯПОНСКАЯ ВИШНЯ САКУРА"
Автор книги: Герман Дейс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц)
Глава 6
Пока Сакуров пытался выудить из засыпающей памяти хоть какие-нибудь достоверные сведения о теме бесед перед продолжающимися «полётными» снами и собеседнике, его сознание стало двоиться и он вдруг почувствовал себя кристально бодрствующим и спящим без задних ног одновременно.
«Оригинальный феномен, – подумал во сне или наяву Константин Матвеевич. – Однако хотелось бы знать: сегодня я буду с кем-нибудь разговаривать перед сном? Если, конечно, я уже не сплю…»
– А чё ж и не поговорить? – то ли услышал в ответ на свой мысленный вопрос Сакуров, то ли этот ответ сам по себе возник у него в мозгу. Вместе с тем раздалась характерная возня устраивающегося поудобней в облюбованном углу таинственного собеседника.
– Ты кто? – задал законный вопрос Сакуров, продолжая испытывать некое раздвоение, но не личности, потому что личность железно спала вместе с телом и основной частью сознания, от которого как бы отслоилась его малая бодрствующая часть.
– Домовые мы, – буднично ответил некто.
«Как-то уж очень банально», – разочарованно подумал Сакуров.
– Хм, – услышал он в ответ насмешливое, словно существо, представившееся домовым, прочло его мысли.
– Вчера я тоже с тобой… гм! вами, разговаривал? – поинтересовался Сакуров.
– И вчера, и давеча, – охотно ответил домовой.
– Я помню, что что-то такое было, но о чём шла речь, хоть убей… убейте, то есть...
– Да ты не церемонься, мил человек, зови меня запросто, Фомой. Впрочем, мы уж третьи дни, как на ты.
– Это что ж, мы каждый раз будем заново знакомиться? – спросил Сакуров.
– Да нет, теперь уж не будем, – утешил его невидимый Фома. – Я нынче убедившись, что ты не из болтливых и дружкам своим приятелям не расскажешь обо мне. Так что…
«Что я, идиот, про такое рассказывать? – слегка испугался Сакуров. – Да услышь про такое Семёныч, надо мной вся деревня потом смеяться будет».
– Да-да, – неопределённо возразил домовой.
– Что? – переспросил Сакуров.
– Ась? – в свою очередь переспросил его Фома.
– О чём мы с тобой хоть трепались, не напомнишь? – задал очередной вопрос Сакуров.
– Почему же не напомнить, будьте любезны, – с готовностью и несколько старомодно ответил домовой. – О прежних жильцах этого дома мы толковали, о разных людишках, что в сей деревеньке в разные времена свою долю мыкали, об разных обычаях, промеж нас, домовых, заведённых, да и мало ли о чём.
– Мало ли! – воскликнул Сакуров. – О разных людишкам мне, пожалуй, знать неинтересно, а вот о разных ваших обычаях… Нет, надо же: промеж нас, домовых! Слушай, а ты не белая горячка?
– Нет, – кротко возразил Фома.
– А про мои сны тебе что-нибудь известно? – подозрительно поинтересовался Сакуров.
– Известно. Вот они и есть белая горячка. Тоись, ея предупредительные предвестники. Коли не прекратишь со змием поганым якшаться, прямая тебе дорога в дом для умалишённых.
– Тоже мне, откровение, – невесело ухмыльнулся Сакуров. – А ты, значит, не она сама или дальний её родственник?
– Никак нет, – снова кротко возразил Фома. – Не от дьявольского соблазна и его богомерзкой епархии я к тебе с откровением послан. Но поелику возможно сооружения для своеобычных отношений с человеком, в чьём теле мы обнаружили дух первозданный. Усекаешь?
– Витиевато загнул, – недовольно сказал Сакуров. – Нельзя ли впредь изъясняться попроще? Ведь можешь, судя по последнему твоему слову?
– Могу, – вдруг почему-то вздохнул Фома. – Я по-всякому выражаться могу, поскольку лет мне немало…
– Сколько?
– Да почитай, пятый десяток да на десяток помноженный.
– Врёшь! Этой деревне от роду шестьдесят с небольшим лет. Её до войны построили, это я знаю.
– Да вить я не всегда домовым был.
– А кем ты был?
– А был я дух святый, канонизированный и вся прочая в году от рождества Христова таком-то. Однако спустя двести с лишком после канонизации лет лишился я своего истинно духовного, не чета земным присно живущим каноникам, сана за вольномыслие, и был спущен на самую нижнюю ступень нашей епархии. С тех пор мыкаюсь в должности дежурного домового по разным городам и весям. Две недели назад был прикомандирован к данной конкретной деревне, к твоей избе, вместо домового Луки.
– А его куда? – машинально поинтересовался Сакуров.
– Повысили, – скорбно возразил Фома. – Теперича Лука дух ночной. Теперича он стережёт одно закрытое кладбище в Смоленске городе.
– Завидуешь? – тонко подметил Сакуров.
– Есть такой грех, – не стал спорить Фома. – А и то не завидовать? Ведь Луке теперича и делов то, что алкашей да малолетних влюблённых пугать, которые на закрытое кладбище ночью забредут. Уж не сравнить с обязанностями домового. К тому же мне окромя этих обязанностей специальная миссия дана…
– Ну, да, налаживать со мной какие-то специальные отношения, потому что я, якобы, являюсь носителем некоего первозданного духа, – с плохо скрытым сарказмом напомнил Сакуров.
– Вот именно, – не понял или не обратил внимания на сарказм Фома.
– Интересно, почему нельзя было к какому-нибудь другому клиенту подвалиться? Ведь не у одного меня есть этот, как его, дух первозданный? И вообще, что это за орган такой анатомический, про который мне ничего неизвестно? Не душа ли это попросту?
– Душа – это душа, а дух – это дух, – возразил Фома. – И на всю округу дух имеется только у тебя.
– Очень популярно! – воскликнул Сакуров. – Фигня всё это, тем более, я материалист и не верю ни в душу, ни в духов.
– Хозяин – барин, – не стал спорить Фома и так завозился в своём углу, что даже половицы заскрипели.
«Слуховая галлюцинация», – подумал Сакуров.
– Блохи, – сказал Фома.
– Ты что – собака?
– А чё ты дразнис-си? – обиделся Фома. – То я белая горячка, то собака…
– Да потому что у людей блох не бывает!
– А кто сказал, что я человек?
– Но был им когда-то?
– Это – да: когда-то был.
– Так какого фига теперь на тебе блохи?
– Какого надо.
– Интересно было бы посмотреть на тебя.
– Подойди и посмотри.
Сакуров хотел прогуляться до места, откуда доносился голос, но не смог: ноги словно заплелись между собой, и ими едва можно было пошевелить.
«Чёрт!» – подумал Сакуров.
– Чур нас! – сказал Фома.
– Вот пристал, – пробормотал Сакуров.
– Не пристал, а прислан начальством, поелику наше духовное братство должно осуществлять повсеместное попечение над людьми, в чьих бренных телесах ещё сохраняется духовное естество.
– Бред какой-то, – недовольно сказал Сакуров. – Это телеса и есть человеческое естество. А дух – так себе, придумка для быдла, чтобы ему легче чувствовалось в дерьме и кабале с надеждой на лучшую долю своего отошедшего от своего бренного тела духа…
Сакуров, выговорив столь длинную тираду, сам себе удивился: в повседневной жизни он говорил короче и безграмотней.
– Не всякий бред есть инструмент отрицания истины, но всякая истина есть потенциальный носитель бредовых идей, – молвил Фома.
– Что-о? – элементарно не понял Сакуров.
– Это я так, к слову, – возразил Фома.
– К слову, – заворчал Сакуров. – Ты лучше скажи: коль я такая важная персона, носитель этого, как его, духа первозданного, тогда какого хрена ко мне прислали домового? Что, нельзя было найти кого-нибудь почище? И потом: я вот тут с тобой сейчас беседую, и меня мучают всякие сомнения: не есть ли данная беседа, до которой я изволил бездарно допиться, невесёлая примета какого-нибудь мрачного явления, ожидающегося в скорейшем будущем? Я не имею в виду очередное торнадо в Америке или землетрясение в Японии, мне интересно знать про явления, которые могут коснуться лично меня. Ферштейн?
«Я ли это сказал? – с вялым изумлением подумал Сакуров. – Поди, не поймёт ни хрена…»
– Чего изволите? – действительно не понял или просто прикинулся дураком Фома.
– Ну, это… не должен ли я на днях крякнуть?
– Не должен, – успокоил Сакуров Фома. – А что касается особы почище, так домовому проще общаться с живым человеком чем, скажем, высшему духу, обитающему в верхних или даже средних эмпиреях. Всё, знаешь ли, должно совершаться по установленному регламенту и согласно субординации.
– Я сейчас с кровати упаду! – воскликнул Сакуров. – Это какая среди вас субординация?
– Какая надо.
– А кто главный?
– Кто надо.
– Ну, ты, блин, чичероне хренов! Может, хоть объяснишься насчёт разницы между душой и духом первозданным? А то я сегодня хрен с два усну, пока не узнаю, чем это я так отличаюсь от нормальных людей?
– Ну, это, пожалуй, можно. Вить ты не вор?
– Не вор.
– Не завистник?
– Не завистник.
– Не стяжатель?
– Не стяжатель.
– И души человеческой ради выгоды не губитель?
– Ради выгоды – ни в коем случае!
– Всяких тягот испытав, подлости человеческой отведав, не озлобился?
– Нет.
– Не клеветник, лукавый обманщик, сластолюбец и двуличник?
– Нет, нет, нет и ещё раз нет.
– И гордыня тя не обуяет?
– Какая на хрен гордыня!
– Вот и прямая тебе дорога в наше братство.
– Иди ты! – испугался Сакуров. – А говоришь, что я не должен крякнуть?
– Все крякнут, но со временем.
– Со временем – это когда? Меня интересует моё время. Когда крякнет Мироныч – мне до лампы.
– Твоё время суть миг в летописи мироздания, обратная сторона какового есть целая вечность, преходящая из полустатического состояния в ускоряющуюся последовательность мгновений, – сказал Фома.
– Чтоб ты треснул! – разозлился Сакуров. – Если мы с тобой о такой же ерунде и раньше трепались, то я сам себя не понимаю!
– Раньше мы трепались о всяком, но особливо о нашем житье-бытье, – повторил Фома.
– Нашем – это чьём? Я про своё бытьё, например, всё и без тебя знаю.
– Да нет, мы о нашем.
– О вашем? – уточнил Сакуров.
– Да.
– Ну и что интересного ты рассказал мне про ваше житьё?
– Всякое. В частности, рассказывал я тебе про моих коллег, кои с тобой по соседству хозяйство ведут. Да о недругах ихних, каковые им в этом хозяйстве мешаются.
– Ну? Продолжай. Ведь я всё равно ни черта не помню из того, что ты мне в прежние разы рассказывал. Тем более что в мифологии я не силён, но послушаю про неё с удовольствием.
– А вот мифологию ты зря сюда путаешь, – обидчиво возразил Фома, – потому что она не причём. Есть, конечно, в ней кое-какие похожие на нашу деятельность толкования, но и только.
– Ну чё ты к словам цепляешься? – возразил Сакуров. – Мне ведь всё едино: что мифология, что теософия, что теория большого взрыва или ещё чёрт знает что, – я ни в чём таком особенно не догоняю. Короче, начинай поливать про свой быт и быт своих коллег с ихними недругами, но начинай по порядку, с крайней избы, где живёт старый хрыч Мироныч. Неужели и ему домовой по штату полагается?
– Домовой во всяком жилье полагается, – терпеливо пояснил Фома.
– Если во всяком – то вас тьма! – воскликнул Сакуров.
– Да, нас порядочно.
– Так что там про Мироныча?
– Есть у него домовой по имени Кирьян, вот кому жисть – не жисть, а сплошная малина.
– Это ещё почему?
– Да потому что ему в его хозяйстве ни один злыдень не мешается.
– Что ты говоришь, – пробормотал Сакуров. – И почему ему, Кирьяну твоему, ни одни злыдень в хозяйстве не мешается?
Константин Матвеевич примерно знал ответ, но хотел услышать его от домового.
– Правильно соображаешь, – сказал Фома. – Ваш Мироныч сам такой выдающийся злыдень, что другим в его избушке делать нечего.
– А у Жорки есть злыдни?
– Навалом.
– А у меня?
– И-и! Раньше, конешна, пока дом в запустении пребывал, злыдни его стороной обходили. Потом учуяли тепло, а в нём хорошего человека и стали поселяться.
– Вот спасибо.
– Да не за что…
– А у кого ещё их много?
– У Варфаламеева.
– Ясно… Кстати, такой вопрос: что лучше, прямиком угодить в ваше сомнительное братство в виде какого-то первозданного духа или просто на тот свет в виде обычной души?
– Да уж лучше к нам, а то ведь в виде души, оно того. Сначала, тоись, тута будешь сорок дён болтаться, опосля в судилище покантуес-си, откуда ещё неизвестно, куда тебя определят: то ли в рай, то ли в ад, то ли в какую-нибудь реинкарнацию.
– Ну, ты и наговорил, – совсем уже сонно молвил Сакуров, – однако со злыднями я не согласен.
– Это как? – спросил Фома.
– А вот так. Уволю на хрен, а то развёл тут всякую сволочь…
– Да вить это не наша вина, ежели где какой злыдень, а то и целая их свора в какой-никакой избе заведётся, – принялся неторопливо оправдываться Фома, а Сакуров почувствовал, что начинает по-настоящему засыпать. Если, конечно, он уже не заснул, и теперь ему не снится, что он засыпает по-настоящему. А Фома в это время продолжал бухтеть: – Это всё от самих людей зависит. Вить злыдни, они производство дьявольской епархии, и они не лезут туда, где живёт какой-нибудь человечек, коему сам главный нечистый благоволит. Но ежели ты не сумел главного нечистого к себе расположить, то – беда! Да… А вот нам, в отличие от злыдней, велено с нашего верха жить везде при всяком человеческом жилье, независимо от того, живёт ли там протеже главного нечистого, или его глупый непочитатель. Однако…
«Однако пить бросать надо, – в который раз подумал Сакуров, проваливаясь всё глубже и глубже в долину снов и отчуждения от реальной жизни, – иначе я точно договорюсь с этим домовым до дурдома…»
Ночью Сакуров снова куда-то летел, снова видел прекрасный город в виде грандиозной террасы, спускающейся к морю. Это море, пока Сакуров летел вдоль городской прибрежной зоны, показалось Сакурову изумительно чистым. Но затем, когда он долетел до первых дебаркадеров грузового порта, он стал замечать на воде пятна мазута и целые плавающие острова мусора. В это время самолёт решил приводниться, и на Сакурова напали акулы.
Глава 7
На следующее утро Сакуров завязал с пьянством. Семёныч хитро промолчал, Виталий Иваныч посмеялся, Жорка (тем же утром он приехал из своего Подмосковья) и Варфаламеев отнеслись с пониманием, а Грише и Миронычу это было по барабану. Дело в том, что Сакуров жил крайне бедно в долг на Жоркины деньги, он не мог ничего дать Миронычу в обмен на его дрянной самогон или напоить на халяву Гришу. Впрочем, эти два односельчанина тоже мало интересовали Сакурова. К тому же пришла пора сеять морковь, свеклу, разную зелень, а там, глядишь, и наступала пора картофельных работ. Тут Сакурова выручила Жоркина жена-сказочница. Она навезла всяких семян, два дня визжала на Жорку, тот тоже бросил пить и занялся огородом.
– Слышь, сосед! – позвал он Сакурова. – На вот тебе половину моего семенного фонда, трудись.
– Да куда столько? – удивился Сакуров, принимая у Жорки ворох пакетов.
– Нормально, – отмахнулся Жорка, достал из кармана телогрейки дорогие сигареты, угостил Сакурова и закурил сам.
– Слушай, – проявил непривычное любопытство Сакуров. – Тебе хватает пенсии или жена хорошо зарабатывает?
– Фигню она зарабатывает, – отмахнулся Жорка и замолчал. Трезвый, он не любил говорить. А Сакуров тоже не стал напрягаться дальше. Впрочем, как-то спьяну Жорка рассказывал, что кое-кто из его однополчан приподнялся. Поэтому можно было предположить, что кое-кто из тех, кто приподнялся, не забывал Жорку и подогревал его в финансовом выражении.
– Я вижу, тебе этой весной трактор не понадобится, – заметил Жорка.
– Я думаю, нет, – сказал Сакуров. – А вы ждёте?
Он имел в виду деревенских, которые всем скопом каждую весну хлопотали насчёт трактора. Хлопоты эти выражались походами друг к другу и разговорами о том, что неплохо бы трактор где-нибудь раздобыть. Семёныч ходил вместе со всеми и намекал на отсутствие тормозной жидкости. Да и бензина тоже. Его намёки единодушно игнорировались, а разговоры насчёт трактора продолжались. Кончалось тем, что Семёныч швырял картуз оземь и ехал на запасном бензине в совхоз, откуда вскоре возвращался на бровях. Следом за ним пыхтел какой-никакой тракторишка, а тракторист был тоже на бровях. Потом происходила обще деревенская свара за право первой пашни, потому что тракторист работал строго за водку, которую норовил выпить сразу по получении. Поэтому крайнему светила роль гостеприимного хозяина, вынужденного предложить свой кров для ночлега в жопу пьяному трактористу. Который только на следующее утро, и только опохмелившись, мог вспахать крайний участок. В общем, право первой пашни, как правило, доставалось Семёнычу. А потом, как получится.
– Лично мне он на хрен не упёрся, – хмуро ответил Жорка и презрительно сплюнул, выражая своё отношение к козлам-односельчанам, – я всё осенью вспахал.
– Логично, – одобрил Сакуров.
– Ладно, пошли работать, – буркнул Жорка и потопал на свой участок.
– Пошли, – согласился Сакуров.
Две недели пролетели незаметно. Участок Сакурова приобрёл идеальный вид. Он нарезал аккуратные грядки, посеял морковь, свеклу, лук, фасоль, а затем посадил картошку. Днём солнце палило по-летнему, но стоило ему свалиться за горизонт, как под покров предательской ночи норовили проникнуть вредительские заморозки. Земля покрывалась губительным инеем, а чёрное небо, как ни в чём не бывало, подмигивало огромными звёздами. По утрам скворцы устраивали весёлые разборки, воробьи шебаршились в непролазных кронах ракит, а лягушки, проснувшись, устраивали такие концерты, что куда там хору имени Пятницкого. Трава попёрла в рост, деревья украсились разноцветным пушком наметившейся листвы, откуда-то появились первые пчёлы, а в одной из комнат избы Сакурова очнулся шмель. Он шумел там до тех пор, пока Сакуров не поймал его в майонезную баночку и не выпустил на волю.
Прочие селяне, в отличие от Жорки и Сакурова, без трактора не обошлись. Вообще, в Серапеевке, как и во всей остальной Руси, о завтрашнем дне особенно не пеклись, и по осени к весне не сильно готовились, рассчитывая на всесильный русский авось и учитывая чисто деревенскую прижимистость. В том смысле, что всякий, потратившийся осенью на вспашку, зимой мог вполне крякнуть. И получится, что родственному наследнику, чтоб ему заранее пусто было, достанутся две халявные бутылки гари. Или три. Ну, те, которые предполагаемый покойник мог недальновидно потратить на тракториста.
Короче говоря, остальные сельские, в отличие от Сакурова и Жорки, уже с двадцатого апреля маялись извечной тракторной проблемой. Числу к двадцать пятому Семёныч с Варфаламеевым созрели окончательно и погнали в совхоз за трактором. Там они раздобылись целым «кировцем» (14) и вспахали свои огороды. Потом они до упада пьянствовали с трактористом, его помощником, их механиком и двоюродным братом механика. А потом их ругала вся деревня.
Но затем всё устаканилось, Семёныч с Варфаламеевым (и прочие сельские) привели свои огороды в надлежащий порядок, и жизнь в деревне пошла по издревле заведённому в российских сельских местностях регламенту. Мужики не ленились, бабы на них покрикивали и в работе не отставали от мужиков, а Семёныч с Варфаламеевым продолжали зажигать, иногда подпаивая то Гришу, то Мироныча. Виталий Иваныч тоже поддавал, но с начала сезонных работ он перешёл на одиночное пьянство, поэтому в компаниях не участвовал. Потом Гриша перевёз со станции в деревенский дом супругу и тоже завязал. А Мироныч не отказывался ни от одной халявной пьянки. При этом Мироныч халявничал вдвойне: он менял свой дрянной самогон на Варфаламеевские продукты, и часть его же выпивал без ущерба для своего древнего организма и сельского хозяйства в единоличном выражении. Другими словами: он тоже ковырялся в огороде, и, удивительное дело, умудрился посадить и посеять всего понемногу.
В общем, жизнь в деревне пошла веселей. Соседи Сакурова с другой от Жорки стороны, две немолодые подруги-вековухи и одна немолодая вдова, трудились на одном участке. Они привезли кур, петуха и собаку Стешку, которая обгавкивала всякого, кто её не угощал. Сакуров наладил с соседками сносные отношения, и они друг другу не мешали.
Ещё один житель деревни (дальше к северу после двух подруг и одной вдовы), некто Жуков, стал показываться в деревне строго в выходные с женой. Говорили, что он, выйдя на пенсию, продолжает трудиться на своём заводе в Угарове и был не дурак выпить. Но пока этот сосед ещё никак не проявился. То ли потому, что вместе с ним на огород приходила его жена, то ли потому, что было недосуг.
Потом в деревню на сезонное жительство приехали Иван Сергеевич со своею старухой, Марьей Николаевной, и появилась тётка Прасковья, ближайшая соседка Семёныча с северной стороны. Они – Семёныч и тётка Прасковья – тотчас полаялись, при этом полаялись из какой-то ерунды, однако расстроили друг друга изрядно. Прасковья, копая грядки, материлась ещё минут сорок, а Семёныч, бросив все дела и пьянку, ходил по деревне и ругал соседку сволочью.
Последней прибыла учительница – дама сухая, мелкая и отчётливо пенсионного возраста. Она жила в Москве, там же продолжала трудиться, а дом в Серапеевке купила по случаю, и именно тот, что стоял единственный не в ряд с остальными домами, а на другой стороне. Учительницу привезли на майские праздники зять с дочкой. Пожилая труженица просветительской нивы моментально познакомилась с Сакуровым, она изображала из себя саму любезность и как-то неназойливо склонила соседа к производству некоторых вспомогательных работ в своём хозяйстве. В это время зять с дочкой гуляли по полю, дочка, появлялась в деревне, была со всеми предупредительна, а зять ни с кем не здоровался и смотрел на деревенских с откровенным презрением. А внук учительницы, припёршийся в Серапеевку на папиной тачке, стрелял в пруду лягушек специальными пробками из какого-то импортного ружья. Затем учительница попросила Сакурова присматривать за её избушкой и укатила со своими обратно в столицу.
– Уехала? – поинтересовался Семёныч, подваливая к Сакуровскому крыльцу.
– Да, – кратко ответил Сакуров. Они закурили.
– Ничего не дала? – спросил Семёныч.
– Чего – не дала? – переспросил Сакуров.
– Вот дурак! – возмутился Семёныч. – Какого тогда хрена ты ей воду носил и дрова рубил? Надо было водки взять.
– Ещё чего! – возмутился Сакуров, проигнорировав первого дурака.
– Дурак! – повторил Семёныч. – Ты ей воду таскал, а зятёк с внуком прохлаждались.
– А ты видел этого зятя? – кротко спросил Сакуров. – Он себя еле таскает.
Учетильшин зятёк выглядел донельзя хилым, и Сакуров по-христиански простил ему его презрение к себе и односельчанам, относя такое поведение на счёт попытки компенсировать свою физическую ущербность.
– Хе-хе! – сказал Семёныч. – Он, между прочим, имеет чёрные подвязки по каратэ.
– Пояс, – машинально поправил Сакуров.
– Какая на хрен разница. К тому же работает в самом Спорткомитете бывшего СССР.
– Да-а? – удивился Сакуров. Впрочем, судя по прикиду зятя, дочки и внука учителки, можно было сразу предположить, что зять не ботанику в школе преподаёт.
– Да-а! – передразнил Сакурова Семёныч, всё про всех знавший. – Они теперь в спорткомитете такую коммерцию развели, что только держись. Из-за границы не вылезают, бабки гребут лопатой, так что могли выдать тебе за труды, а ты мог с нами поделиться.
– Они – это кто? – уточнил педантичный Сакуров. – Учительшина дочка тоже в спорткомитете работает?
– Нет. Она работает в институте бывшего марксизма-ленинизма. Но там, я слышал, тоже быстро пересобачились на какую-то валютную спекуляцию.
– Интересно, – пробормотал Сакуров, скудным своим умом пытаясь осмыслить метаморфозу, с помощью которой институт марксизма-ленинизма мог сделаться коммерческой структурой. – А ты откуда всё знаешь? – несколько запоздало спросил он Семёныча.
– Я и сам когда-то работал в Олимпийском комитете СССР, – важно молвил Семёныч.
– Кем? – не поверил Сакуров.
– Вахтёром в одном ихнем гараже, – скрепя сердце признался трезвый Семёныч, в силу чего (своей временной трезвости) не сумевший соврать, что служил в известном комитете главным тренером или хотя бы администратором запасной команды по бадминтону. – Меня тогда на инвалидность после одной аварии отправили, вот я…
– Понятно. А про учительшину дочку тебе кто напел?
– Петровна. У неё, чтоб ты знал, пять сестёр. А одна живёт рядом с учительницей. А другая одна сестра, чтоб ты знал, до сих работает в МИДе.
– Кем? – машинально поинтересовался Сакуров.
– Не твоего ума дело, потому что где МИД, а где ты, – важно заявил Семёныч и бросил окурок.
– Угу. Зато твоего ума.
– Факт. У меня с нашим МИДом через Петровну крепкая связь. А ты дурак, – в третий раз обозвал Сакурова дураком Семёныч и оглянулся на свою избушку, где демонстративно громыхала вёдрами его супруга, злая и сварливая Лидия Петровна.
– Я тебе за дурака морду набью, – вяло пообещал Семёнычу Сакуров.
– Выпить хочешь? – проигнорировав угрозу, хитро спросил Семёныч.
– Н-нет, – не очень уверенно возразил Сакуров.
– А наш НЗ у тебя цел?
– А фигли ему сделается?
– Ладно, завтра выпьем. Мы тут постановили большинством голосов, что завтра можно.
– Что, какой-нибудь местный праздник? – полюбопытствовал Сакуров.
– Завтра стадо пригоняют, во-о!
Сразу за северной окраиной Серапеевки начинались колхозные луга, и рядом с домом Мироныча имелся летний загон для скотины. Там она, скотина, или, точнее, молодняк на откорме, находилась часть весны, всё лето и часть осени. Там же стояла, прямо в навозной жиже, будка для персонала. Персонал состоял когда из двух, а когда из трёх мужиков. Мужики проживали в Лопатино, селе, расположенном всего в шести километрах от Серапеевки. Два населённых пункта соединяла грунтовка, но народ, шаставший из Лопатино в Серапеевку и обратно, грунтовку игнорировал, предпочитая тропу. Тропа спрямляла путь от одного населённого пункта к другому в виде диагонали, соответственно его сокращала, но имела одно неудобство – сомнительную переправу через Серапею в виде мостков, которые соорудили тяп-ляп из жердей и прочего мусора ещё во времена дурака Хрущёва. Его, кстати, до сих пор помнили местные жители, потому что товарищ Хрущёв лично приезжал в Угаровский район, лично велел закрыть единственно действующую в округе деревенскую церковь, и лично похлопотал об улучшении жилищных условий Лопатинских крестьян. Поэтому теперь всякий житель Серапеевки, выйдя на северную околицу, мог любоваться на двухэтажные Лопатинские бараки без всяких удобств и ободранную маковку церкви.
Впрочем, к завтрашней встрече лопатинских пастухов ни церковь, ни бараки отношения не имели, потому что в бараках никто из них не жил, а богомольных среди них не было. На службу пастухи прибывали ориентировочно в восемь. Кто тащился на лошади, кто – на велосипеде. Прибыв, работники пили чай (или водку) и выпускали скотину из загона. В шесть скотину загоняли, снова пили чай (или водку) и уезжали домой. С шести вечера до восьми утра скотину сторожил Семёныч. Колхоз, где служил Семёныч, ещё не пришёл в окончательный упадок, поэтому зарплату там продолжали платить почти регулярно. И Семёныч, особенно любивший поговорить в кругу неискушённых слушателей простого звания, исправно тратил все свои зарабатываемые в колхозе деньги на утренние и вечерние чаепития (или распивание водки) в кругу благодарных чисто деревенских слушателей. Данная благодарность имела несколько математический характер, поскольку прямо пропорционально зависела от качества чая или количества водки.
– Это лето ты опять будешь сторожить? – на всякий случай спросил Сакуров.
– А как же!
– А меня нельзя пастухом на лето?
– Сюда – нет. А вот дойных коров можешь пасти сколько угодно. Там штат не укомплектован.
– Далеко, чёрт бы их побрал, – с сожалением возразил Сакуров. В прошлую осень, конечно, дойные коровы его выручили здорово, но нынче, когда перед беженцем нарисовался необъятный фронт работ вместе с честолюбивым планом стать зажиточным фермером, данные коровы становились почти недосягаемыми. Другими словами, мотаться на своих двоих почти десять километров до загона, где содержались колхозные коровы, и столько же обратно, не представлялось занятому Сакурову возможным. А лошадью или велосипедом он не мог обзавестись даже под кредит бесшабашного Жорки, также испытывавшего временные финансовые затруднения из-за своего пристрастия к дорогим сигаретам и эксклюзивному бухлу, которое бывший интернационалист потреблял в немереных количествах во время поездок в своё Подмосковье и обратно.
– Да, не близко, – ехидно поддакнул душевный Семёныч.
Сакуров, услышав откровенное ехидство в словах человека, готового всегда прийти на помощь в трудную минуту, в очередной раз подивился многообразию внутренней природы чисто русского человека, куда творец представителей населения самой обширной территории мира щедрой рукой намешал всяких составляющих в виде несгибаемого духа, воли к победе на любых фронтах, склонности к созерцательному времяпрепровождению, безраздельному господству, абсолютному холуйству и спазматическому предательству. Помимо вышеперечисленных свойств, вышеуказанный творец (или помощник творца по производству определённых представителей народонаселения) не поскупился на щедрость, благородство, завистливость, лукавство, ехидство и жадность от мелочной до всепоглощающей. Другими словами, Семёныч был таким, каким его создала природа или создал творец: он по-своему любил ближнего своего и по-своему его ненавидел. Единственно, Семёнычу недоставало жадности, если не сказать больше, а именно: не сказать о её полном отсутствии у данного обитателя описываемой местности. Впрочем, и лукавство бывшего столичного таксиста носило характер скорее классический, присущий известным положительным героям русского устного народного творчества, нежели бытовой, когда русский человек, умело оперируя описываемым свойством, посягает на извлечение какой-никакой чисто материальной выгоды.
– Интересные дела творятся с этим колхозом, – заметил Сакуров и кинул свой бычок в специальную банку. – То он разваливался, то вновь зафункционировал.
– Там теперь новый председатель, – объяснил всезнающий Семёныч. – Почуял выгоду от этой, как её… пре… пря…
– Приватизации? – подсказал Сакуров.
– Ну! Поэтому решил хапнуть из казенных закромов всего, что осталось от советской власти безвозмездно, а потом пре… пря…
– Ясно, – перебил односельчанина Сакуров. – Пошли работать, что ли?
– Пошли, – согласился Семёныч, посчитав ходки Петровны до колодца и решив, что воды дома теперь хватит до следующего утра.
Вечером, когда Сакуров, сидя на перевёрнутом дореволюционном ведре, курил напротив хилой сакуры и наслаждался тишиной, к нему пришёл Жорка. Судя по его ухмыляющейся роже, Жорка уже заправился. Сакуров держал полтора литра «общака», поэтому приготовился к трудному разговору. Судя по всему, Жорка освежался из какого-то единоличного источника, и пришёл, скорее всего, просить Сакурова выделить себе дополнительную порцию в единоличное же пользование из общественных запасов. На каковые поползновения частного характера Сакуров, как лицо ответственное, должен был отвечать отказом. А отказывать Жорке всегда стоило Сакурову невероятных моральных усилий.