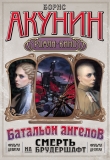Текст книги "САКУРОВ И ЯПОНСКАЯ ВИШНЯ САКУРА"
Автор книги: Герман Дейс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 42 страниц)
Глава 17
Природа подарила сельским жителям ещё одну возможность реализовать свои планы по скорейшему обогащению в виде сухой погоды, под эгидой каковой можно было без напряга выдернуть созревший урожай на поверхность земли, просушить его и, частью ссыпать в погреба, частью реализовать на рынке.
Все деревенские не преминули данной возможностью воспользоваться. На скорейшее обогащение, правда, никто не рассчитывал, но кормовой безопасностью обеспечились почти все.
Жорка Прахов и Константин Матвеевич Сакуров, в отличие от односельчан, планировали немного иначе. То есть, от представившейся возможности обогатиться они увиливать не собирались. И пусть это была смешная возможность и в принципе не такая, какая представилась в своё время Абрамовичу или Вяхиреву, тем не менее, ни Жорка, ни Константин Матвеевич упускать её не хотели.
Короче говоря, свою картошку Жорка Прахов выкопал за четыре дня. Её у него оказалось четыре с лишним тонны. Сакуров, имея две руки против одной Жоркиной, ковырялся пять дней и вырыл только две с половинной тонны.
– Блин, нехилая работёнка, – кряхтел Константин Матвеевич, ёжась под задубелой коркой рабочей одежды и дымя полюбившимся самосадом.
– Это тебе не мандарины собирать, – ухмыльнулся Жорка, смоля дорогой сигаретой. Приятели, оставив позади картофелеуборочные работы, сидели на крыльце Сакурова, осенённого кронами ракит и одного дуба. Листва на деревьях украсилась дополнительной расцветкой наступающей осени, лёгкий ветерок шуршал ею и ворошил редкие павшие «первенцы» на пожухлой траве вдоль просёлка и между его убитыми колеями. В прозрачном воздухе слышались скупые птичьи голоса, и призрачно отсвечивала паутина. Жоркина жена уехала на свой оборонный завод, где ожидалась свежая партия американцев, повадившихся шастать в бывший Советский Союз за бывшими советскими секретами бывшей советской оборонки. Учительница тоже собиралась отвалить, но на днях, поскольку начало учебных занятий демократы не отменяли, и начало учебного года планировалось на первое сентября. И, пока не поджимало, учительница торчала в деревне, ожидая крутого зятя, когда тот соизволит подъехать и вывезти тёщу. А пока, синенькая и сухонькая, то есть, тощая, мелкая и крашеная из седой бабки в голубую Мальвину, учительша ползла в сторону общественного колодца мимо перекуривающих Жорки и Сакурова.
– Здравствуйте, Валентина Алексеевна! – почти синхронно поздоровались Жорка и Сакуров. Жорка приветствовал старую грымзу иронично, Сакуров – почтительно.
– Здравствуйте, – ответила учительница таким страдальческим голосом, словно не за водой шла, а за напившимся в жопу мужем, классическим борцом тяжёлого веса, который застрял в кулуарах партии Черномырдина «Наш дом Россия».
«Надо помочь», – подумал добрый Сакуров.
– Сиди, – сказал Жорка.
– Слушай, чего ты такой непримиримый? – удивился Сакуров.
– Я не непримиримый, я просто не люблю хитрожопых, – возразил Жорка и посмотрел в сторону околицы, где упирался над производством своих дел старый навозный жук Мироныч. Сегодня ожидался очередной забой созревшей тёлки, и Мироныч хлопотал о достойной встрече пастухов, которые сейчас едва виднелись вдали за околицей вместе со своим стадом. Впрочем, о «художественной» части встречи уже позаботился Семёныч, закупив два литра водки, а Мироныч прибирался дома, где планировалось застолье. Другими словами, бывший директор бегал из дома в погреб, пряча разные «ценные» вещи, а заодно готовил тару для длительного хранения почти дармового мяса.
Дело в том, что в начале лета кто-то подарил бывшему директору щенка неизвестной породы. Этот щенок жрал всё, что плохо лежит у односельчан, потому что сам Мироныч щенка нормально не кормил, и у него ничего плохо не лежало. Но щенок, невзирая на кормовую недостаточность, рос, как на дрожжах, в два месяца превратился в приличную собаку и скоро от непреходящего голода стал завывать так, что стал беспокоить даже глухую бабку Калинину и грачей. Грачи раньше времени слиняли на юг, а Виталий Иванович высказал Миронычу недовольство, и старый сквалыга стал выдавать две бутылки своего дрянного самогона пастухам в обмен на то мясо, которое появлялось в процессе разделки очередной тёлки, но не пригодилось бы ни для какого приготовления в виде нормальной человеческой пищи.
Иначе говоря, за две бутылки дрянного самогона рачительные пастухи выдавали Миронычу такое же дрянное «мясо» типа внутренностей вместе с коровьим говном, головы вместе с рогами, копыт и прочего неликвида. Но Мироныч и тут оказался в прибытке: говно он старательно удалял, а из кишок, требухи и прочего неликвида делал тушёнку, которую ел сам вместе со своей Азой Ивановной, а часть отправлял своим многочисленным детям-бизнесменам в Москву и бывший Ленинград. Выросшему же щенку доставался суп из рогов и копыт. Поэтому он продолжал выть, доставая не только одну бабку Калинину, но даже жителей неблизкого Лопатино. И продолжал тырить любую, плохо лежащую, жратву у односельчан.
Мироныч тоже не избегал данной участи, потому что по старости иногда забывал заготовленное для тушёнки неликвидное мясо в разных местах, а щенок, если находил его, сжирал всё подчистую. Поэтому перед всяким очередным забоем Мироныч и хлопотал, готовя запирающуюся тару, в которую он потом складывал очищенное от говна и шерсти мясо и спускал в колодец до той поры, когда его (мясо для будущей тушёнки) можно будет вывезти хозяйственной Азе Ивановне.
Но Дик (так звали щенка) и тут успевал.
Он умудрялся тырить мясо из запирающейся тары в те редкие моменты, когда тара была ещё не заперта и стояла на срубе колодца. В такие моменты Дик очень спешил, поэтому иногда опрокидывал незапертую тару вместе с тем мясом, которое не успевал стащить, прямо в колодец. Мироныч, находя тару опрокинутой в колодец, а очищенные от говна кишки, плавающими на его поверхности, сильно возмущался. При этом он винил всех, но только не Дика, в каком-то вредительстве. Но особенно доставалось Жорке, снискавшем нелюбовь старого навозного жука к себе за то, что он раньше всех раскусил его истинную паскудную сущность.
– Тебя послушать – так все в нашей деревне хитрожопые, – заметил Сакуров. – А хитрость – это всего лишь одно из проявлений человеческого ума. Так зачем из-за неё судить всякого?
Учительница в это время дотащилась до колодца, с мученическим видом сняла крышку, и надолго замерла, словно набираясь сил перед неизбежным подъёмом ведра из колодца.
– Хитрость – это адаптированный животный инстинкт, – веско возразил Жорка. – Поэтому для меня всякий хитрец вроде Мироныча и учительницы – примитивные обезьяны.
– А что тогда есть человеческое сознание? – машинально спросил Сакуров, с состраданием наблюдая за учительницей.
– Сознание – суть качественно новый продукт эволюции, – безапелляционно заявил Жорка. Его безапелляционность граничила с той его прямолинейной убийственностью, с которой он когда-то решал некоторые дела своего недавнего боевого десантного прошлого. В том смысле граничащей, что в новой жизни он никого не убивал, в то время как в прошлой кое-кого убивать ему приходилось.
– Я тебя, Жорка, конечно, уважаю, – пробормотал Сакуров, – но…
Он затушил бычок в специальной банке и отправился помогать учительнице. Жорка устроился на скамейке крыльца Сакурова поудобней, приготовившись смотреть и слушать происходящее перед ним действо со всей внимательностью трезвого русского человека.
– Давайте я вам помогу, Валентина Алексеевна! – предложил Сакуров.
– Ах, Костя! – жеманно возразила учительница. – Не стоит… Я и сама…
– Да ладно, – грубовато прервал учительницу Сакуров и поднял ведро из колодца, наполнил ведро учительницы, затем поднял ещё, наполнил другое её ведро, подхватил их и потащил к крыльцу избушки столичной дамы. Поставив вёдра возле двери, Сакуров хотел откланяться, но не тут-то было.
– Костя, если вас не затруднит, мне нужно ещё пять вёдер, – огорошила Сакурова учительница.
– Да, конечно, – с готовностью согласился Сакуров и побежал выполнять задание.
– Это ей помыться сегодня надумалось, – во всеуслышание прокомментировал Жорка. – А то немытой встречать гостей ей негоже…
Учительница злобно зыркнула на Жорку, а Сакуров, пробегая мимо приятеля, посмотрел на него укоризненно.
– Ах, Костя! – снова запричитала учительница, когда Сакуров притащил положенное для помывки престарелой Мальвины количество вёдер воды. – Вы такой добрый… Не то что… А вот мне бы ещё…
– Что? – развесил уши Сакуров.
– Вы не могли бы помочь выкопать мне картошку?
– Э-э, – ответил Сакуров, оглянулся на Жорку, посмотрел на учительницу, изображающую всю скорбь земли русской, которую могут оставить без учительского энтузиазма, и заткнулся.
– Может, – отозвался Жорка. – А заодно отремонтировать туалет, замазать печку и способствовать реформе российского образования.
– Мне ещё надо спилить вот это ужасное дерево, – не обращая на Жорку никакого внимания, сказала учительница и показала на нехилый американский клён тридцатилетней давности.
– Видите ли… – пробормотал Сакуров, с тоской прикидывая свою покладистость по отношению к учительской нахрапистости.
В это время подал голос Дик. Последнее время Мироныч стал сажать его на цепь, от чего щенок неизвестной породы злей не становился, но жрать ему от этого хотелось ещё больше. В том смысле, что он не мог бегать по деревне и тырить пропитание у зазевавшихся селян.
– Мироныч! – заорал Жорка. – Покорми собаку!
– А я его кормил, – не замедлил с ответом старый навозный жук.
– Когда?
– Вчера!
– Чем?
– Пельменями с редькой!
Жорка загоготал на всю деревню, а Сакуров вспомнил, что Мироныч и его обещал угостить фирменным блюдом – пельменями с редькой. В своё время Сакуров отмолчался, потому что даже по своей нынешней бедности не мог оценить достоинства такого блюда, как пельмени с редькой. Наверно потому, что в Сухуми Сакуров не едал даже редьки, не то, что пельменей из неё.
Картошку учительнице Сакуров копать не стал. А когда старая грымза выползла на свой участок по соседству с Сакуровским, и принялась с видом кончающейся на арене Агнии ковырять землю, Константин Матвеевич просто убрался с одного огорода на другой. Ему было жаль пожилую женщину, но ещё больше Сакуров верил Жорке и своей интуиции. Поэтому, забив на жалость, Сакуров успел ссыпать часть картошки в погреб и произвести кое-какие ремонтные работы в сарае и прочем подворном терминале. И так, за хлопотами, он и думать забыл о предстоящем мероприятии, если бы ему не напомнили.
– Костя! – заорал Семёныч, когда стадо появилось на подходе к северной околице деревни. – Готовь вёдра!
Надо сказать, что по устоявшейся традиции (благодаря стараниям Семёныча) забой скотины, которая паслась возле Серапеевки, всегда происходил с некоей вальяжной помпой. То есть, пастухи делали минимум работ, без производства которых забой мог просто не состояться, а всё остальное – жители деревни. Вернее, Семёныч и его близкие друзья. Раньше в процессе присутствовал Жорка, но нынче он выпал из обоймы, и его место занял Сакуров. Рядом с ним крутились Семёныч, Петровна и Варфаламеев.
– Готовлю, готовлю! – засуетился Сакуров, старясь не смотреть на Жорку, насмешливо наблюдающего предзабойную суету.
– Варфаламеев! – надрывался Семёныч. – Где простыня?!
– Да я…
Всякий раз после помывки свеже убиённой тёлки требовалась простыня, чтобы обтереть обмытую тушу. Безотказный Варфаламеев перевёл почти все свои простыни, и решил пойти в отказ.
– Что – я?! – голосил Семёныч. – Уже сейчас забивать будут, а ты!
К тому времени пастухи загнали стадо в загон и, науськивая собак, пытались отделить от стада приглянувшуюся им тёлку. Когда тёлку отделили, здоровяк Мишка накинул на неё петлю и подтащил к одному из кольев ограды, внутри которой стояло стадо. Витька взял в руки кувалду и ахнул тёлку промеж рог. Тёлка упала на передние ноги, а Мишка сноровисто перерезал ей горло. Тёлка забилась в судорогах, а Мишка с Витькой, когда тёлка затихла, принялись её свежевать.
– Воду! – орал Мишка.
– Воду! – орал Витька.
– Костя! – орал Семёныч.
– Костя! – орала Петровна.
– Бегу, бегу! – отзывался Сакуров, таская вёдра с водой.
– Почему воду не подогрели? – орал Витька.
– Почему воду не подгорел?! – орала Петровна.
– Эх, Костя! – укорял Сакурова Семёныч.
– Я вас умоляю! – суетился рядом Мироныч. – Внутреннюю брюшину не проколите, а то требуха будет навозом пахнуть!
– Да, это может не понравиться Дику! – подсказывал Варфаламеев.
– Где простыня?! – рычал Семёныч.
– Да я, Семёныч…– оправдывался Варфаламеев.
– Где простыня?! – орал Витька.
– Так ты ж, Витёк…– пытался оправдываться Варфаламеев.
– Что – Витёк?! – заводился пастух.
– Что – Витёк?? – пузырилась Петровна.
– Нет у меня больше лишних простыней! – с отчаянием кричал Варфаламеев.
– Ну, нету, так травкой оботрём, – сладким голосом возражал Мишка.
– Эх, Петя! – поднимал голову к небесам Витёк, тащивший с места забоя всё, что могло пригодиться в хозяйстве его скрупулезной бабы.
– Да ладно, травкой оботрём, – успокаивал Мишка.
Он рвал траву, мочил её в ведре и обтирал освежёванную тушу. Витёк только делал вид, что помогает. Семёныч, Петровна и Сакуров старались вовсю. Варфаламеев разводил руками. Мироныч суетился рядом, следя, чтобы не потревожили внутренности. Дик, посаженный на цепь во внутреннем дворе избы Мироныча, выл страшным голосом. Собаки, приписанные к стаду, вели себя достойно.
Мишка умело обтёр тушу и в считанные полчаса разрубил её. Мироныч начал возиться рядом с зеленоватой кучей потрохов, из которой впоследствии получалась тушёнка для него с Азой Ивановной и их многочисленных детей-бизнесменов в Москве и Санкт-Петербурге. Семёныч раскладывал рубленые куски по кучам. Большая куча предназначалась для нужд загибающегося колхоза, пытающегося оформиться в акционерное общество нового типа, средняя куча предназначалась пастухам, маленькая – деревенским доброхотам. Самое хорошее мясо лежало в средней куче.
– Хорошо бы всё это сложить в мешки, – сказал Мишка.
– Да, не мешало бы, – поддакнул Витька.
– Варфаламеев, где мешки?! – подала голос Петровна.
– Так я в прошлый раз…– заикнулся Варфаламеев и посмотрел на Витьку.
– Чо ты всё на мене косяки кидаешь, а?! – решил изобразить из себя крутого Витька.
– Петь, дал бы ты ему в ухо, – посоветовал подканавший к загону Жорка.
– А, Жорка, здорово! – осклабился Витька.
– Привет, хмырь, – хмыкнул Жорка. – Чё, Мишаня, какие дела?
– Да вот, управляемся, – уклончиво ответил здоровяк. – Мироныч! – обратил он на себя внимание старичка, наполовину засунувшегося в телячьи внутренности. – Так мы пошли к тебе?
– Да, конечно, – возразил Мироныч, – только Дика не отвязывайте…
– О чём базар! – взмахнул руками Мишка.
Компания подхватилась, Петровна поволокла ведро с мясом домой, Варфаламеев с Сакуровым своё мясо рассовали по карманам, а Семёныч побежал впереди всех. Он пинком распахнул дверь в избушку Мироныча, где на столе стояло угощение, а Дик надрывался в сенях.
– Чо это за порода? – в который раз спросил Мишка у Витьки, проходя мимо Дика, пытавшегося тяпнуть за лодыжку всех без исключения.
– Это не овчарка, – авторитетно и не в первый раз ответил Витька. Одновременно он вытащил из-за голенища сапога широкий разделочный нож и полоснул Дика по ошейнику. Полоснул Витька профессионально. Он не поранил собаку, но надрезал ошейник капитально. Дик поднатужился, ошейник разошёлся и, пока компания входила во внутренние покои избы Мироныча, Дик делал ноги в сторону телячьих потрохов и Мироныча, сидящего в них. Стадо, мимо которого скакал Дик, тревожно мычало, собаки, приписанные к нему, лениво тявкали, Мироныч, занятый разделкой потрохов и подсчётом экономии своих многочисленных детей-бизнесменов из двух столиц за счёт питания домашней тушёнкой вместо итальянских ресторанов, не чуял никакой опасности. А Дик, здоровенный семимесячный щенок неизвестной породы, нёсся строго по назначению. Настигнув цель, Дик хватанул телячий желудок, наполовину освобождённый от содержимого, и рванул в поле. Мироныч выскочил из оставшихся потрохов и побежал за Диком. Добежав до первой кочки, Мироныч упал, а Дик уселся рядом и стал пожирать желудок.
– О-хо-хо! – надрывался Мишка, наблюдая сцену из окна избушки Мироныча.
– Э-хе-хе! – вторил ему Витька, устроившись сзади «командира».
– Прошу к столу, – хлопотал Семёныч, с неудовольствием смотря на две бутылки дрянного самогона Мироныча.
«Мне здесь, по большому счёту, делать нечего», – прикидывал Сакуров, имея в виду тот факт, что за свои труды свои два кило мяса он получил, а пить ни экс-директорскую дрянь, ни водку Семёныча он не собирался.
«Как это хорошо – вести трезвый образ жизни», – почти искренне подумал бывший морской штурман и с искренним состраданием посмотрел на Варфаламеева, изображающего благоприобретённый идиотизм в условиях среднерусской глубинки.
– Жорка, – спросил он соседа, – ты здесь собираешься?..
– А фигли? – вопросом на вопрос ответил контуженый Жорка. – Посижу маненько…
Иногда Жорка любил щегольнуть диалектизмом, хотя почти всегда говорил правильно.
– А ты не забыл?.. – снова не закончил своего вопроса Сакурова.
– Костя, что за базар? – удивился Жорка. – Телегу я уже нашёл, завтра поедем за мешками, послезавтра отваливаем в Мурманск.
– Так я пойду домой? – спросил Константин Матвеевич.
– Да побудь ты с нами, – возразил Жорка. – Расслабься. Даже если пить не собираешься – прими участие в беседе. Это же интересно? Правда, коллега?
Коллегой Жорка называл Варфаламеева, имевшего косвенное отношение к тем воздушно-десантным делам, к коим когда-то был причастен Жорка Прахов.
– Слушай, Константин, – не замедлил откликнуться Варфаламеев, – всё забываю спросить: как твоя сакура?
Глава 18
Сакура прижилась вполне, но её вид пока ни о чём не говорил. Другими словами, из такой, какой она была сейчас, из неё впоследствии могла получиться и всамделишная сакура, и обыкновенная вишня. Но теперь у Сакурова оставалось совсем мало времени, чтобы переживать по поводу того или другого. Зато в теме переживаний за собственную безопасность и прочее благополучие образовался новый «сюжет»: после поездки в Рязань Семёныч ходил по деревне важный, как индюк, и говорил намёками, из чего любой не дурак мог понять, что Семёныч в компании с Жоркой Праховым и Костей Сакуровым (себе Семёныч отводил хоть и туманную, но главную роль) провернули какую-то такую рискованную операцию, из-за чего теперь Угаровская мафия, которую Семёныч с Жоркой и Костей основательно поимели, могла в отместку замочить всю деревню, не пощадив даже престарелую бабку Калинину и сумасшедшую Петровну.
«Всё, Петровна, – злорадно потирал руки поддатый Семёныч, – кранты тебе однозначно…»
Семёныч очень уважал Жириновского и использовал в своей речи некоторые крылатые словечки и целые выражения, запускаемые в оборот самым гениальным паразитом от политики, какого когда-либо знала история.
«Ты чё меня пугаешь, козёл? – огрызалась безбоязненная Петровна. – Поди, лучше, воды принеси…»
«Ага, сейчас! – зловредничал Семёныч и шёл доставать Гришу. – Ну, что, сосед, готовь киселя для поминок…»
«А я помирать пока не собираюсь», – отмахивался Гриша, стрелял у Семёныча сигарету и убирался в огород.
«Жорка! – орал Семёныч и грёб в другой конец деревни. – Поехали в город!»
«Отвали, – кратко возражал Жорка, выдавал Семёнычу на литр водки и что-то ему тихо выговаривал. – Понял?»
«Ну, ты меня не пугай!» – хорохорился Семёныч, забирал деньги, заводил тачку и, позвав Варфаламеева, отваливал в Угаров.
«Как бы он нас, того…» – говорил Сакуров, подходя к Жорке.
«Не боись, – успокаивал его Жорка, – к тому же большинство наших деревенских его давно не слушает. А если слушает, то всерьёз его басни не воспринимает».
«За большинство деревенских я с тобой согласен, – возражал Сакуров, – но вот Мироныч с Мишкой могут подгадить изрядно…»
Сакуров достаточно изучил и своих односельчан, и прочих представителей великого русского народа, каковые представители регулярно околачивались в Серапеевке, поэтому знал, что многим им было по барабану враньё Семёныча. Ещё Сакуров понял, что в России вообще не принято нормально слушать друг друга, поскольку всякий русский, даже набитый дурак, имел что сказать, имел собственное, отдельное от других, мнение, владел собственной системой моральных ценностей, обладал личным набором этических норм, поэтому как, находясь в центре собственного мироздания и имея, что сказать, почти любой русский (даже набитый дурак) мог нормально слушать другого русского? Хотя, если речь шла не просто о выслушивании бреда соплеменника, а о молчаливом ожидании награды за терпение в виде выпивки и закусона, то почему нет? Тем более что бред можно было пропускать мимо ушей, а выпивку с закусоном – строго по назначению.
Однако не все русские отличались философским похреновизмом к мнению ближних своих, но часть их (русских, и Мироныч с Мишкой, в том числе) имела гнусную привычку собеседников таки выслушивать, чтобы затем потрафить ещё одной гнусной привычке русского человека – подгадить ближнему своему. Другими словами, люди вроде Мироныча с Мишкой не только проявляли похвальную любознательность в части чего бы то ни было, но, мотая на ус всё услышанное, никогда не оставляли без своего гадского внимания такие сомнительные детали и «шершавые» поверхностные факты, какие требовали дополнительного анализа и вспомогательных размышлений в свете похвального же стремления напакостить рассказчику. Короче говоря: если классификация того, что вывалил неосторожный вышеупомянутый рассказчик в кругу таких русских людей, как Мишка или Мироныч, соответствовала возможной реализации исконно русской привычки подгадить ближнему своему, то такие люди обязательно гадили.
«Эти – да», – соглашался Жорка, и невольно обращал свой хмурый взор в ту сторону, где маячила избушка Мироныча, и откуда доносился вой матереющего, но хронически голодного, щенка. За избушкой старого сквалыги, прозванного Жоркой домиком Тыквы, логично простиралось почти бескрайнее поле, где паслись пока ещё акционерные тёлки под присмотром Мишки и Витьки. Жорка, посмотрев в известном направлении, сплёвывал и добавлял:
«Такой возможности, чтобы устроить подляну, эти никогда не пропустят. Но я принял меры, и именно им Семёныч ничего не скажет».
«Что ты принял?» – уточнял Сакуров.
«Да я его припугнул, что собираю протоколы всех гонок по линии «Париж-Дакар», – сообщал Жорка.
«Иди ты!» – изумлялся Сакуров.
«Нормально! Пусть теперь думает, под каким соусом подать своё анонимное в этих гонках участие. И почему после победы в них он так и не рассекретился. А пока придумает…»
«Но ведь никто итак всерьёз не воспринимает именно это его враньё!?» – восклицал Сакуров.
«Но он же этого не знает!» – восклицал в ответ Жорка.
– Да нормально сакура, – встряхнувшись от мимолётных мыслей, ответил Варфаламееву Сакуров.
– Слушай, Константин, ты картошку в мешки запаковал? – перебил намылившегося поговорить на японскую тему Варфаламеева Жорка.
– Да, – кратко возразил Сакуров.
– Это хорошо. Потому что водила подвалит завтра в пять утра. Короче: будь готов. А за кота не переживай – моя его покормит…
– Неплохо бы, – согласился Сакуров.
Жорка с Сакуровым отвалили из Серапеевки в семь с лишним. Жоркина жена просила кормильца не пьянствовать, а Сакуров переживал по поводу отсутствия кота: как это он придёт домой, а хозяина нет? И пусть Константин Матвеевич оставил открытой форточку в спальной, всё равно на душе было неуютно. Да ещё односельчане постарались. Все откровенно посмеивались над вояжем Сакурова и Жорки, все каркали про неприятности коммерческого свойства в условиях разгула чисто российской демократии, а Петровна так откровенно обругала приятелей мудаками. Семёныч прилюдно урезонил супругу, но в резонах его прослушивалась откровенная фальшь. Один Виталий Иванович напутствовал приятелей доброжелательным взмахом руки, а Варфаламеев, подлец, пока грузовик с Жоркой, Сакуровым, водителем и картошкой проезжал по деревне, даже не вышел.
«Спит, наверно», – подумал Сакуров.
– Спит, наверно, – сказал Жорка и снова послал Мироныча в известное всем русским, и не только им одним, место. Старый хрыч встал затемно и, пока приятели грузили картошку на борт, путался у них под ногами и говорил, что помогает. Теперь Мироныч бежал за медленно ползущим грузовиком и напоминал Жорке, что тот должен непременно привезти из Мурманска старому навозному жуку палтуса. В смысле: должен Миронычу за его утренние труды.
– …Дело было в шестьдесят первом, – на ходу рассказывал Мироныч тот эпизод из своей директорской жизни, когда он руководил каким-то разрезом в Мурманской области.
– Мироныч, иди в жопу! – вопил Жорка. – А ты не можешь ехать быстрее? – орал он на водилу.
– А куды по таким ухабам быстрее? – возражал хозяин ЗИЛ-130-го, кургузый мужичок в современных разноцветных шмотках и с какой-то подозрительно кривой физиономией. – И ваще: я больше сорока в час не езжу…
– Чево-о? – сатанел Жорка, а Сакуров тревожно думал о том, что не успели они выехать из деревни, а дело уже пахнет скандалом.
– Может, я поведу? – предложил бывший морской штурман.
– Щас, – скалился водила, – так я тебе руль и дал. Ладно, если бы машина была казённой, но она ведь теперя моя личная, приватизированная…
– Ты, козёл, только попробуй ехать по трассе со скоростью сорок километров, – не отставал Жорка. – Ведь эдак мы будем тащиться, будем… Ах, ты, сука! – осенило Жорку, и он схватил водилу за кадык.
Бывший воин-интернационалист договаривался о повремённой оплате плюс пять литров самогона собственного изготовления. Дело в том, что с приходом к власти демократов водка и прочее алкогольное питьё вплоть до баночного пива в Угарове появились, но население, памятуя сухую ненавистную горбачёвщину, перешло на комбинированную оплату своего труда. То есть, раньше население принимало оплату только в виде крепких напитков, а теперь перешло на деньги, но и про напитки, памятуя про недавнее гнусное прошлое, не забывало. Другими словами, за пять литров собственного самогона Жорка был спокоен в том смысле, что именно столько ему выдала его жена. А вот как быть с повремённой оплатой труда разноцветного водилы, каковая могла вырасти от расчётной при предполагаемой средней скорости движения семьдесят километров в час до неизвестной при объявленной скорости движения кургузым водилой в сорок километров? В общем, таких денег у Жорки могло не оказаться, потому что какой русский водила упустит шанс ободрать ближнего своего, если для этого надо всего лишь ехать тише и дольше?
– Ты чё дерешси? – кряхтел водила, норовя укусить Жорку за руку.
– Да я тебя вообще придушу! – рычал Жорка. – Падла…
– Слышь, отец! – встрял Константин Матвеевич. – Освежиться не желаешь?
– Желаю! – возразил водила и таки тяпнул Жорку своими гнилушками.
– Какого хрена его ещё освежать?! – рявкнул Жорка и дал водиле в глаз. – Поворачивай назад! Никуда я этим гандоном не поеду…
– Слушай, Жорка, успокойся! Ты ведь сам его нашёл!
– Мне его Семёныч рекомендовал! Какой-то дальний его родственник…
– Ну, так тем более пусть освежится! – увещевал Сакуров.
– Так мне обратно ехать или освежаться? – нарочито равнодушным тоном поинтересовался водила.
– Освежаться! А потом садись посерёдке и отдыхай. А я поведу. Хорошо?
– Нехорошо.
– Хорошо-хорошо. А я тебе за удовольствие рулить твоим грузовиком за каждые пятьсот километров пол-литра выставлю. Договорились?
– Ну, если за каждые пятьсот ещё пол-литра, то я и сам могу быстрее ехать, – рассудил разноцветный дальний родственник Семёныча с подозрительно кривой физиономией.
– Убить тебя, гада, а не добавлять за скорость, – проворчал Жорка.
– Всех не убьёшь! – победно возразил водила, выдул граммов триста Жоркиной самогонки и погнал так, что только любо-дорого.
Москву миновали по объездной и до Питера катили без приключений. Водила исправно дул самогон, харчился за счёт клиентов и скорость поддерживал приличную, а иногда даже превышал. Менты, надо отдать им должное, к старенькому грузовику не цеплялись, и на них не пришлось потратиться ни разу. По ночам, чтобы сократить время следования до места назначения, за руль садился Сакуров и гнал грузовик дальше на север, пока водила храпел, а Жорка клевал носом возле правого окошка. Жорка, кстати говоря, к самогону не притрагивался, и Константин Матвеевич всё больше укреплялся в своей надежде на удачную, вопреки карканью соседей, коммерцию.
«Как-то там мой однокашник? – вспоминал Сакуров одного своего давнишнего приятеля, распределившегося после окончания мореходки в Мурманский трансфлот. – Хорошо бы он оказался на месте, а не в рейсе…»
Какая им с Жоркой может быть польза от старинного приятеля Сакурова, который мог его и не помнить, Константин Матвеевич точно не знал, но, думая хоть о каких-то связях в городе, где им с Жоркой предстояло выступать в роли залётных купцов, Сакурову делалось легче.
«Чёрт его знает, – прикидывал он и моргал фарами, переключаясь с ближнего света на дальний и таким нехитрым способом призывая встречную машину вести себя прилично, – может, он уже и не моряк, а какой-нибудь депутат. Или даже целый заместитель мэра или ещё кого-то там… Если, конечно, он всё ещё в Мурманске…»
Встречный грузовик, когда Константин Матвеевич снова включил дальний, свой дальний свет послушно выключил и метров сто ехал навстречу Сакурову с ближним светом. Затем, не доезжая метров десять, снова врубил свои фары.
– Сволочь! – выругался Константин Матвеевич и сбавил газ, ведя машину почти вслепую. Когда он проморгался, то увидел, что подъезжает к какой-то деревне. Сакуров ещё сбавил газ, и на малой скорости объехал бензовоз, торгующий любым разбавленным горючим круглосуточно, о чём гласил транспарант над кабиной. О том, что горючее разбавлено, в транспаранте не значилось, но Сакуров об этом просто знал. На границе Московской и Тверской областей им уже пришлось заправиться, и теперь грузовик пердел так, словно объелся хреновым горохом. Вообще, бензином теперь торговали все. Некоторые местные жители стояли вдоль оживлённой трассы с молочными бидонами, некоторые – с трёхлитровыми банками. Многие, из-за отсутствия обочины или из-за чисто русской грязи на них, стояли прямо на дороге. Как этот бензовоз.
– Сволочь! – обругал Сакуров хозяина бензовоза, в который, не проморгайся он вовремя, вполне мог врезаться. Константин Матвеевич въехал в деревню и покатил по абсолютно неосвещённой улице ещё медленней, опасаясь задавить какую-нибудь коммерчески настроенную старуху. Их, несмотря на поздний час, торчало до дюжины на обеих сторонах проезжей части. Хоронясь от осенней ночной прохлады, старухи кутались в платки, повязанные крест накрест поверх спортивных курток с капюшонами. А торговали они сигаретами «Мальборо», презервативами «Кантон» и пивом «Очаковским». Помимо перечисленного, старухи могли предложить пирожки с сомнительной начинкой и червивые грибы.