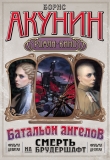Текст книги "САКУРОВ И ЯПОНСКАЯ ВИШНЯ САКУРА"
Автор книги: Герман Дейс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)
Глава 50
А мотаться в столицу становилось всё накладней и трудней. Во-первых, билеты дорожали, а контролёры свирепели. Во-вторых, стало сбоить расписание. И Сакуров, планируя попасть домой после поездки в столицу хотя бы на следующее утро, иногда бывал на месте только через сутки. Да ещё умные чиновники из министерства путей и сообщений, рачительные до собственных прибылей, придумали сокращать маршруты. В силу такой рачительности бедным дачникам (и Сакурову вместе с ними) приходилось давиться в набитых душных вагонах электропоездов, построенных ещё в начале шестидесятых. А сквозь набитые безлошадными согражданами вагоны продирались сводные отряды контролёров с милиционерами и вылавливали зайцев и прочих нарушителей. К прочим относились курящие с распивающими в тамбурах, а также справляющие малую (а иногда и не только её) нужду в разных укромных местах пассажиры. Эти отлавливали, а те продолжали курить, распивать и справлять, потому что ехать некоторым приходилось по три часа кряду, и как тут не закурить, распить или справить? Раньше, в далёкие шестидесятые, проклинаемые из-за свирепости устоев и гнусности порядков по всем каналам одемокраченных СМИ, в электропоездах царили более свободные нравы: за курение и распивание не травили, а для отправления разных нужд работали специальные кабинки. В описываемые времена кабинки пребывали в заколоченном (из-за вышеупомянутой рачительности вышеупомянутой категории российских граждан) состоянии, а если на линии появлялся электропоезд, построенный внове, то в таком (в силу той же похвальной рачительности) данные кабинки просто отсутствовали. Иногда, правда, случались и незаколоченные кабинки. Однажды Сакуров имел возможность видеть такую в действии.
В тот день ему повезло с расписанием, но не повезло с местом: он оказался втиснутым между двумя тележками, тремя гражданками и пятью гражданами в тамбуре, ужасно вонявшем незаколоченной туалетной кабинкой. Граждане и гражданки сквернословили в адрес руководства страны и рачительных чиновников. Первых ругали за то, что они не контролировали инфляцию, вторым доставалось за регулярный рост цен на билеты в таком безобразии, за которое в приличных странах ещё приплачивали бы, лишь бы только ездили.
«Уже в пять раз с прошлого года подорожало! – кряхтела одна гражданка, держа над головой корзинку с облепихой. – Совсем обнаглели!»
«И штрафы повысились! – поддакивал гражданин, придерживая за пазухой початую бутылку водки. – А контролёров развелось – как собак нерезаных…»
«Я этой весной был в Германии, – сообщал другой гражданин, морщась от запаха первого, – так какие там электропоезда! Есть специальные места для курящих, есть буфет, а цены – ниже нашего свинства на десять процентов!»
«Батюшки! – ахала ещё одна гражданка. – Куды авоська подевалась!?»
«Да вот твоя авоська, ничего я с ней не сделал, только пару яблок взял на закусь…»
«Чтоб тебя!»
«Товарищи! Внимание! Держитесь кто за что! Тормозим!!!»
«Господа! Я вас умоляю… Не дайте открыться двери уборной! И так дышать нечем…»
Затем была остановка, и к Сакурову с попутчиками прибавилось ещё два пассажира. Первый беспрестанно икал, «оглашая» спёртый воздух тамбура дополнительными феромонами сивушного происхождения, второй стал проситься в туалет.
«Вы что, с ума сошли? – возмущались прежние попутчики. – Не могли побеспокоиться заранее, пока ещё в электричку не сели?!!»
«Да как же я мог заранее, когда меня только сейчас скрутило! – надрывался новый попутчик, протискиваясь к заветной двери. – Это мне ещё повезло, что здесь сортир оказался…»
«Повезло ему, как же! – неожиданно членораздельно произнёс второй новый попутчик. – Это он по запаху именно в этот тамбур нырнул с перрона, я сам видел!»
«Что значит – скрутило?!! – стала догонять пассажирка с исчезающей авоськой. – Так вы не по маленькому?!!»
«Да что вы так нервничаете, сударыня? – залебезил страждущий, таки втискиваясь в дверь доисторического сортира. – Ведь дело-то житейское…»
«Ничего себе – житейское! – орали уже из вагона. – Закройте двери плотнее, товарищи!»
«Господа! Я вас умоляю! Не надо плотнее! А то мы тут все задохнёмся!»
«Граждане, предъявите билеты для контроля!» – послышались отдалённые зычные призывы.
«Господи, как он пердит!» – волновалась первая гражданка, обмахиваясь корзинкой.
«На, хлебни!» – сердобольно предлагал ей попутчик.
«Да ещё эти, с билетами», – начал волноваться культурный, весной посетивший Европу.
«А ты что, заяц? – злорадно ухмылялся сердобольный. – Гляди, тут тебе не Германия, если штраф не отдашь – харю враз начистят…»
«Ну почему сразу и заяц? Я просто не успел купить билет, потому что…»
«А ну, предъявили билетики! Блин! Это кто срёт тут, зараза?!!»
«Стоять! Билеты с руками из карманов вынуть! Жив-ва!»
«Ты чё мне дубинку под рёбра тычешь, козёл?!!»
«Вася! А ну, арестуй этого, который срёт! Нет, что они себе тут позволяют, совсем уже!??»
«Я, видите ли, мадам, доцент кафедры прикладной ботаники в лесозаготовительном колледже, вот моё удостоверение ветерана движения шестидесятников…»
«Билет предъявите, уважаемый!»
«А за что я его арестую? Тут нигде не написано, что в сортире срать запрещается…»
«Так давай оштрафуем его за то, что он этот сортир взломал!»
«И ничего он его не взламывал!» – дружно встали на защиту пердящего попутчика прочие граждане и гражданки.
«Вот именно!» – солидарно поддакнули из вагона.
«Что – именно? Что – именно?!! А ну, предъявили билеты!»
«Ой, да, девочки, пошли быстрее отсюда…»
«Спасибо, товарищи, отстояли!» – высунулся из сортира облегчённый попутчик.
«Нет, родной, это тебе спасибо!»
«Скрутило его, видишь ли…»
«Согнать его на следующей остановке к чертям собачьим!»
«Можно подумать, от этого нам всем дышать здесь станет легче…»
«А вот когда я этой весной был в Германии…»
«Да заткнись ты со своей Германией!!!»
«Сдохнуть можно», – только и думал Сакуров.
В конце августа Сакурова первый раз обворовали. Когда он приехал из очередной поездки в Москву, то не обнаружил две лейки, купленные недавно на рынке и оставленные в душе, который Сакуров построил из подручного материала.
– Жорка, ты не брал мои лейки? – сунулся бывший морской штурман к своему пьяноватому другу.
– Соображаешь? – обиделся Жорка. – А тебе разве не говорили, дурню, ничего не оставлять на улице и в огороде?
– Кто ж их мог спереть? – переживал Сакуров. – Наверно, залётные?
– Не было тут никаких залётных, – буркнул Жорка, запахивая привезённую Сакуровым литру водки полой военного френча. – Свои взяли…
– Что ты говоришь? – не верил собственным ушам Сакуров. – А кто мог конкретно?
– Да кто угодно, кроме вековух, Семёныча, Виталия Ивановича и Мироныча. Ещё Иван Сергеевич со своей старухой на воровстве не поподался…
Себя с Варфаламеевым Жорка не считал.
– Надо же! – сокрушался Константин Матвеевич, покупал новые лейки, стал убирать на ночь шланг, валяющийся в огороде, а через неделю у него пропадали пассатижи, оставленные на срубе колодца.
– Жорка, ты не брал пассатижи? – снова бежал к приятелю Сакуров. Приятель в это время пропивал картошку в компании с Семёнычем, Гришей и Варфаламеевым.
– Достал ты меня своими пассатижами! – орал пьяный Жорка. – У меня у самого их двое спёрли…
– А у меня прошлым летом стянули газовый баллон и тиски! – победно сообщал Семёныч. – И я так думаю, что это твои, Гриша, дела!
– Не, это Жуков, – лениво отбрехивался потомственный браконьер.
– А, может, и Жуков, – не стал заводиться Семёныч.
«Чёрт бы вас побрал! – мысленно чертыхался Константин Матвеевич. – Что за люди – друг у друга всё подряд тырят… Ничего нельзя ни на улице, ни в огороде оставить…»
После истории с пассатижами Сакуров стал более тщательно следить за своими вещами, и вскоре был обвинён учительницей в краже её инструментов.
– Какие инструменты?!! – бесновался ставший нервным от трезвого образа жизни в вороватой российской действительности бывший благополучный житель курортного Сухуми. – У вас они вообще были, эти инструменты!!?
– Целый набор, – сообщал внук учительницы, поедая бутерброд, позаимствованный из продовольственных запасов Сакурова.
– Да зачем мне дался ваш набор!
– А Мироныч сказал, что дался, потому что тебя самого обокрали… Да не бери ты в голову, Костя, поехали лучше в город за мороженым!
Они с внуком учительницы давно перешли на ты, а сам внук со всеми был запросто, Семёныча звал Лёхой, Виталия Иваныча – Виталиком, военного – Володей. Как его воспитывала при этом учительница, вравшая, что она заслуженная то ли бывшего РСФСР, то ли всего Союза, оставалось только догадываться. А недавно внук был пойман с поличным на краже чеснока у Семёныча.
– Нет, видали? – орал бывший почётный деятель московского таксопрома. – Самый отборный попёр, который я на посадку заготовил!
В тот день учительшин внучок кормился у Семёныча, рассказывал ему анекдоты с картинками, а потом, уходя домой к бабке с набитыми всякой снедью карманами, зацепил по пути связку чеснока. Внучок спрятал связку под футболку и, когда хотел уже нырнуть в свой двор, его догнал бдительный Семёныч.
– Вот гадский пацан! – восторженно ахал одноглазый селянин. – И когда только успел!??
– Да, ладно, Лёха, я пошутил! – отбрехивался пацан.
– Ничего себе – пошутил! Самый отборный попёр…
– Ну, что вы, в самом деле, Алексей Семёнович, – выползала на крыльцо избушки учительница, – ребёнку уже и пошутить нельзя…
«Хороши шутки, – подумал тогда Сакуров, – не заметь Семёныч пропажи – была бы учительша при дополнительном барыше в пять баков…»
– Вот именно! – изгалялся малец, сын своих преуспевающих родителей, зарабатывающих по пять баков ежеминутно, а не в течение всего лета, пока растёт чеснок, картошка, морковь и прочие стручково-бобовые.
«Ну и мерзавец растёт», – в который раз удивлялся Константин Матвеевич, но дружбы с малолетним мерзавцем не прекращал.
В первых числах сентября Сакуров отвёз на «фольксе» картошку. Когда вернулся в деревню с минимальной прибылью, застал деревенских за торжественной встречей, организованной Алексеем Семёновичем Голяшкиным в честь возвращения блудной супруги.
– Да какая я тебе блудная, козёл? – обиженно басила Петровна.
– Блудная! – с пьяным упрямством возражал Семёныч.
– Блудная – блудная! – поддакивали Вовка и его стервозная супруга, прибывшие в деревню с целью вывоза вздорной мамаши и свекрови.
– Здравствуйте, Петровна! – здоровался Сакуров, подходя к честной компании, заседающей в садике вековух.
– Здорово, сволочь! – басила супруга односельчанина. – Что, пришёл пожрать на халяву?
– Нужна мне ваша жратва…
В общем, жизнь шла свои чередом, листва желтела, ветра с дождями холодели, бас Петровны снова занял центральное место в деревенском хоре, Семёныч продолжал пить, попеременно ругаясь со своими ближними соседями, тёткой Прасковьей, дядей Гришей и Виталием Ивановичем. Варфаламеев ни с кем не ругался, но в пьянстве не отставал от Семёныча. Петровна помогала приятелям, ругалась вместе с Семёнычем с ближними соседями, иногда поколачивала Варфаламеева, а иногда её поколачивал благоверный. Жорка пил периодически, Мироныч – постоянно, как случалась оказия. Остальные – по-всякому. Рубль продолжал обесцениваться, прочая валюта крепчала, а Сакуров стал подумывать о приобретении телевизора, потому что смотреть ящик в компании донельзя сварливой Петровны стало проблемно. Учительша к тому времени отвалила из деревни, и Константин Матвеевич ловил себя на мысли, что скучает без её мерзопакостного внучка.
«Неудовлетворённые отцовские инстинкты, – думалось ему, – хотя и без них пацан презабавный. Одни его сальные анекдоты чего стоят…»
В первой декаде октября деревня окончательно опустела. Пастухи также отбыли в свою историческую вотчину. А с работой на станции случился облом, потому что место истопника, равно как и прочие некоторые рабочие места, сократили. Одновременно на станции стали разбирать первую ненужную железнодорожную линию. А Сакуров снова поехал в Москву, толкать остальные корнеплоды. Остальных получилось нехило, да ещё Жорка подсыпал своих, поэтому пришлось запрягать «фолькс». Сам Жорка остался стеречь их общее добро. Бывший интернационалист временно не пил, поэтому за добро Сакуров был спокоен.
«Да, ты не о чём таком не думай, – напутствовал его односельчанин, – смотри лучше за дорогой и старайся гаишникам не попадаться».
«Постараюсь», – обещал Сакуров.
Реализовав овощи, Константин Матвеевич купил продукты, новые кроссовки, три литра водки и телевизор. На телевизор, правда, пришлось потратиться из неприкосновенного запаса, накапливаемого в виде нержавеющих долларов в заветном кожаном бумажнике. Этот бумажник лежал в самом укромном месте его дома. При этом укромное место было оборудовано так, что бумажник не пострадал бы ни от огня, ни от воды. В данном бумажнике уже собралась порядочная сумма, настолько порядочная, что его владелец таки решился изъять из вышеупомянутой суммы триста баков на цветной “Sharp” в испанской сборке.
«Ничего – ничего, – подбадривал себя бывший морской штурман, выруливая на старую Каширку (105), – мы ещё повоюем. Лишь бы не запить…»
Потом Сакуров купил газовую плиту и три газовых баллона. Затем наменял зерна с комбикормом на полученный самогон. В середине ноября Константин Матвеевич продал козу на мясо и впредь зарёкся с козами не связываться. А коту с кошками пришлось привыкать к коровьему молоку. Его, кстати, было ещё навалом на местном рынке и оно ничего не стоило. Потом Сакурова осенило, и он посетил ближайшую ферму дойных коров. Их там стояло около двухсот штук, а обслуживающий персонал состоял из девяти вечно жаждущих личностей.
«Что возьмёте за десять литров молока?» – поинтересовался Сакуров.
«Пол-литра», – с готовностью ответил персонал.
«А если мне понадобится сто литров?» – поставил вопрос по-другому бывший морской штурман.
«Да хоть двести!» – загорячился персонал.
«Короче, – поехал на персонал Сакуров, – приеду в субботу после первой дойки и притараню десять пол-литров в обмен на сто литров молока. Годится?»
«Ещё как годится! – завопил персонал. – Но как бы нам прямо сейчас разговеться?»
«Ешьте!» – кратко ответил бывший морской штурман, выдал страждущим бутылку первача и отвалил, прикидывая вычесть данную бутылку при окончательном расчёте.
«Нет, ну ты вообще! – мысленно тотчас одёрнул себя Константин Матвеевич. – Совсем уже Мироныча насмотрелся…»
Глава 51
Сначала Сакуров сделал из добытого молока двадцать килограммов замечательного сулгуни. Пришлось, правда, повозиться с сычугом, но он справился. Потом Константин Матвеевич оттаранил сулгуни в Москву и нашёл забегаловку под управлением грузина, убежавшего в своё время из Сухуми. С ним Сакуров быстро нашёл общий язык, потому что когда-то в прошлой жизни они были почти соседями, а Константин Матвеевич не только хорошо говорил по-грузински, но мог запросто спеть про Сулико и «квавелебис квекана» (106). И хотя грузины к землячеству относились так же прохладно, как русские, Сакуров легко добазарился с «земляком» толкать ему сулгуни до десять баков за кило. Потом Константин Матвеевич легко отказался от выпивки с угощением и отвалил в деревню.
«Ведь если я буду делать каждый месяц по сорок кило сыра, то это у меня будет получаться по целых триста долларов чистой прибыли в тот же месяц! – ликовал бывший морской штурман, выруливая с кольцевой на Каширку. – Блин, лишь бы совхоз подольше не развалился…»
Да, персонал с золотым дойным стадом пока обретались в совхозе пока ещё бывшего товарища Мичурина, за его командный пост боролись три матёрых кандидата и, пока они пытались завалить друг друга с помощью не одной только предвыборной агитации, совхозом рулил старый партиец. Он никак не соглашался на перестройку своего предприятия в акционерное общество, а уж переименовывать его – и подавно. Поэтому совхоз исправно выкармливал скотину, обрабатывал свои двадцать тысяч гектаров земли и даже пытался продолжать обрабатывать около десяти тысяч гектаров садов. А Константин Матвеевич продолжал гнать самогон, не роняя марки продукта ниже семидесяти градусов, и продолжал выменивать его на зерно, комбикорм и молоко.
С молоком, правда, случались проблемы. Вернее, не с ним самим, а с персоналом. Дело в том, что охочий до дармовой выпивки персонал принялся беспощадно разбавлять молоко водой, причём водой не лучшего качества. А какой на хрен может получиться сулгуни из «обезжиренного» таким варварским способом молока? Говно, можно сказать, может получиться из такого молока, а не сулгуни. И негоже толкать данный сулгуни даже на каком-нибудь московском рынке, не говоря уже о таком замечательном человеке, как Гиви Вахтангович Камаладзе, каковой Гиви Вахтангович являлся владельцем московской забегаловки под названием «Манана».
«Вот именно, – прикидывал злой Сакуров, маясь с изготовлением сыра из халтурного молока, – он меня так выручает, а ему – говно вместо благодарности…»
В общем, чтобы не маяться с изготовлением сыра из разбавленного молока, Сакуров решил заняться обработкой персонала, очень надеясь на то, что после обработки персонал впредь не станет гадить туда, откуда утоляет жажду. Сначала он придумал повысить «цену» на приобретаемое молоко, но воды в нём только прибавлялось. Потом Сакуров заявил, что будет приезжать за молоком позже, когда оно отстоится, и он сможет по толщине слоя сливок определять качество продукта. Персонал согласился на отстой молока так же охотно, как сначала согласился брать за сто литров молока на две пол-литры больше. И спустя неделю Константин Матвеевич два дня ломал голову, как персонал умудрился положить хороший слой сливок на забелённую молоком воду? Причём хорошим оказался сам слой, но не сливки, поскольку их вкус изобличал присутствие в них какого-то несъедобного суррогата, но не тех сливок, из каких принято делать самое сливки, а также сметану, сливочное масло и прочие молочные продукты вплоть до новомодных йогуртов.
«Вот сволочь!» – ругался про себя Сакуров, потому что ругать персонал было бесполезно: в ближайшей округе только один совхоз под управлением старого партийца продолжал доить коров, собирать сахарную свеклу, пахать принадлежащие ему просторы и платить кое-какую зарплату скотникам, дояркам и прочим растениеводам.
«Вот мудак!» – веселился персонал, хорошее молоко утаскивая домой, а суррогат, творение умелых русских рук вкупе с хвалёной смекалкой, толкая дураку Сакурову, поскольку умные люди давно уже плюнули на отечественного производителя, но наловчились делать молочные продукты из привозимого из-за границы молочного порошка. И получать при этом сверхприбыли, а не какие-то триста долларов, потому что за границей случались такие порошки, за вывоз которых хозяева ещё приплачивали новым русским бизнесменах, так как утилизация просроченных продуктов – и молочных порошков в том числе – в цивилизованных заграничных странах дорогого стоит.
«Слуший, ти почему стал адин раз два месяц ездит вместа два раза в адин?» – сердился Гиви Вахтангович, имея стопятидесятипроцентную прибыль с торговли сакуровским сыром в своей забегаловке.
Сакуров рассказывал – почему – и добрейший человек Гиви Вахтангович начинал куда-то звонить и давать советы одновременно.
«Слуший, ти сделай среди персонал адин свой человек и паабещай ему адин лирт сверху, если молоко будэт висши качеств!»
«А как я проверю это качество? – спорил Сакуров. – Ведь меня они надуют с высшим качеством так же легко, как надули со слоем сливок!»
«Ага, вот! – сказал Гиви Вахтангович, завершив очередной раунд телефонных переговоров. – Сичас запомни адрес, поедишь адно место, купишь адин прибор, который будет показывать висши качеств. Теперь панимаешь?»
«Вот теперь понимаю!» – повеселел Сакуров, прощался с «земляком», заводил «фолькс» и катил по указанному адресу. Там он покупал прибор, определяющий жирность молока и прочие его составляющие вплоть до минеральных веществ, каковых веществ в нормальном молоке пребывало не более ноль целых и семь десятых процента от всего остального. А потом Сакуров возвращался в деревню, заранее предвкушая вид вытянутых рож персонала, когда он приедет к ним за очередной порцией молока с прибором.
Короче говоря, производство сыра наладилось, «бригадир», самый мордастый пьянчуга из персонала, ретиво следил, чтобы в молоко, приготовленное на продажу благодетелю, ничего, кроме молока, не попадало. Остальной персонал сначала потужил-потужил, поругал-поругал хитрую технику, с помощью которой клиент стал определять качество молока, пробовал набить морду коллеге, ссучившемуся за дополнительный литр самогона, и, не обретя успеха на данном поприще, стал больше разбавлять другое молоко, то, что уходило на продажу в прочие торговые предприятия или на переработку.
«Ну, теперь держись!» – ликовал Сакуров, мотаясь на микроавтобусе туда-сюда.
А к тому времени стали подрастать новые поросята, на носу замаячили ноябрьские праздники, повеяло первым снежком и, когда выпадали редкие минуты отдохновения (случалось это, как правило, во время перекуров), бывший морской штурман не уставал любоваться на красоту среднерусской природы.
«Ведь ничего же выдающегося, – прикидывал недавний житель курортного Сухуми, озираясь на вышеупомянутую красоту – сплошная равнина с редкими холмами, эпизодическими оврагами и остаточными перелесками, но что-то в ней такое, от чего меркнет даже южная экзотика и дальневосточное буйство. И почему так?»
И, не найдя ответа на этот риторический вопрос, Сакуров продолжал блуждать затуманенным взглядом по дальним пределам бескрайней равнины, и то замечал новый рисунок облачного неба над прозрачной далью в той заболоченной стороне, где в Серапею впадала Серапейка, то обнаруживал невиданную до сих пор гамму палевых цветов увядающей лесопосадки в той её части, где она ответвлялась от тополёвой рощи возле недалёкой железнодорожной станции.
«Это всё небо, – соображал бывший морской штурман, – и погода. Где ещё увидишь такое неповторимое небо и узнаешь такую непостоянную погоду…»
Сакуров поднимал голову вверх, насчитывал пятикратную в течение трёх длинных затяжек смену небесного освещения под воздействием солнца, ветра, облаков и ещё чего-то ирреального, затем гасил бычок, встряхивался и бежал дальше хлопотать по своим делам. А остальные дела, надо сказать, пошли тем хуже, чем лучше Сакуров устраивался в плане повышения качества покупаемого молока.
Во-первых, Мироныч железно решил компенсироваться на новой партии поросят за прошлые потери.
Во-вторых, старый самогон кончался, а ставить брагу для нового в посадке уже не годилось.
В-третьих, совхозного партийца «ушёл» в отставку один из трёх уцелевших в «предвыборной» борьбе авторитетных кандидатов.
В-четвёртых, Сакуров спалил сцепление на «фольксе», пока буксовал в одной из ям, коими изобиловала дорога от совхоза до Серапеевки.
«Ну, всё, кратны твоему автобусу! – радовался Семёныч. – Можешь смело буксировать его на свалку!»
«Ну чё ты каркаешь, дятел старый? – ворчал Жорка. – Давай лучше отбуксируем его к Кульку».
«Сейча-ас! – бузил Семёныч. – Стану я надрывать свою «ниву» по такой грязи…»
«А вот мы водочки бутылок пять, да рыбки копчёной! – подначивал Семёныча Жорка, имевший по причине недавнего приезда из Москвы и водку, и рыбу. – Да скажем Кульку, что всё это от твоего имени. А?»
«Скажет он! – хорохорился Семёныч. – Я и сам мог бы выкатить Кульку, и почище твой водки с рыбой, да…»
«Да сожравши всё это преждевременно в компании каких-то посторонних забулдыг! – подсказывал Жорка. – В то время как уважаемый Кулёк…»
«Ну, ладно, тащи буксир!» – сдавался Семёныч и начинал потирать руки в предвкушении такой авторитетной компании, как сам Кулёк, лопатинский тракторист высшей квалификации, бугай покруче пастуха Мишки, умелец по части ремонта любых самодвижущихся механизмов и любитель всяких по пьянке скандалов. Надо сказать, Семёныч уважал Кулька почти так же сильно, как пастуха Мишку, и много больше, чем военного и Мироныча вместе взятых.