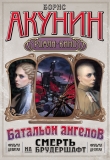Текст книги "САКУРОВ И ЯПОНСКАЯ ВИШНЯ САКУРА"
Автор книги: Герман Дейс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 42 страниц)
– Тебя не спросил, – огрызнулся Сакуров и зачем-то соврал: – К тому же она на специальном подвое к сибирской пихте…
– Значит, шишки будут? – недоверчиво поинтересовался Семёныч, а про себя подумал, что врёт не Варфаламеев, а Сакуров. До Семёныча стал доходить смысл сказанного, и он заподозрил односельчанина в желании утаить от соседей ценные свойства этой невзрачной на первый взгляд чудо-вишни.
– Шишка у тебя вместо головы, – заявил Сакуров, и они с Семёнычем снова чуть не подрались.
– Друзья, давайте не будем ссориться! – воскликнул Варфаламеев и поднял стакан, приглашая приятелей последовать его примеру. А когда все выпили, туманно молвил: – Не всегда декоративное суть бесполезное.
Он глубокомысленно похрустел грибком, отъел немного щей и, пока собутыльники переваривали фразу, продолжил развивать японскую тему:
– Вообще, в каждом хокку заложен глубокий философский смысл, хотя на первый взгляд они производят впечатление примитивной стилизации созерцательных моментов…
– Так, – икнул Семёныч, хотел, было, встрять в разговор со своей, уже заготовленной партией, но затем решил повременить до после следующей.
– …Последнее время я на досуге занимаюсь переводом известного японского хоккуиста Басё, – стал заговариваться Варфаламеев, потому что раньше он даже не намекал на знание каких-либо языков, а наоборот, несколько раз плакался на незнание латышского, из-за чего он в своё время не смог «легализоваться» в более-менее приличной стране.
– А не проще было купить готовый перевод? – усомнился Сакуров.
– Не проще, – отрицательно помотал головой Варфаламеев, – к тому же я перевожу лучше. Вот, например…
Он закатил глаза и противным голосом поэта-надомника, декламирующего свои стихи в узком кругу ущербных поклонников, выдал:
– Стакан наполню
Горькой отравой жизни
И выпью до дна.
«Это не Басё, а какой-то Омар Хайям, хотя тот гнал свою стихотворную фактуру рубайями», – мысленно не согласился с односельчанином Сакуров. Кое-какие произведения кое-кого из поэтов в «прошлой» своей жизни Сакуров успел прочитать, но о прочитанном, в отличие от Варфаламеева, предпочитал помалкивать.
– …Или вот ещё, – не унимался Варфаламеев:
– Занемог дядя,
А был он честных правил.
Помер, собака…
Или:
– Сижу в темнице.
Сыро, и кормят плохо.
Ну, не орёл ли?
«Совсем сбрендил Варфаламеев, – подумал Сакуров. – Или думает, я Пушкина не читал? Впрочем, про дядю я точно знаю, что это из Пушкина, а вот про сидельца за решёткой в темнице сырой, который вскормлённый в неволе орёл молодой и так далее, не уверен. Хотя…»
В это время Семёныч снова накапал в стаканы, собутыльники огрузли ещё на сто граммов по сравнению с нормальным тяготением и Семёныч, торопливо закусив, стал неторопливо повествовать о своём, наболевшем:
– Вот ты тут о Японии заливал, – Семёныч неодобрительно глянул на Варфаламеева и тот, захлопнув рот с застрявшей в нём очередной прояпонской фразой, обиженно засопел, – и я, кстати, о ней скажу. Был я как-то в Якутии. В геологии, значит, механиком-водителем на ГТСе работал. Это такой вездеход на базе ГАЗа. Сильная машина, но с радиатором вечные промблемы…
Он так и говорил: промблемы.
– …Ведь в Якутии, чтоб вам было известно…
Семёныч победно глянул на собутыльников: дескать, что вы видели, салаги? Вообще, самомнение Семёныча, не «регулируемое» в кругу таких тактичных слушателей, как Сакуров и Варфаламеев, которым просто неловко было одёргивать завравшегося рассказчика, гипертрофировало изо дня в день. Пропорционально ему гипертрофировала пьяная фантазия профессионального столичного таксиста. И он умудрялся договариваться и до парашютиста-испытателя, и даже до глубоко законспирированного космонавта. Скорее всего, Семёныч нахватался своих «лётных» познаний из беседы с каким-нибудь военно-воздушным пассажиром, заказавшим после ресторана «Праги» тачку до неблизкого Монино (10). Чего там наговорил Семёнычу подпивший летун (или даже дублёр в космонавты) за время их долгого путешествия, и сколько заколымил той ночью столичный ездила, сказать трудно. Однако теперь, когда Семёныч надирался до полубессознательного состояния, он начинал заливать такие небылицы, что Варфаламеев трезвел, а Жорка Прахов засыпал и падал с табуретки. Тем не менее, ни первый, ни второй, имевшие о лётном и парашютном деле сведения самые конкретные (Жорка служил в ВДВ) (11), никогда не старались изобличить своего приятеля, поскольку уважали его за открытый нрав, беззаботную щедрость и готовность помочь в любой беде. А что касается заходов и тараканов, то у кого их нет, и у кого они не водятся?
– …Морозы по сто градусов ниже Цельсия, а вода в радиаторе замерзает, чтоб вы знали, при температуре минус ноль градусов…
Семёныч железно верил в существование особенной пограничной температуры со знаком минус и со значением ноль градусов. А когда Виталий Иваныч попытался высмеять Семёныча за безграмотность, тот обозвал бывшего экономиста дураком и заявил, что про минус ноль градусов ему под страшным секретом рассказал один знакомый академик. Скорее всего, из той же «Праги» и в такой же, как неизвестный лётчик, кондиции.
– …В общем, маялся я так с радиатором, маялся, – продолжил рассказ Семёныч, – и вот однажды, надо отдать мне должное, придумал такую штуку, что даже из специального института, где вездеходы раньше изобретали, премия пришла. Но не мне, а завгару, потому что штуку придумал я, а чертежи сделал он. Но сначала меня отправили в очередную командировку, а этот козёл, завгар, то есть…
Состояние опьянения компании в целом и Семёныча в частности ещё не зашкалило той отметки, после которой начинался бред о тайных полётах на Луну раньше этих сраных американцев, поэтому теперь Семёныч почти не врал, хотя ни Сакуров, ни Варфаламеев не рисковали уточнять: а что за такую штуку изобрёл Семёныч, после чего у него перестал барахлить радиатор на вездеходе? Но Семёныч рассказал сам.
– …Вот вы спросите: как я сам, без всякого вашего образования до такой умной штуки додумался, от которой у меня промблемы с радиатором враз кончились? Отвечаю…
«Очень интересно», – сонно подумал Сакуров и глянул на Варфаламеева. Тот тоже плохо слушал Семёныча. Прикрыв глаза, бывший штурман то ли дремал, то ли сочинял хокку, которые потом можно было выдать за собственный перевод Басё. Что-то вроде:
– Утренний туман,
Заснеженные нивы,
В общем, печально. (12)
А Семёныч продолжал повествовать про свои приключения в Якутии.
– …Еду я, значит, по тундре, – бубнил ветеран отечественного таксопрома. – Еду себе, еду, а кругом снег. И мороз, градусов сто ниже Цельсия. А когда в Якутии зима, там полярная ночь наступает. А когда лето, там полярный день. Это, чтобы вам было понятней…
«А когда осень – там полярные сумерки», – лениво подумал Сакуров и направил свои пьяноватые мысли в сторону некоего психологического явления, одолевавшего его с настораживающей регулярностью последние две недели. Очевидно, виной тому явилось регулярное же пьянство. Да и то: они вчетвером, Сакуров, Жорка Прахов, Варфаламеев и Семёныч эту зиму и начало весны как-то уж очень налегали на водку. И Сакуров, имея наиболее слабый иммунитет против алкогольной заразы, стал видеть странные сны и даже грезить почти наяву. Необычность этих снов обуславливалась тем фактом, что они походили на чередующие серии какого-то мистического триллера. Такие интересные сны Сакуров видел впервые. Но ещё интересней оказались вышеупомянутые грёзы почти наяву, когда ты ещё не спишь и совершенно точно знаешь, что не спишь, а тебе мерещится вполне реальная чертовщина под так называемым покровом ночной темноты. И ты с этой чертовщиной ведёшь совершенно конкретные беседы, иногда вслух, а иногда мысленно.
«А может, эти непонятные явления – следствие моей какой-то скрытой гениальности? – задался Сакуров интересным вопросом, но тотчас сам себе в лицо мысленно рассмеялся. – Тоже мне, гений! Жрать надо реже и меньше, вот и пройдёт сразу твоя гениальность. А иначе белая горячка не за горами…»
– …А на морозе с заглохшим двигателем долго не постоишь, – нудил Семёныч. – Что делать? Чего предпринять? А предпринимать надо моментально. Я, значит, докладываю ситуацию трём инженерам и одному начальнику партии, которые ехали со мной. Они, ясное дело, паниковать. Ай-я-яй, дескать, караул, погибли, значит… А я так посмотрел на них презрительно и говорю: «Эх, вы, а ещё с высшим образованием!» Снимаю без промедления с себя костюм-пингвин (13) и надеваю его на радиатор. Ну, чтобы в нём вода не замёрзла. И приступаю к ремонту двигателя…
«Зверски гениальное изобретение, – мысленно ухмыльнулся Сакуров. – Завгару наверняка пришлось помучаться с чертежами, чтобы послать их в специальный институт или даже патентное бюро…»
Далее Семёныч подробнейшим образом описал ремонт, плачевное состояние трёх инженеров и одного начальника партии, возвращение на базу, где Семёныч сначала помог добраться до санчасти своим начальникам, а там уже, перед лицом всего медперсонала, долго и нудно отчитывал трёх инженеров и одного начальника партии за их вредительское слюнтяйство.
Налив по последней, Семёныч «разбудил» приятелей, все выпили, а бывший профессиональный ездила и тайный космический деятель заключил своё повествование следующей фразой, неизвестно из какой телепередачи позаимствованной:
– С премией за изобретение, конечно, меня тогда кинули, но в своём лице я лишний раз доказал торжество здравого смысла над высшим образованием. А завгар, сука, оказался японским шпионом… Слушай, Костя, у тебя наш НЗ ещё не «испарился»?
«Ловко!» – восхитился Сакуров, имея в виду первоначальное заявление Семёныча о том, что он тоже скажет о Японии, и ответил: – Наш НЗ у меня никогда ещё не испарялся…
Глава 5
Так называемый наш НЗ хранился у Сакурова, как у самого «стойкого» по части выпивки. То есть, он никогда бы в одиночку, как бы ни болел с похмелья, не приложился к НЗ, который загодя приобретался в складчину и суммарно выражался объёмом от одного до трёх литров водки. Его употребляли в крайних случаях, и с согласия всей честной компании. Сегодня случай на крайний не тянул, к тому же отсутствовал Жорка. Хотя добавить хотели все, потому что по пузырю не шибко качественной водки на среднестатистическое пьющее рыло, это даже не полкайфа, а так себе, лёгкая разминка.
– Чего это мы без Жорки начнём НЗ лакать, – не очень твёрдо возразил очнувшийся Варфаламеев.
– А мы проголосуем, а? – предложил Семёныч.
– Я против, – решительно заявил Сакуров.
– Я тоже, – согласился с ним Варфаламеев.
– Ну, что ж, – не стал спорить Семёныч, и засобирался на выход с таким степенным видом, как будто это он сам решил закрыть очередное заседание местного общества «трезвости».
– Вы уже? – не стал задерживать приятелей Сакуров.
– Да, дома дел навалом, – объяснил Варфаламеев и поплёлся на выход следом за Семёнычем.
– Да, дела, их всегда навалом, – пробормотал Сакуров и с завистью подумал о том, что хорошо этим чисто русским мужичкам: они и водку лопают, и дела делают, и всякая чертовщина им не мерещится. А он, из-за своего японского происхождения, даже за грузинами по части выпивки в своё время не мог угнаться.
После ухода приятелей Сакуров прибрался в столовой, принёс дров и завалился на кровать чего-нибудь почитать. Книгами, так же, как продуктами и деньгами, его ссужал Жорка. Сакуров аккуратно возвращал все прочитанные книги, а стоимость продуктов и сумму забираемых в долг денег педантично подсчитывал, о чём однажды сказал Жорке. Жорка разозлился и обозвал Сакурова мудаком. На что Сакуров не обиделся, но продолжал подсчитывать сумму нарастающего долга без уведомления заимодателя.
«Деньгами Жорка долг у меня не возьмёт, а вот подарочек к его дню рождения я сооружу знатный», – мечтал Сакуров и продолжал одалживаться у беззаботного Жорки то продуктами, то деньгами, то книгами. И если с деньгами у Жорки иногда случались проблемы, то с книгами – никогда. Их у него было навалом. При чём всяких: от Аристотеля до Марининой. От Аристотеля до Ерофеева читал Жорка, от Ерофеева до Марининой – его инженерная супруга. Сам Сакуров держался середины, где-то между Ерофеевым и Кафкой. И если Кафку он осилил без труда, то от Ерофеева засыпал самым позорным образом уже на пятой странице. Жорка Ерофеева тоже не уважал, а Маринину на дух не переносил, называя её книги чтивом, которое культивирует дебилов.
Сегодня, после не сильно «пьяных» посиделок, Сакуров решил почитать Грина. С похмелья Сакуров читал или Цвейга, или Фолкнера.
В часу девятом вечера Сакурова стало морить. Он сходил в кухню, проверил печь, положил книгу на самодельную полку, выключил свет и залез под одеяло. День во дворе уже погас, петух Семёныча откукарекал дежурную зорю и тишина встала такая, что хоть на зуб её пробуй или рукой щупай. Лягушки ещё не приступали к своим хоровым упражнениям, а скворцы что-то запаздывали. Лишь под полом скреблась неугомонная крыса. Хорошо, хоть мышей не было. Их контролировал кот Сакурова по кличке Кузя. Сегодня он отсутствовал по причине весны, и его отсутствие могло продлиться до недели и больше. Крысы это чуяли и спешили произвести в избе свою инспекцию.
– Вот, сволочь! – не выдержал Сакуров наглого поведения крысы, которая что-то точила и точила под полом. Он поднял кирзовый сапог и грохнул им о пол. Крыса на пару секунд затихла, но потом возобновила свою грызню с удвоенным рвением.
– Мяу! – очень похоже сказал Сакуров и – вот удивительно – крыса метнулась куда-то и больше не подавала признаков жизни. А Сакуров вытянулся поудобней, расслабился и стал вспоминать те сны, которые ему виделись последние две недели в виде последовательных частей некоего сериала с его, Сакуровым, участием. Ему снилось, что он летит на каком-то военном самолёте, причём в качестве его пилота. На каком именно военном самолёте он летал в своих снах, Сакуров не знал, а спросить у Варфаламеева не догадался. Наверно, это был истребитель, потому что Сакуров был в нём один.
Тогда, перед первым своим «полётом», Сакуров изрядно таки набрался, однако не до такого состояния, после чего никакие сны не снятся. Он заснул сразу, как только залез в постель, и «полетел». Сначала ему приснились всякие перегрузки, о которых он знал со слов Варфаламеева, затем какие-то с кем-то невнятные радиопереговоры, потом он увидел бескрайнее голубое небо и плотный слой облаков под ним. Эту картинку подсознание Сакурова могло позаимствовать из его личных полётных опытов, когда он пересекал страну во время отпусков в разных направлениях на самолётах Аэрофлота. И первый сон тем и кончился: небо, облака, неяркое, но очень большое, солнце. А ещё в том сне присутствовали перелётные птицы.
На следующий день Сакуров напился до потери памяти и никаких снов не видел. Зато на следующий после него снова куда-то полетел. При этом распознал на приборной доске компас и определил, что летит он, Константин Матвеевич Сакуров, на северо-запад. Больше того – Сакуров увидел землю. Сначала она предстала ему сквозь облачные прорехи в виде фрагментов огромной чуть выпуклой карты в цветном топографическом исполнении: всевозможные геометрические фигуры от светло-зелёного до тёмно-коричневого, рассечённые автомобильными и железнодорожными магистралями, а также схематичное изображение населённых пунктов.
«Хорошо бы спуститься пониже, – подумалось тогда во сне Сакурову, – и посмотреть, над чем это я пролетаю».
Он неуверенно тронул какой-то рычаг управления, и самолёт послушно пошёл на снижение.
«Ловко», – обрадовался Сакуров и с удовлетворением отметил, что летит уже на такой высоте, с которой земля перестала походить на выпуклую карту. Однако, разглядев естественную картинку под крылом пролетающего самолёта, Сакуров обнаружил, что данная естественность ни на что не похожа. Другими словами: местность, над которой он пролетал, была ему совершенно незнакома. Вместе с осознанием факта своего неведения по поводу хотя бы приблизительной географии места своего временного пребывания Сакуров испытал эффект двойственного присутствия в этой неведомой ему местности, в силу чего он мог одновременно наблюдать её с высоты и птичьего полёта, и с высоты порхающей бабочки. Такая двойственность присутствия оказалась кстати, потому что обидно было бы разглядывать всё великолепие невиданных территорий только сверху. Но обижаться Сакурову не пришлось, поэтому неизрасходованная на обиду часть эмоций позволила другой их части качественней изумляться по поводу увиденного.
А изумляться было чему.
Так, под ним проплывали не только идеально чистенькие (в смысле цветовой гаммы и отсутствия свалок), словно нарисованные старательным художником-реалистом, леса, поля и реки, но и разбросанные там и сям удивительные сооружения. При ближайшем рассмотрении это оказались целые города, и какие города. Они стояли, ни много, ни мало, на мостах, перекинутых через поймы широких рек, поэтому кое-где под опорами удивительных мостов помещались даже небольшие лесные массивы. А вода в реках была столь прозрачной, что Сакуров мог разглядеть в ней серебристых рыб и песок на дне. А по реке проплывали чудесные пароходы, некие гибриды колёсных предков и современных лайнеров. Огромные колёса с блестящими от воды плицами беззвучно перемалывали речную гладь, невероятно высокие трубы курились едва заметным паром. Помимо пароходов, на реках наблюдалось изобилие парусных яхт. А вдоль берегов были разбиты культурные парки. В них гуляли нарядно одетые люди. Повсеместно наблюдались духовые оркестры, но музыки Сакуров не слышал.
«Куда это я залетел?» – не переставал удивляться Сакуров, понимая, что в России таких мест быть просто не может.
Пока он удивлялся, мажорная фантасмагория красок резко сменилась каким-то мрачным до содрогания пейзажем. «Прелюдией» к мрачному пейзажу явилась жёлтая поляна. В общем, сразу после леса она не выглядела какой-то не такой, и её можно было принять за плантацию одуванчиков. Но Сакуров, благодаря своему полётному раздвоению, смог опуститься над поляной предельно низко и определить, что никакие это не одуванчики, а обыкновенная синтетическая краска поверх начисто вытоптанной обширной площадки, которая только с большой высоты могла показаться поляной.
«Очень интересно», – подумал Сакуров и своевременно перешёл от состояния порхающей бабочки к состоянию парящей птицы, потому что за «поляной» начался другой лес. Вернее, горелый бурелом самого мрачного вида. Черноту корявого пожарища подчёркивали снежные сугробы.
«Занятно» – мысленно констатировал смену пейзажей Сакуров и полетел дальше. И спустя непродолжительное время увидел, как бурелом сменился самой вульгарной свалкой. При виде свалки Константин Матвеевич неожиданно испытал чувство какой-то садистской ностальгии.
«Заня…» – хотел мысленно повториться Сакуров, но невольно осёкся: свалка, подпёртая со стороны бурелома порушенной кирпичной кладкой, представила такие жуткие перспективы, что куда там какому-то горелому бурелому. В общем, за свалкой Константин Матвеевич обнаружил совершенно ровное необозримое и абсолютно бесперспективное пространство, обезображенное стройными рядами виселиц.
Сакурову во сне сделалось плохо, он, наконец-то, понял, что это сон, и попытался проснуться. Но ни черта у него не получилось, и он полетел дальше, не в силах оторвать взгляда от леденящего душу вида чудовищного пространства с рядами виселиц. Виселицы, кстати говоря, не пустовали. На них висели разной свежести трупы обеих полов, а подавляющее их большинство составляли старики, старухи и дети.
Пролетая над этим кошмаром, Сакуров спугивал несметные полчища воронья, и они с беззвучным карканьем срывались с «насиженных» мест. Надо сказать, во время всего сна все действия сопровождались лишь имитацией звука. А самого звука не было, и воспринимался он, будь то осмысленная человеческая речь, рёв двигателей самолёта, стук пароходных плицей или вышеупомянутое карканье, на уровне ещё более глубокого подсознания, нежели то, что «транслировало» картинку сна. Тем не менее, Сакурову стало невыносимо слушать раскаркавшихся потревоженных ворон, и он всё-таки заставил себя проснуться.
Проснувшись в кромешной тьме и абсолютной тишине деревенского дома, Сакуров несколько минут бессмысленно таращился в невидимый потолок, а потом стал осмысливать увиденное. В общем, кошмары ему снились и раньше без всякого пьянства, потому что для кошмаров ему было достаточно гибели жены и дочери. Но ему ни разу не снились кошмары с продолжениями. Очевидно, Сакуров допился до такого состояния, что…
«Что пора завязывать», – подумал Константин Матвеевич в ту памятную ночь, когда ему приснились жёлтая поляна и ужасные виселицы. Заснуть он больше не смог и промаялся в постели часов до шести утра. Затем начались трудовые будни, Сакуров встретился с Жоркой, и они усидели пол-литра за завтраком без участия Семёныча с Варфаламеевым. После завтрака Сакуров возился по хозяйству, сварил постный суп и лёг спать довольно поздно. И снова полетел.
В ту ночь ему приснился полёт над «промышленной» зоной неведомых краёв. Всё, как в предыдущем сне, начиналось без малейшего намёка на последующий кошмар, и вид «промышленной» зоны вполне радовал своей благопристойностью пролетающего над ней Сакурова. Невероятно чистые и аккуратные заводы с фабриками не извергали в небо клубы дыма, и поэтому сначала показались невольному наблюдателю декоративными. Однако, судя по другим характерным признакам, они что-то, несомненно, производили, поскольку на их территориях наблюдалось довольно интенсивное движение в виде въезжающих и выезжающих большегрузных автомобилей. В отличие от тех производственных территорий, на которых довелось побывать Константину Матвеевичу наяву, эта радовала глаз отсутствием дикого беспорядка в общей планировке технологических терминалов, а сами терминалы не выглядели уродливыми и закопченными, как в жизни. Поэтому взор пролетающего над неведомой территорией Сакурова отдыхал на гармоничной череде фабрично-заводских корпусов в виде симпатичных кубов и усечённых конусов, выкрашенных в успокаивающие цвета. Между ними, не нарушая общей архитектурной гармонии, стояли огромные сверкающие шары и гигантские реторты для производства химических реакций. Кругом, куда хватало глаз, изобиловала зелень, виднелись аккуратные дорожки и по ним прогуливались безмятежные люди в белых халатах.
Именно в этом месте своего очередного сна Сакуров почему-то понял, что спит и видит продолжение вчерашнего сна. Понял и стал с интересом ждать продолжения. Он знал, что продолжение будет зловещим, но не стал заставлять себя просыпаться. Ему сделалось интересно: какой же новый кошмар он увидит? Дело в том, что его кошмары никогда не повторялись, и это свидетельствовало о его богатой «внутренней» фантазии. Впрочем, Сакуров не мог поручиться именно за данный сон, условно являющийся третьей серией одной картины, которую рисовало ему его подсознание. Но та сторона подсознания Сакурова, что ведала производством кошмаров, осталась верна заведённой с момента начала запойной жизни клиента традиции, и Сакуров увидел совершенно свежий кошмар.
Как и в предыдущем сне, симпатичная картинка иноземного (или инопланетного?) производственного благополучия резко сменилась отстойной помойкой самого земного (с привязкой к российской действительности новейшего толка) происхождения. Эта помойка началась за последним рядом деревьев парка, окружающего один из фантастических промышленных объектов. Помойка заняла довольно продолжительное полётное время спящего Сакурова, исподволь подготавливая его к финальной части «сонного» кошмара. Тем не менее, кошмар оказался неожиданным из-за своей оригинальности. Короче говоря, Сакуров увидел крематорий. Что это крематорий, а не котельная, прачечная или фабрика-кухня, Сакуров понял даже не по виду, а по запаху. А пахло палёным человеческим мясом, каковой запах преследовал Сакурова со времён его бегства из Сухуми. Впрочем, вид крематория также соответствовал его мрачной специализации, – эдакий невесёлый храмина под протестантскую готику из красного закопченного кирпича без окон и дверей с тремя трубами квадратного сечения, из которых дым шёл не просто чёрный, а зловеще черный, внутри своей черноты отливающий ещё более чёрным.
«Судя по запаху, в этом крематории сжигают или свежих покойников, или живых людей», – пришла в голову спящего Сакурова какая-то нелепая мысль. Дело в том, что во всех крематориях мира принято сжигать сравнительно свежих покойников, а не третьеводнишних или прошлогодних. Сакуров об этом знал, хотя никогда раньше не бывал ни в крематориях, ни рядом с ними. То есть, память о запахе горелого человеческого мяса у него сохранилась именно после грузино-абхазского конфликта, задевшего Сакурова самым трагическим образом. При этом он не помнил, чтобы видел, как горит живой человек, потому что кошмарную память обонятельного свойства об известном запахе приобрёл, находясь рядом с пожарищами, где сгорали убитые накануне люди.
Тем не менее, мысль о возможно заживо сжигаемых людях пришла, болезненная сонная фантазия услужливо нарисовала черновую картинку процесса, и Сакуров элементарно задрожал во сне, да так чувствительно, что у него под руками задрожал даже штурвал самолёта.
«Чёрт!» – помянул свидетеля почти всех интересных событий Константин Матвеевич и попробовал проснуться. Однако проснуться с первой попытки ему не удалось, и Сакуров продолжил вынужденный полёт. А самолёт, словно издеваясь, самостоятельно снизился до минимальной высоты и заложил некрутой вираж. Поэтому Сакурову не пришлось порхать бабочкой, чтобы увидеть подробности кошмара почти в натуральную величину. А увидел Константин Матвеевич следующее: подготовительный и заключительный циклы фантастического процесса зазеркальной кремации. В подготовительной части присутствовали ворота, куда весело валила толпа празднично одетых людей. Миновав ворота, люди начинали дисциплинированно раздеваться, не прекращая своего «строевого» движения. Раздевшись догола, они входили в арку здания крематория.
«Блин», – с тоской подумал Сакуров, и в это время самолёт, продолжающий издевательский полёт по кругу, доставил своего беспомощного пилота к противоположной стороне крематория. Здесь Сакуров увидел заключительную часть в виде транспортёра, выносившего наружу некачественный пепел, который изобиловал «живописными» фрагментами человеческих тел иногда довольно внушительных размеров. Над транспортёром кружило непременное вороньё. Их невыносимые крики подвигли Сакурова к производству новой попытки проснуться, он напрягся и проснулся.
Проснувшись, Сакуров снова задумался на тему своей профессиональной непригодности в деле употребления крепких недоброкачественных напитков из-за своего японского происхождения. И в очередной раз позавидовал Жорке с Варфаламеевым, которые, наверно, ничего подобного не видели. Семёнычу Сакуров не завидовал, потому что Семёныч не мог видеть никаких кошмаров не только в силу своей природной русской выносливости, но из-за элементарного отсутствия мозгов. Ещё в ту ночь Сакуров решил завязать с бухлом, но не завязал и продолжал смотреть своеобразные «полётные» сны. Они отличались друг от друга по содержанию, но развивались по похожему сценарию. Сначала Сакуров летел и видел причудливый праздник жизни с нереально красивой архитектурой на фоне нереально восхитительной природы. Это были великолепные здания фантастических конструкций, а вокруг них пышные леса и культурные парки. Встречались также удивительные дворцы на берегах сказочно невиданных рек, и ветряные мельницы среди разноцветных лугов такой высоты, что крылья мельниц доставали перисто-кучевые облака.
Потом праздник неожиданно кончался и начинался кошмар, но теперь уже какого-то «локального» свойства.
Так, в одном сне на Сакурова набросилась собака, вырвавшаяся из клетки в багажном отсеке. Как она там оказалась, Сакурову даже неинтересно было знать, но он сражался с собакой не на жизнь, а на смерть в кабине самолёта, мучительно вспоминая, как включить автопилот.
А в другом сне самолёт попал в грозу и воздушный бой одновременно. Сначала неведомый противник продырявил рубку пулемётной очередью, а потом она стала наполняться дождевой водой. Самолёт колбасило молниями, Сакуров сидел в кресле пилота, сжимал штурвал и начинал элементарно тонуть. А когда он попытался отстрелить катапульту, кресло вяло всплыло на поверхность воды, на три четверти заполнившей рубку, но Сакуров при этом оказался задницей кверху.
«Да, брат, плохи твои дела, – прикидывал Сакуров после очередного пробуждения, – и будут ещё хуже, если ты не завяжешь…»
Но с завязкой у него всё не получалось и не получалось, поэтому перед четвёртой по счёту «серией» Сакурову померещилась какая-то дополнительная пограничная фигня, не имеющая к сонным кошмарам и их прелюдиям никакого отношения. Так, во всяком случае, показалось засыпающему Сакурову, когда он первый раз услышал какую-то возню в противоположном углу маленькой деревенской спаленки. Услышав подозрительные звуки, Сакуров попытался разглядеть их источник, но как не таращился в темноту, ничего не мог разглядеть, хотя до противоположного угла было чуть больше трёх метров.
«Надо встать, включить свет и посмотреть, что это такое», – думал Сакуров, забираемый любопытством. Но именно в этот момент ему делалось невыносимо лениво производить какие-то физические усилия, поэтому он оставался лежать в кровати. А спустя минуту Сакуров уже с кем-то мирно беседовал. Затем засыпал, видел сон, просыпался, сон вспоминал до мельчайших подробностей, а вот беседу припомнить не мог. Хотя точно знал, что какая-то фигня ему вчера мерещилось ещё наяву.
И так несколько раз до сегодняшнего дня.