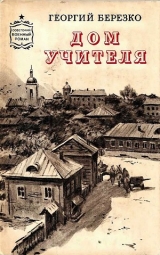
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
«Потеет, а температура не падает», – с грустью подумал он сейчас.
– Словом, товарищи, еще не поздно… – сухо проговорил Самосуд. – Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти, мы не станем его удерживать и даже не осудим… Не каждый способен выдержать то, что его ожидает в случае провала.
– Да уж, если начнут эсэсовцы иголки под ногти вгонять… – сказал судья, и в его тоне была необъяснимая усмешка.
– Что? – спросил Солнышкин, оторвавшись от своего воспоминания, и обвел всех взглядом.
– Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти, – повторил Самосуд, глядя на него. – И это надо сделать немедленно.
– Но… А-а, я все понимаю, это снова ко мне… Но я…
Солнышкин, сидевший несколько в стороне, на диванчике Ольги Александровны, выпрямился, и старые пружины зазвякали от его движения, точно пожаловались вместо него.
– Я, конечно, только человек! – выкрикнул он. – И я… я просто, как человек, заплакал. Но это не может меня дискредитировать как коммуниста. И умереть, если… я во всяком случае смогу. Ведь за детей, за всех детей, за их будущее… Простите… – Солнышкину показалось, что он выразился чересчур выспренно. – К тому же я у вас человек сравнительно новый, меня на селе мало кто знает… Поэтому я, может быть, больше, чем кто другой… Да, лучше, чем кто из местных, подхожу для подпольной работы на селе… – неожиданно закончил он, как оборвал.
– Ну что же… – сказал, подумав, Самосуд. – В известной мере вы правы.
И дальше разговор пошел уже о вещах практических: надо было создавать новый райком и распределить обязанности, наметить хотя бы ближайшие задачи, в частности – боевые задачи партизанского полка имени Красной гвардии, как назван был теперь же полк, сформированный Самосудом, обсудить формы помощи Красной Армии, подумать о связи с обкомом партии, с военным командованием и решить много других вопросов. Самосуд раскрыл синюю сафьяновую папочку Ольги Александровны, взял несколько листков почтовой бумаги и повернулся к Солнышкину.
– Прошу вас набросать текст листовки к трудящимся нашего района, – строго сказал он. – Чем писать у вас есть?
И он протянул Солнышкину хрустальный с золотом стаканчик хозяйки, в котором она держала карандаши. Сергей Алексеевич был опытным педагогом и знал, что хорошим средством для укрепления духа является дело, занятость, ощущение своей полезности.
…Когда вблизи на большаке разгорелся бой и старый дом зашатался, как при землетрясении, а из окон посыпались стекла вместе с сухой замазкой, Самосуд вывел всех в сад. Женщин он проводил к погребу с земляной кровлей, устроенному для хранения яблок; мужчины залегли под деревьями – отсюда было не так далеко и до леса. У Самосуда и у судьи имелись наганы, у военкома – кольт, и они переложили их в наружные карманы. Осенка и Федерико пошли в разведку, на улицу, а Солнышкин пристроился у какого-то чурбачка и писал.
– Друг наш… бесценный наш друг, – сказала Ольга Александровна Самосуду, она словно бы рассеянно огляделась, – вы, я вижу, собираетесь нас защищать. Я вспомнила «Илиаду», осаду Трои – этот вечный бой за родной очаг… Ради бога, поберегите себя!
На свежем, ветреном воздухе ее белое лицо приняло голубоватый оттенок; шла она тяжело, зарываясь носками туфель в опавшую листву, но выглядела спокойной, отрешенной от происходившего.
Лена вела под руку Марию Александровну, та улыбалась своими бескровными губами, бодрилась, но при каждом близком разрыве вся сжималась и качала головой, словно с осуждением.
Время от времени Лена показывалась из погреба, выносила мужчинам яблоки и принималась разговаривать высоким, возбужденным голосом. Снизу ее просительно звала Ольга Александровна, и Самосуд, сердясь, вновь отправлял ее в погреб, к теткам и к Насте.
Некоторое успокоение наступило лишь поздно вечером – немцы были отогнаны, и все вернулись в дом; заседание в белой комнатке Ольги Александровны возобновилось при свечах, а в зальце оборудовали перевязочный пункт.
Солнышкин подал Самосуду написанную листовку и, пока Самосуд читал ее вслух, напряженно ловил каждое слово. Сергей Алексеевич иногда запинался, не сразу разбирая его почерк, и тогда на лице Солнышкина выступало мученическое выражение.
– «Товарищи, дорогие соотечественники, не падайте духом! – начиналась листовка. – Пусть никто не сомневается в том, что ненавистный враг будет разбит, что мы одержим победу и прогоним его с нашей земли! Мы здесь, мы с вами, товарищи! Мы не ушли и не сложили оружие. Мы боремся и мы будем мстить фашистам за все мучения, за наши разрушенные города, за сожженные села, за пролитую невинную кровь, за отнятую у нас мирную жизнь».
Самосуд прервал чтение, взглянул на Солнышкина и кивнул.
– «Мы призываем вас, наши родные и близкие, наши отцы, матери, братья и сестры, к выдержке, стойкости и отваге, – прочел он. – Помогайте Красной Армии, помогайте партизанам, чем только можете! Выслеживайте фашистских убийц, собирайте сведения о движении вражеских войск, об их складах. Передавайте эти сведения партизанам. Поддерживайте красных партизан продуктами и теплой одеждой, укрывайте их! Будем бороться вместе!
Товарищи трудящиеся нашего района, позор и неволя страшнее смерти! Пусть узнает враг, что в нашем районе, как и везде в нашей Великой стране, он встретит только лютую ненависть к себе и презрение. Он покушается на нашу свободу, на нашу Советскую власть, он задумал превратить всех нас в безгласных рабов. Ответим же ему пулями! Никакой пощады фашистским захватчикам и насильникам!
Верьте, товарищи земляки, Красная Армия вернется, и над нами снова засияет ленинский свет Свободы.
А мы и сегодня с вами, мы совсем близко от вас!
Районный комитет
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)».
– Хорошо, – сказал Самосуд. – Принимаем, товарищи?..
– Райкома нет – райком есть, – торжественно сказал судья.
Солнышкин благодарно посмотрел на судью и улыбнулся, он не был утешен, но у него появилось такое чувство, что он сейчас уже вступил в борьбу и за своих четырех мальчиков.
Листовку одобрили, и Самосуд в свою очередь довел до сведения членов нового райкома, что в его отряде имеется ротатор и какое-то количество бумаги, заблаговременно припасенной.
Было около десяти часов, когда Самосуд, принявший на себя обязанность секретаря подпольного райкома, закрыл заседание.
Солнышкин и Виноградов тотчас поднялись – завтра на рассвете они должны были отправиться в район, по селам, чтобы установить связь с верными людьми. Но затем наступила пауза, все медлили расходиться, словно какое-то еще дело осталось нерешенным и какие-то слова не сказанными…
Вдруг все одновременно подались друг к другу и стали обниматься, молча и неловко. А те слова, что были в мыслях у каждого, – слова о родственной и, может быть, большей, чем родственной, близости, которую испытывали сейчас друг к другу эти люди, так и остались несказанными.
Сергей Алексеевич проводил уходивших на крыльцо и постоял там, вглядываясь в шумящую доящем темноту, в которой, едва сойдя с крыльца, пропали Солнышкин и Виноградов. Сам Самосуд хотел еще повидаться с командиром части, оборонявшейся на окраине города, и поговорить о возможности совместных действий. Аристархов, военком, остался с Самосудом – только что на заседании он стал начальником штаба партизанского имени Красной гвардии полка.
Двенадцатая глава
Присутствие необычайного
Женщины
1
Вечером в наступившей тишине Ольга Александровна сказала Лене:
– Знаешь, со мной происходит что-то непонятное. Я хотела тебя попросить… но я забыла.
– О чем попросить? – высоким голосом спросила Лена.
– О чем-то важном… Ну, не помню… О чем-то совсем простом… – Ольга Александровна сжала руку девушки своей маленькой, мягкой рукой. – Господи, я, кажется, схожу с ума!
– Не надо, не надо! – умоляюще сказала Лена. – Все уже кончилось.
Они стояли в полутемной кухне, куда Ольга Александровна только что привела племянницу.
– Я зажгу лампу… А ты посиди, успокойся. Все кончилось… Все кончилось, – повторяла Лена.
Ощупью она поискала спички на полке у плиты, где всегда возле деревянной солонки лежал коробок – там его не оказалось.
И из дальнего угла послышался певучий голос Марии Александровны:
– Спички на столе. Настя приходила, брала… Надо бы затемнить окно.
Лена опустила штору, зажгла лампу, и, когда за пузатеньким, сразу запотевшим стеклом вспыхнул лепесток огня, Мария Александровна встала из угла, будто и ей нужен был свет, и, тихо ступая, подошла к старшей сестре.
– Ну вот, слава богу, все кончилось. Что ты хотела, Оленька? – спросила она.
– Забыла, вылетело из головы. – Ольга Александровна тяжело опустилась на табурет. – Хочу вспомнить и не могу… А минуту назад об этом думала… Такая нелепость.
И она заплакала, не мигая, с открытыми глазами, в первый раз за весь ужасный, длинный день. Начавшийся, казалось, давным-давно, с появлением рано утром этой бедной женщины с младенцем на руках, прибежавшей из Спасского, он все не кончался, все длился, пока одни умирали под бомбами и пулями, а другие сидели под землей, ожидая своего конца.
– Ничего, ничего, голубка… – Мария Александровна нашарила плечо сестры, вздрогнувшее под ее прикосновением, и легонько погладила. – Ну, поплачь немного, поплачь, ничего.
Звук ее голоса был удивительно чист и нежен, но белое, узкое лицо, со стеклянно отразившими огонек лампы глазами, оставалось кукольно неподвижным.
– У меня мысли разбегаются, – очень искренне пожаловалась Ольга Александровна. – Полный ералаш в голове.
Она достала из кармана вязаной кофты скомканный платочек и быстрыми, мелкими движениями, точно пудрясь, стала осушать мокрые щеки.
– А где Настя? – спросила она.
– Настя окна забивает фанерой, где стекол нет, – сказала Лена.
– Ах да, я же сама ее попросила… Лена, Леночка! – воскликнула вдруг Ольга Александровна. – Ну подойди ближе! Господи! Подойди же!
Лена слегка наклонилась к ней, и она обеими ладонями сжала ее лицо так, что выпятились губы.
– Тетя!.. Больно же… – пробормотала невнятно Лена и попыталась высвободиться.
– Живая, живая!.. Я так о тебе!.. А ты бравировала… Все выбегала в сад посмотреть!..
Ольга Александровна сама легонько оттолкнула от себя девушку.
– Все-таки их не пустили сюда, – метнулась в другом направлении ее мысль. – Такая вдруг тишина!.. Где они теперь, немцы?
– Они были совсем близко, – сказала, будто пропела, слепая. – Я слышала, как они кричали…
– Ну что ты?! Они были все-таки далеко, – возразила Лена.
– Я слышала, как они вопили. А потом загремели их танки… Танки были уже в городе… – сказала слепая. – От их грохота, от звона у меня лопалась голова… Вот уж не думала никогда, что услышу, как стреляют их пушки… невыносимо громко…
– Мы все сидели в погребе, пока наши там воевали… Ах, вспомнила наконец! – воскликнула Ольга Александровна. – Надо же всех покормить. Леночка, прошу тебя… Ведь все, наверно, голодные! Ах какая же я!.. Никто не ел целый день. Я сейчас приведу Настю. А ты помоги ей, пожалуйста! У нас еще много картошки…
Она раз и другой дернулась всем грузным телом, прежде чем смогла подняться, и машинально поправила свои пышные, голубоватые волосы.
– Ты сиди, сиди! – сказала Лена.
– Какая же я?! И надо поставить самовар… Пожалуйста, Леночка!
Царственно откинув голову, задыхаясь, Ольга Александровна пошла из кухни; у выхода она остановилась:
– Да, а где мы положим Сергея Алексеевича? Он целый день на ногах. И прошлой ночью, наверно, не спал… Везде все занято.
– Я перейду к тебе, а он ляжет в моей комнате, – сказала слепая.
– Да, хорошо, он ляжет в твоей комнате, – решила Ольга Александровна.
Она вновь почувствовала себя хозяйкой, в которой все вокруг нуждались, и это помогло ей собраться с духом.
Кормить всех Ольга Александровна решила в библиотеке-читальне, где стоял самый большой стол. С помощью Лены она накрыла его самой большой, пиршественной скатертью, какая нашлась в доме. Это была прекрасная скатерть чистейшего льняного полотна, лишь слегка пожелтевшая за годы, что пролежала без надобности в родительском буфете. А свечи, зажженные в железных, петровского времени шандалах – керосина осталось в доме уже совсем немного, только для кухни, – создавали впечатление особой, таинственной торжественности. Вместе с Леной Ольга Александровна принялась считать, сколько же потребуется к ужину приборов, и по-хозяйски забеспокоилась.


Раненых не было уже в доме, за ними приехали из госпиталя и всех увезли, но девушка-сандружинница осталась – присела в зальце и тут же заснула, завалившись головой на спинку стула, свесив измазанные кровью руки с набухшими венами, – ее надо было обязательно накормить, напоить горячим чаем. Затем надо было дать поесть женщине из Спасского и соседям-погорельцам – переселенные на освободившиеся койки в спальную комнату, они уже наведывались в кухню, к Насте: нет ли у нее хлебца? С утра не ели ничего, кроме яблок, и зарубежные товарищи. (Бомбежка задержала всех четверых, а потом в Дом учителя пришел с городским военкомом сам командир партизанского отряда, куда они были направлены; и, к их чрезвычайному удивлению, командиром оказался старый учитель – «профессоре», как называл его Федерико; без возражений, скорее, с охотой «профессоре» взял к себе в отряд Осенку, Федерико и чету Барановских – пани Ирена слышать не хотела о разлуке с мужем. И теперь все они дожидались, когда командир отправится с ними в отряд.) Нельзя было забыть и знакомых интендантов: часа полтора назад они вновь постучались в дом – Веретенников со своей командой, все промокшие, продрогшие, – и их стало даже больше, чем было, прибавился больной мальчик. Далее попросились переночевать двое бойцов с ручным пулеметом, разыскивающие свою часть. А во главе стола – что разумелось само собой – должны были занять места Сергей Алексеевич и Евгений Борисович, военком. Своих, домашних, насчитывалось четверо: Маша, Настя и их двое – она и Лена; впрочем, сама Ольга Александровна ужаснулась, подумав, что и ей следовало бы поесть. Ну и не лишним было поставить несколько запасных приборов, на случай если в дом постучится кто-нибудь еще. Словом, к ужину в библиотеке могло стать тесновато…
– Не знаю, не знаю… – все повторяла Ольга Александровна. – Посуды может не хватить. И хорошо бы, Леночка, перемыть ее.
За этими хлопотами как-то забывалось минутами и то, что было пережито за день, и то, что бой еще не кончился, а только прервался, и что неизвестно, как все будет завтра… А Лена – та просто удивляла Ольгу Александровну: с девочкой творилось что-то вовсе непонятное.
И правда, Лена была необыкновенно возбуждена… Впуская сейчас в дом интендантов, она любопытно выглянула за дверь – там в стороне сегодняшнего боя что-то туманно, разноцветно светлело в толще дождя, будто расплывались капли краски: розовой, зеленой, желтой. И Веретенников тоном бывалого воина объяснил ей, что это немцы освещают ракетами свое предполье. Но Лена лишь подивилась тому, что фашисты все ж таки слишком близко – ей представлялось, что их отогнали гораздо дальше. А сейчас и эти мысли не занимали ее – она была полна другим…
– Стаканов, наверно, всем не хватит, – озабочено сказала Ольга Александровна. – Вот беда-то…
– Не хватит и не хватит, будем пить по очереди, – Лена засмеялась.
– Тебе весело? – не с осуждением, а как бы с интересом спросила Ольга Александровна.
Она тяжело села на подвернувшийся стул, ее всегда теперь тянуло посидеть; и странно: сколько бы она ни сидела, она никак не могла набраться сил.
– Совсем не весело, – звонко ответила Лена. – Разве может быть кому-нибудь весело?..
– Мне бы так хотелось, чтобы ты была теперь далеко-далеко… – вздохнув, сказала Ольга Александровна. – Очень далеко…
– А мне, знаешь, – Лена повертела головой, – совсем бы не хотелось.
– Бог знает что ты говоришь!.. Половины нашего города уже нет. Страшно об этом думать. Ах, Леночка, это ужасно, что ты не уехала!
– Мне надо сказать тебе одну вещь, – начала Лена, – Ты только не волнуйся.
Ольга Александровна жалобно на нее посмотрела.
– Мы все собирались в Ташкент. И вот как получилось… Я, конечно, виновата, что не отправила тебя раньше.
– Ничего ты не виновата, – сказала Лена. – И знаешь – ты только не пугайся! Я рада, что не уехала. Правда, рада.
– Рада?.. Ты говоришь ужасные вещи.
Лена обогнула стол и подошла к тетке с таким видом, точно собиралась открыть ей приятный секрет… На столе колыхнулось пламя свечей, и легчайшие тени заметались по скатерти, по стеклу книжных шкафов, по гипсовым бюстам античных философов, что смутно белели наверху под потолком.
– Самое ужасное я еще не сказала… – Лена опять засмеялась, – мне нужен твой совет.
И ей действительно очень надо было поговорить с теткой, но не затем, чтобы получить совет – это, по правде говоря, имело второстепенное значение, – а чтобы исповедаться и таким образом сделать ее как бы своим сообщником. Лене не требовалось уже ни «да», ни «нет», все самое важное в ее жизни определилось, казалось ей, окончательно, с полной ясностью. Но носить в себе одной это сознание окончательности, – может быть, роковое – было немыслимо трудно. Да и кто еще, кроме старой тетки, имел право первым узнать обо всем, что с нею произошло. Кто еще был так понятлив и уступчив?!
Тетке предстояло услышать и о том, что она, Лена, никуда не побежит, ни в какой Ташкент, а пойдет туда же, куда уходят Федерико и его друзья, и будет делать все то же, что будут делать они, пани Ирена и девушка-сандружинница. Уж если эта ополченка, по виду совсем школьница, не побоялась войны, то ей, Лене, стыдно бояться, и она, конечно же, поборет в себе самый большой страх – страх перед чужим страданием. А еще – и не «во-вторых», а «во-первых» – тетка должна быть посвящена в то поразительное, чрезвычайной важности событие, которое переживала Лена.
Утром, когда она и Федерико прощались на городской площади, она лишь догадывалась об этом приближении необычайного. Но позднее, во время бомбежки, когда ушедший куда-то Федерико вернулся невредимым и тоже спустился в подвал, где все сидели, облегчение, которое она почувствовала, точно открыло ей глаза: необычайное свершилось. Еще позднее, когда все, спасаясь от танковых пушек, перешли из дома в сад и Федерико то исчезал со своей полуавтоматической винтовкой, то появлялся и что-то докладывал Сергею Алексеевичу, а встречаясь с нею глазами, улыбался и кивал ей, она призналась себе в том же самом, в чем признавались в какую-то минуту и Наташа Ростова, и Вера из «Обрыва», и Елена из «Накануне»… Эти пришедшие ей на память образы не говорили о книжности ее переживания – Лена была вполне искренней. Но все, что с ней когда-либо случалось, проходило как бы проверку сравнением с образами поэзии. А сейчас ее жизнь и поэзия, казалось ей, переплелись. И Лета – истинная, по душе и таланту, актриса, испытывала нечто подобное глубокому творческому удовлетворению: «Я люблю, люблю Федерико!» – подмывало ее разгласить на весь мир.
– Ну, что с тобой?.. Что замолчала? – спросила Ольга Александровна.
И неожиданно для самой Лены, у нее, вместо того чтобы сказать о Федерико, вырвалось:
– Я очень, очень люблю тебя, тетя Оля!
Она легко опустилась на корточки и положила руки, кисть на кисть, тетке на колени.
– Ты все-таки у-ди-ви-тель-ная, – проговорила она по слогам. – Ты невозможно добрая! Я тебя ужасно люблю.
– Вот так неожиданное признание!
Ольгу Александровну и в самом деле удивил этот взрыв нежности – она считала племянницу натурой скорее эгоистической, слишком занятой собой, чтобы хватало еще внимания на других. Такое, вероятно, было свойственно всем артистическим натурам, – оправдывала она Лену, и не только оправдывала, но и любовалась своей одаренной воспитанницей, принимавшей как что-то естественное всю нежность и все заботы, к которым она привыкла.
– Почему? Почему неожиданное?! – запротестовала Лена. – Я тебя всегда ужасно любила. Я просто не представляла себе, как я могу без тебя.
– А, ну да… ну, это другое дело, – мягко сказала Ольга Александровна.
– И почему я называю тебя тетей? Тетя Оля, тетя Оля!.. Ты всегда была моей мамой… Ты мама Оля!
Ольга Александровна промолчала – не очень понятная грусть овладела ею при этих словах племянницы. Лена щекой легла на ее колени и закрыла глаза. От платья тетки все еще исходил земляной, картофельный запах подвала – все пропитались этим запахом, пока сидели там, – и с безотчетным порывом Лена прижалась теснее и обняла колени тетки.
– Ты невозможно добрая, моя мама! – сказала она. – Мне тебя ужасно жалко!
– Это все, что ты хотела мне сказать? – Ольга Александровна качнула неопределенно головой.
– Не все, конечно… И ты прости меня, заранее прости, – с силой сказала Лена. – Мне так жалко тебя и всех: тетю Машу, Настю, дядю Сережу!..
– Ну, ну, полно… ничего… – Тетка провела рукой по ее рассыпавшимся, спутанным волосам.
– А раненые! Господи, господи! А этот больной Гриша – кашляет так ужасно! Хрипит! Мне даже этих интендантов стало жалко. Появились вечером – такие мокрые, грязные… Их малютка командир совсем озяб, посинел, как синичка.
Лена была очень счастливой сейчас, словно бы очень богатой, и она совестилась этого своего богатства.
– Я тебе скажу одну вещь, – заговорила неуверенно Ольга Александровна. – Я должна была, вероятно, раньше сказать, но все откладывала. А теперь нельзя уже… Мало ли что может случиться…
– О чем, что? – Лена подняла голову.
– Я боялась, ты слишком огорчишься, если выяснится, что все ошибка или что нас обманули… Ну, а больше откладывать нельзя.
– Безумно интересно! – сказала Лена.
Ольга Александровна положила руки ей на плечи и нажала сверху, удерживая ее на месте.
– Возможно, Леночка, что наш Митя… – она растягивала фразу, – возможно, что твой отец жив… Но тише, не волнуйся…
– Безумно интересно… – повторила растерянно Лена. – Безумно…
– И хочется верить, и боишься: вдруг это ошибка или что-нибудь еще… Я тебе сейчас расскажу. Однажды, перед самой войной, к нам пришел какой-то незнакомый товарищ… – Ольга Александровна все сильнее нажимала на плечи Лены. – Позвонил, я открыла, и он сразу – ни здравствуйте, ничего… Тише, Леночка, слушай, – сразу говорит: «Вы Ольга Александровна Синельникова? Привет вам от Дмитрия Александровича…»
– Но ведь отец… – проговорила Лена и осеклась.
– Да, да! Шестнадцать лет от твоего отца не было ни звука, мы уже давно потеряли всякую надежду, и вдруг!.. Человек этот ничего больше на все наши расспросы не сказал, только спросил о тебе, тебя не было дома. Через пять минут он ушел… Только сказал, когда уходил: «Ждите всего самого хорошего».
– Ой, тетя!.. – воскликнула Лена. – А какой он был, этот человек?
– Самый обыкновенный, средних лет, в клетчатой кепке. Мало интеллигентный, знаешь… если судить по его речи. Он был с дороги, весь в пыли… Я пригласила его остаться, отдохнуть – он не остался… Мы с Машей были потрясены.
Ольга Александровна сняла руки с Лениных плеч, и Лена тут же поднялась.
– У меня есть отец, – проговорила она медленно. – Но это чудо!
– Чудо, да, – Ольга Александровна задохнулась и помолчала. – Если только…
– Но что может быть? – горячо сказала Лена. – Зачем этому человеку было выдумывать? И откуда он знал про нас, про меня?..
– Мы тоже так думали, – сказала Ольга Александровна. – Мы терялись в догадках.
– Нет, это ясно! – воскликнула с уверенностью Лена. – У меня появился отец!
– Еще не появился… Ах, Леночка, все так неясно…
– Но если он жив, – значит, появится. Это самое настоящее чудо! – сказала Лена.
Она побледнела, глаза ее раскрылись шире… В эту минуту, как веяние горячего ветра, она опять почувствовала присутствие необычайного, вмешавшегося в ее судьбу. Только что оно одарило ее любовью – первой и такой большой, – сейчас оно вернуло ей отца и одарило тайной. Поэзия ее жизни становилась поистине драматической… Ощущая воздушную, тревожно-сладкую легкость в теле, как перед выходом на сцену, Лена выпрямилась, откинула голову, полно вздохнула. И вошедшая в эту минуту пани Ирена, взглянув на нее, восхитилась и сказала:
– Мой ангелок!..
Пани Ирена пришла помочь собрать ужин. А следом за нею в библиотеку, энергично топая, вошел маленький техник-интендант с двумя бутылками коньяка: ввиду исключительных обстоятельств Веретенников посягнул на добытый им для комдива напиток. И важный разговор Лены с теткой прервался…
2
Библиотека стала наполняться людьми. Пришли все, кого сосчитала Ольга Александровна: погорельцы, интенданты, поляки, женщина из Спасского, Сергей Алексеевич и с ним старичок военком, двое бойцов-пулеметчиков. Были приглашены к столу и не попавшие в предварительный подсчет двое пограничников, тянувшие линию связи, затем какой-то случайно позвонивший на крыльце сержант-артиллерист из ополчения, еще какой-то красноармеец, тоже искавший свою часть… За занавешенными окнами стояла осенняя, непогожая, военная ночь, и невдалеке плавали размытые огни неприятельских ракет – неизвестность, ненастье, мрак и смерть обступили старый дом. А в доме были не заперты двери, можно было войти, не позвонив, – было упоительно тепло и сухо, и можно было скинуть намокшую, как губка, шинель. Здесь исходил на столе паром самовар, а еда подавалась не в консервных, иззубренных ножами банках, а на тарелках, честь честью, и хозяйка даже улыбалась поздним гостям. А те, присмиревшие в этом блаженном тепле, стеснительно усаживались перед угощением, пряча под стульями ноги в чавкающих сапогах… Пламя свечей, горевших на столе, многократно отражалось в дверцах застекленных шкафов, отчего стены будто отодвинулись куда-то, в иное, надземное пространство. И уходящие, в зеркальную глубину, эти умноженные повторением огоньки показались Лене цепочками созвездий. Голодные люди ели много, сосредоточенно, молча брали хлеб руками, черными от пороховой гари, от земли, – и небесные звезды светили им.
Позднее пришел командир ополченского батальона, старший лейтенант со своим ординарцем. И Лена, по первому впечатлению, подумала, что старший лейтенант пьян – так бессмысленно-странно он улыбался, глядя на стол, застланный белой скатертью, заставленный фарфором и хрусталем; к еде он, не в пример другим, почти не притронулся, но выпил подряд несколько стаканов чая – пил и грел о стакан свои багрово-сизые, охолодевшие пальцы.
Пришел наконец и Федерико, сел напротив Лены, оглядел стол, благодарно кивнул ей и с решительным видом принялся за еду… С этого момента она, что бы ни делала, ни говорила, угощая гостей, все делала и говорила как бы для многочисленного зрителя. В ее голосе появилась особенная звучность, и, передавая соседу плетеную корзиночку с хлебом, она старалась делать это так, точно за нею неотрывно следили тысячи глаз.
– Леночка, пожалуйста, налей мне чаю, – попросила Мария Александровна.
Поставив перед нею чашку с чаем, Лена и ей улыбнулась своей лучшей улыбкой, приподняв брови, чуть приоткрыв губы, точно и слепая тетка могла эту улыбку оценить.
…Мария Александровна сидела с безмятежным выражением своего кукольного личика и с крайним, чрезвычайным напряжением вслушивалась в разговоры – она силилась лучше понять, что же это такое бой – бой, который ведут зрячие люди. В ее ушах весь этот длинный день мучительно гремело, лязгало, визжало, лопалось, ревело то, что грозило гибелью всем, кого она любила, и никогда еще она не сознавала себя такой бессильной и ненужной, как в этот день! Порой до ее слуха из мира зрячих доходили страшные, воющие звуки, отдаленно похожие на человеческие голоса, – вероятно, это выло само безумие. И Мария Александровна, сидя в погребе, протягивала руки и шарила вокруг себя, чтобы удостовериться, что они еще живы – сестра Оля, Лена, Настя…
От детских лет у Марии Александровны сохранились лишь полустертые воспоминания о видимом мире, о солнце, о небе, о деревьях, и то, что сохранилось, приняло с годами фантастический характер: деревья и дома стали намного выше в ее представлении, выросли, двор расширился, улица, по которой приходилось ступать с осторожностью, ужасно удлинилась. И Мария Александровна позабыла уже, как зеленый цвет отличается от голубого. Теперь ее мир был миром звуков, запахов и той особенной памяти о предметах, которая жила в кончиках ее пальцев, а изощренным слухом она улавливала и то, чего никогда не слышали зрячие. Сергей Алексеевич Самосуд говорил, что ей, как пушкинскому Пророку, внятен «и горний ангелов полет… и дольней лозы прозябанье», – он не так уж сильно преувеличивал. Ее звучащий, многоголосый мир, подобный некоему гигантскому оркестру, был необыкновенно сложен, но она различала в нем каждый голос и каждый инструмент. Постепенно Мария Александровна стала все видеть в звуках: природу, вещи, животных и даже то, что для зрячих людей вообще не звучало. Свой особый звук был, как знала теперь она, и у каждого человека.
Так, Федерико с его громкой речью, с твердой походкой, от которой стонали половицы в доме, представлялся Марии Александровне чем-то вроде резкого автомобильного сигнала в ночной тишине. А поляк Осенка, другой их нынешний постоялец, учтивый, сдержанный, с ровным голосом, был похож на приятный звук духового инструмента, скорее всего, кларнета. Интендантский офицер, вновь появившийся у них в доме, бойко пощелкивал и прыгал, как биллиардный металлический шарик. А один из солдат его команды, с которым Марии Александровне случилось однажды вечером беседовать, напомнил ей бамбуковую тросточку, оставшуюся от покойного отца, тросточка была с трещиной и тонко, по-комариному звенела, когда ею помахивали. Словом, звуки были симпатичные и несимпатичные, ласковые и сердитые, спокойные и тревожные. Сам Сергей Алексеевич звучал подобно контрабасу – низко, гулко и мелодично, хотя голос его и потрескивал. Дело в том, что один лишь голос не характеризовал еще его обладателя – голос человека не всегда совпадал с его звуком. Мария Александровна и сейчас с удовольствием услышала контрабас своего давнего друга: Сергей Алексеевич, как всегда, старался поддерживать хорошее настроение. И когда с мягким шорохом войлочных туфель вошла Настя и в библиотеке распространился теплый запах вареного картофеля, Сергей Алексеевич проговорил:
Ах, картошка, объеденье,
Пионеров идеал!.. —
и постучал по столу ладонью, призывая всех оказать картошке внимание… Это было просто поразительно: Сергей Алексеевич в любых обстоятельствах оставался самим собой – уверенным в себе насмешником. И его насмешка была, по-видимому, нужна людям: интендантский шофер с птичьей фамилией Кулик сипло расхохотался, и звонко, будто посыпались стеклянные бусы, засмеялась Лена.







