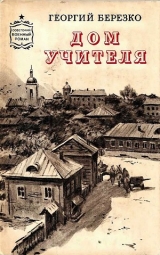
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Ясенскому между тем становилось все хуже: из медсанбата его, пораженного гангреной, перевезли в армейский госпиталь, и там, в маленьком русском городке, в древнем монастыре, где был развернут госпиталь, он тяжело умирал.
А решение судьбы Осенки и его спутников затянулось: о них сообщили в Москву, и ответа из Москвы пока не было. Теперь все жили в том же прифронтовом городке; Осенка и Федерико сами попросили поселить их здесь, ближе к Ясенскому, чтобы он не чувствовал себя одиноко.
2
За те немногие дни, что они рядом лежали на госпитальных койках, Ян Ясенский и Петр Горчаков, вальцовщик с московского завода «Серп и молот», они нельзя сказать, чтобы подружились, для этого просто не хватило времени, но почувствовали уважительный интерес друг к другу. Источником его было не только то, что оба они принадлежали к одному, хотя и разноязыкому, племени, живущему в постоянном общении с огнем и металлом: Ясенский тоже когда-то начинал вальцовщиком, потом перешел в литейный цех. Их уважение питалось еще и тем, что оба распознали друг в друге родственную черту – она встречается и у людей, мало в остальном похожих: оба не снисходили до жалоб и не нуждались в утешениях, во всяком случае не искали их, предпочитая самолично справляться со своими бедами.
Но если Горчаков, тоже раненный осколком снаряда в ногу, с каждым днем поправлялся – рана его оказалась «чистой» и не вызвала осложнений, он уже вставал и выбирался с костылем на монастырский двор, то Ясенский не надеялся выйти живым из этого тесного номера монастырской гостиницы, где они встретились. Ампутация ноги не спасла его, гнилостный процесс быстро разливался по телу, поднимаясь все выше к жизненным центрам. И последние два дня Ясенский находился в забытьи, словно был уже наполовину мертв.
За несколько часов до своего конца он, как бывает при газовой гангрене, пришел в сознание – это было близко к вечеру, после обхода – и вдруг хватился своей одежды. Едва дождавшись прихода сестры, он потребовал, чтобы ему немедленно отдали его куртку, ту, в которой его доставили сюда; у него не было уже голоса и, страшно напрягаясь, силясь оторвать от подушки голову, он кричал каким-то шепотным криком. Сестра, жалостливо покивав – она не впервые видела это зловещее возбуждение, – не стала его вразумлять. И вскоре, словно Ясенский выписывался сегодня, ему принесли со склада тугой, перевязанный веревочкой сверток с болтавшейся картонной биркой. В свертке была и его куртка – кожаная, черная, с грубо пришитой суконной заплатой на груди, истертая до белизны на обшлагах, на локтях. Подергиваясь, чтобы приподняться, Ясенский долго шарил по ней своими большими костлявыми пальцами с отросшими ногтями; утомившись, он неистовым шепотом попросил соседа по палате, Горчакова, распороть подкладку под левой полой.
Ничем: ни словом, ни каким-либо изменением в лице – он совсем уже обессилел – он ничего не выразил, когда Горчаков, оторвав углом подкладку, извлек из-под нее и положил ему на одеяло плоский пакет размером с обычный почтовый конверт, обернутый плотной, сильно потершейся бумагой. Ясенский только прикрыл его рукой. Затем на свет появилась также обернутая бумагой небольшая фотокарточка; обертка, истертая на сгибах, отвалилась, и на Горчакова глянула с фотографии молодая, спокойно-приветливая женщина в белой, с буфами, как носили в старину, кофточке.
– Это кто же будет? – спросил он из учтивости, чтобы оказать внимание. – Симпатичная.
Ясенский не ответил, лишь мигнул набрякшими, исчерна-лиловыми веками.
А дальше – и это было совершенно неожиданно! – Горчаков вынул из его куртки запонку для манжета – дешевую медную запонку, сделанную в виде крохотной лошадиной подковы, и почему-то одну, хотя запонкам полагается быть в паре. Ясенский слабо потянулся к ней, подержал немного на ладони и положил рядом с пакетом и фотографией.
– То добытэк[11]11
Имущество (польск.).
[Закрыть] мой… так… весь, – очень тихо проговорил он и поморщился, пытаясь улыбнуться.
В бессилии это прозвучало у него не шутливо, как он хотел, а со скрытым смыслом. И вновь его охватило тревожное возбуждение… Цепляясь за края койки, забыв об отрезанной ноге, он опять задергался, вытягивая шею, напрягаясь, чтобы сесть. И Горчакову трудно и обидно было смотреть, как этот человек с покалеченным, но некогда могучим телом, под которым скрипела и прогибалась койка, большеголовый, большелицый, со все еще дремучей гривой всклокоченных волос тщетно пытался перебороть свое изнеможение.
– Хлопец от… Федерико! Гуляет с якой бабой… сукин сын! – вырвалось у него сквозь хриплое клокотанье в глотке. – Федерико! От сукин сын – не прийшел!..
– Приходил твой хлопец, да ты спал… – сказал Горчаков.
– Мать его… – выругался Ясенский. – Тэраз и не зобачимся[12]12
Теперь и не увидимся (польск.).
[Закрыть]… От петух!..
– Придет еще, завтра придет, – сказал Горчаков. – Чего ты нервы себе портишь?
– Бабы так само… цурки дьябла[13]13
Дочки дьявола (польск.).
[Закрыть]… липнут до него… – хрипел Ясенский. – Хлопец пенкный[14]14
Красивый (польск.).
[Закрыть]… петух!
Ему удалось наконец поднять на выпрямленных руках свое безмерно отяжелевшее туловище. И его мясисто-багровое, в лиловых тенях, опаленное жаром лицо оживилось мимолетным торжеством.
– Он тутой у вашем курятнике… он наробит шкоды… Тылько пух бендзе лечеть – Федерико!..
Ясенский засмеялся, закашлялся, стал давиться, локти у него подломились, и си рухнул на подушку. Некоторое время он безмолвствовал, лишь в горле у него что-то будто кипело, потом опять зашептал:
– Тэн пакет… товажыш Петр, отдай, – он нашарил на одеяле пакет, – ему, Федерико… Хлопец теж там был… теж воевал… Мувишь ему: нехай тэраз до вас[15]15
Скажешь ему: пусть теперь к вам… (польск.).
[Закрыть]… нехай с русскими тэраз… Воевать еще долго, мувишь… аж до второго Христова пришествия. Нехай у вас научается воевать. А еще то у вас добже – цо нема у вас борделей.
Он скривился одной стороной лица, что означало усмешку, и словно бы подмигнул – Ясенский и сейчас опасался выглядеть слишком торжественным.
– Повешь ему, сукину сыну, когда не зобачимся… У революциониста едно коханье[16]16
У революционера одна любовь… (польск.).
[Закрыть]… Так повешь: една жона, една матка. Нехай паментае… И не слухае тых добрых панов… Тым панам либералам – перша пуля… Тым, кто не паментае, – перша пуля… Тым добрым болтунам… Повешь ему… товажыш Петр!
Каждое слово в этом прерывистом шепоте давалось Ясенскому с великим трудом, паузы все удлинялись…
– Не иде хлопец… От бабник!.. Отдай ему тэн пакет… Повешь еще Федерико… нех мои пули достшелэт[17]17
Пусть мои пули достреляет (польск.).
[Закрыть]… нех…
И Ясенский совсем умолк, хотя губы его еще шевелились и самому ему казалось, что он договорил свое завещание до конца: «Нех не пшебоча, нех поментае…» [18]18
Пусть не прощает, пусть помнит… (польск.).
[Закрыть]
Но Горчаков, пересевший к его койке, этого уже не услышал. Он наклонился еще ниже – сухой, незримый огонь, сжигавший Ясенского, пахнул на него, – но так и не узнал, что еще он должен был передать.
Этот его сосед по койке, пришелец из чужой страны, хотя и вызывал симпатию, был мало ему понятен. В первые дни, когда Ясенский чувствовал себя еще не так плохо, они сумели, коротая бессонные часы, поговорить о некоторых жизненно важных вопросах. И услышанное от соседа – бывалого и, по всему, заслуживающего уважения человека – прямо-таки ошеломило Горчакова.
– А для чего тебе родзина?.. – задал ему Ясенский несуразный вопрос. – По-нашему – родзина, по-вашему – семья. Для чего солдату сёмья? Для чего она революционисту?..
– А куда ж человеку без семьи? Только разве в пивной павильон, – Горчаков даже засмеялся.
– Семья, товажыш Петр, то есть ланьцух, а по-вашему – цепь… – сказал Ясенский. – Сёмья, религия, дзети, всякая милосчь, любовь до бога, до жонки – то есть ланьцух. Чловек повинен быть свободны – вольны козак, по-вашему.
В тоне Ясенского было раздражение, он словно бы лично помимо других соображений что-то имел против всех человеческих привязанностей.
И Горчаков, кого в Москве, на Тулинской улице, ожидали с войны с победой две девочки и молодая жена, писавшая – ему утешительные письма: «О нас не беспокойся… Немцы бомбят нас мало, их не пускают… Побереги себя… Наташку я записала в первый класс», – Горчаков, которого каждое такое письмо заставляло заново переживать главное человеческое чувство: волнение любви, не нашелся, что толком ответить.
– Это ты, брат, загнул… Человек без семьи, как дерево без корня, – только и сказал он.
В другой раз непонятный сосед признался ему:
– …А у меня нема ойчизны. Цо то ест ойчизна? Свепта ойчизна? Моего брата Каролека замордовали у полиции… Ойчизна? То ест добра матка Радзивиллу, водочному крулю Потоцкому. А я убегал з моей ойчизны… То ест тылько мейсце, где я народился, тылько география.
– Отчизна – география? – переспросил Горчаков.
– Так, – сказал Ясенский. – Так, так. Тылько география.
В его голосе опять слышалась озлобленность, он помрачнел, замолчал. И Горчаков подумал, что этого человека очень, должно быть, обидели на его родине, если она стала для него всего лишь географией.
Порой Ясенский вспоминал об Испании, о ее древних городах и апельсиновых рощах, хвалил ее народ, у которого, как он выразился, «анархизм у крэви», и одобрял испанское вино «вальдепьянс», – словом, и земля и люди пришлись ему там по сердцу. А рассказывая о гражданской войне, об этих первых боях с фашизмом – испанским, немецким, итальянским, – он с заметным удовольствием говорил, что наступление фашизма отражали в Испании волонтеры, собравшиеся из разных стран «по власной воле».
– Слухай, Петр, якие у нас были батальоны, – сказал он однажды, – имени германца Тельмана, имени поляка Мицкевича, имени американца Линкольна, украинца Шевченко! А якие бригады: Карла Маркса, Домбровского, Гарибальди, Димитрова… Со всего святу слетелись людзи! Ваши русские тэж добже воевали: летники, танкисты…
Но, в общем-то, это были печальные, даже жестокие воспоминания. И рассказывал Ясенский чаще не о геройском и воодушевляющем, а о неудачах, изменах и ошибках, о выстрелах в спину. Выходило, что от всего, чему он был свидетелем в этой испанской войне, остался у него на душе горчайший осадок. Иногда даже могло показаться, что он насмешничает над своими былыми надеждами и своей доверчивостью.
Что бы там, однако, ни говорил Ясенский, Горчаков был благодарен случаю, сведшему его с этим человеком словно бы из другого мира. Его сосед мог считать себя настоящим воякой, не в пример покамест ему самому: он дрался с фашизмом не в одной Испании, воевал и в своем отечестве, а после Испании, после Франции, завербовавшись на сталелитейный завод в Германии, воевал и там в подполье, потом партизанил в Польше… Когда врач выслушивал Ясенского, подняв на нем рубаху, Горчаков чертыхнулся, увидев на поросшей черным волосом груди поляка длинную, лишенную волос белую вмятину, глубиной не меньше чем в два пальца. Как он только остался жив после такого ранения?! А то, что он в немалые свои годы дотопал невесть откуда до середины России, чтобы опять же принять участие в войне, заслуживало большего, чем «спасибо», – как бы там он себя ни называл: анархистом или как-нибудь еще.
…Подождав над замолчавшим Ясенским минуту-другую, Горчаков окликнул его: может быть, ему нужно было дать лекарство? Но Ясенский не отзывался, вероятно, он просто не услышал. А еще через какое-то время он заговорил сам, почти очистившимся от хрипов голосом, слабым и словно бы безразличным:
– Мы все на Желязной жили… Каролек, я, Маринка… беленькая паненка… Мы все у Варшаве на Желязной… Дом пани Бартошевич. Так… Мы пляцки у нее куповали…
Почему-то он, ничего не рассказывавший раньше о себе, замыкавшийся при первых расспросах, стал вспоминать сейчас свое детство. И казалось, что рассказывает он больше себе, чем Горчакову, он и смотрел не на него, а вверх, в сводчатый, низкий потолок, на висевшую на шнуре голую лампочку. Свет еще не горел; за узким полуциркульным окном, прорезанным в стене крепостной толщины, начало смеркаться, синеть. Было тихо, ни звука не проникало со двора, и только время от времени в коридоре гудел каменный пол под сапогами санитарок.
Ясенский отдыхал сейчас от своих мучений, не сознавая уже, что с ним происходит. Боль, истерзавшая его в последние дни и ночи, наконец от него отступилась, и его лишь будто покачивало и кружило на койке, как на тихих волнах, но это было приятно. А мысль о своей близкой смерти тоже вместе с болью покинула его.
– По Висле плоты плыли… – рассказывал Ясенский. – Мы с Маринкой убегали до Вислы… А у Кракове мы потэм… Так… Ойтца уже не было з нами. У Кракове мы на Пястовской жили. 3 маткой… Она з Поозерья была, з повята Мыслибуж… з Мыслибужа. Ты слухашь?..
Наклоняясь, Горчаков старался не упустить ни слова: казалось, что о детстве, о матери, о семье говорил уже не Ясенский-анархист, а кто-то другой – человек, как все. Ясенский повел из-под вспухших век глазами, но вряд ли он увидел Горчакова, таким невидящим, обращенным внутрь был его взгляд.
– Мы приязно все жили… А Каролек был старший, – рассказывал он медленно и покойно. – Каролек тэж был патриота… Наш Каролек… Мы на гору все ходили… всей родзиной… на гору, на тот курган… Слухашь? То по нашему звычаю насыпали, курган Костюшки… А птахи там у руки сами идут… На горе… Каролек… тэж был патриота…
И Ясенский опять замолчал, его одолела дремота, веки сомкнулись. Но если это и был сон, то необыкновенный, никогда раньше не случавшийся у него. Лучше сказать, это был не сон, когда человек на какое-то время перестает сознавать действительность, а ее, действительности, поразительное, всесильное воскрешение. К Ясенскому не то что вернулось во всей живости его прошлое – он вернулся к нему. И он опять был сейчас таким, каким был когда-то на Желязной и на Пястовской, то есть больше, чем когда-либо, был самим собой, со своей истинной, главной, никогда не умиравшей любовью. А все то, что происходило с ним после ухода из дома на многих его дорогах, что сделало его таким, каким он сам себя считал и каким справедливо считали его другие, затемнилось, стало призрачным, исчезло…
Горчаков смотрел на своего соседа с жалостливой отчужденностью и непониманием, как вообще на чужую смерть смотрят живые. Иногда ему казалось, что конец уже наступил – так неподвижно было это большое, длинное тело с единственной ногой, упершейся в железные прутья изножия, и такой немотой веяло из черной щели полуоткрытого рта. Горчаков прислушивался, и его ухо улавливало свистящий звук, точно из проколотой автокамеры вырывался воздух, – Ясенский еще дышал. И хотя Горчаков много уже повидал смертей – с середины июля он с боями отступал до Смоленска, – и хотя ему приходилось уже и засыпать, и есть свой хлеб рядом со смертью, он испытывал в этот вечер особенное, недоуменное огорчение. Очень уж несчастливый человек кончался здесь на его глазах – одинокий и бездомный, а должно быть, неплохой, отзывчивый на чужую беду – кончался невознагражденным! И почему – если уж каждому живущему, даже самому достойному, суждена смерть, – почему он умирал в страданиях? За что это было ему? – спрашивал себя Горчаков.
Вдруг до его слуха дошло незнакомое, вероятно польское, слово:
– Конец!
Он поднял голову – слово напоминало «конец». И во второй раз, вполне разборчиво, Ясенский проговорил в своем сне:
– Конец!
Горчаков встал с табуретки, утвердил под мышкой костыль и запрыгал из палаты за врачом или сестрой – надо было облегчить человеку хотя бы эти последние минуты.
Сестра пришла быстро и сделала укол – влила Ясеневому в руку целый большой шприц какого-то прозрачного лекарства; Ясенский даже не шевельнулся, ничего, видно, не почувствовав. И смочив место укола ваткой с йодом – для чего только? – сестра бережно опустила на простыню его тяжелую, в буграх мускулов, но уже бессильную руку.
– Доживет до утра, нет ли? – сказала она.
Горчаков с укором взглянул на нее. Впрочем, и он не обманывался в том, что ниточка, связывавшая старого бойца с жизнью, вот-вот оборвется.
А Ясенский, словно бы возражая им обоим, снова заговорил:
– Цо то ест?.. Цо то?.. О, птахи!.. – услышали они внятное восклицание.
Ясенского, собственно, не было уже здесь, в этой голой комнате, в полутьме позднего вечера. Сейчас там, где он находился, все сияло в океане теплого, безоблачного полудня. И Ясенский безмерно обрадовался, увидев птиц, которых он помнил с детства.
Это были фазаны, водившиеся во множестве под Краковом, – большие, нарядные, с радужным оперением, с длинными, клиновидными хвостами. Они спокойно прогуливались в траве, волоча свои изукрашенные шлейфы, а некоторые поднимались плавно в воздух и летали над склонами высокого зеленого кургана. Ясенский сразу же узнал этот курган – конец Костюшки – и нисколько не удивился тому, что он опять стоит у его подножия. Тут же – хотя он и не видел воочию, но достоверно знал, – тут же, обок стоял его старший брат Каролек, что тоже не вызывало удивления. И неизъяснимое, свободное чувство, которое он мальчишкой делил здесь с Каролеком, – чувство своей бесконечности вновь наполнило его. А этот островерхий, весь в молодой траве курган и был самой бесконечностью! Она так, конечно, и выглядела – бесконечность – невянущий, весь малахитовый склон, правильная, вечно весенняя пирамида, уходящая в чистое небо.
Сердце Ясенского зачастило, как в минуту восторга, он стал задыхаться, грудь его выгнулась, но затем ему удалось еще раз вобрать в себя воздух и длинно выдохнуть. Он испытал облегчение, подобное счастью, и его сердце остановилось – он умер.
…Утром, когда Осенка и Федерико пришли проведать своего товарища, тело его уже было спущено в подвал, в мертвецкую. И Горчаков, чувствуя себя почему-то ответственным за эту смерть и оттого как бы рассерженный, отдал им куртку Ясенского, башмаки, берет и его потаенный архив: фотографию молодой женщины, медную запонку и пакет для Федерико – все, что их товарищ оставил после себя.
В пакете, обернутое в несколько слоев бумаги, находилось письмо, которое Ясенский получил еще в Испании во время войны; письмо было написано по-польски, и Федерико попросил Осенку прочесть его. Оказалось, что это было Обращение знаменитого генерала Республики Вальтера, тоже поляка, ко всей Интербригаде имени Домбровского, а следовательно, и к каждому ее бойцу, – вернее, копия этого Обращения. Сделал ее для Ясенского какой-то его соотечественник, тоже Ян, подписавшийся одним лишь именем: переписал весь текст и отправил по почте в армейский госпиталь, где Ясенский лежал тогда с очередной раной. И как видно, письмо-обращение генерала было дорого для обоих бойцов, если один попытался ободрить им другого, выбывшего из строя, а другой сберег его…
Горчакову Осенка также прочитал письмо, переведя все на русский язык. В письме генерал писал:
«…Каса-дель-Кампо и Сьюдид университария, бесчисленные бои под Мадридом, а позднее Харама, разгром итальянских фашистов под Гвадалахарой, тяжелые бои под Брунете и последний героический труд на Арагоне – таковы этапы бригады имени Домбровского в борьбе за лучшее завтра нашей польской отчизны.
Бригада имени Ярослава Домбровского – это первая в истории и пока единственная бригада вооруженных сил польских рабочих и крестьян, которая реализует самый прекрасный и гордый лозунг, начертанный на знаменах: «За вашу и нашу свободу!» Она не знала и не будет знать минуты колебаний, как не знала и не может знать отступления…
Еще раз – самая искренняя благодарность поляка своим землякам и пожелание, чтобы знамя польской бригады как можно выше развевалось среди знамен республиканской армии и чтобы прежде всего оно было видно тем, кто нас сюда прислал, – польским трудящимся».
Горчаков, опираясь на костыль, слушал, опустив голову, со строгим выражением, как слушают речь над павшим однополчанином. Осенка переводил трудно, не всегда находя русские слова, но главное Горчаков уяснил. И он был доволен за Ясенского – хорошо, что хоть не в полной немоте проводили этого солдата в могилу его друзья… Горчаков подумал о том, что вот ведь как непросто бывает устроен человек: Ясенский полнее сейчас открылся для него. Вероятно, пришел Горчаков к выводу, слова не всегда являются у людей порождением разума, случается, что их порождает неразумная боль. А когда боль, обида, гнев становятся слишком сильными, разум сдает свои позиции… И еще Горчакову хотелось задать Осенке вопрос, который он все собирался, да так и не успел задать Ясенскому: как там в Испании командиры отдавали приказы, если их солдаты были все из разных стран и говорили на разных языках? Но спрашивать об этом сейчас, над свежей могилой, показалось Горчакову неуместным. По-видимому, как-то все там устраивалось: в конце концов, такие необходимые слова, как «Вперед!», «Ни шагу назад!», «За вашу и нашу свободу!», нетрудно было выучить на всех языках.
Похоронили Ясенского в его походной форме: в рабочей куртке, пробитой и залатанной на груди, и в черном берете с залоснившимся фирменным ярлыком на подкладке: «Барселона». Никто в точности не знал, кем была для Ясенского молодая женщина на фотокарточке, которую он всегда носил с собой; сходство черт ее славянского типа лица с лицом Яна позволяло думать, что это фотография его матери. И уж совершенно никто ничего не мог сказать о его запонке в виде подковки; предположить, что анархист Ясенский верил в талисманы (лошадиная подкова, по слухам, приносит счастье), было невозможно, вероятнее всего, он сохранил эту вещицу в память о случившейся некогда радости, может быть, любви к женщине (Осенка вспомнил, что Ясенский был в молодости женат). Но с другой стороны, он ведь непримиримо восставал против всех семейных привязанностей.
Фотокарточку и счастливую запонку Осенка вложил в карман его куртки – они и дальше навсегда остались с ним. И к неисчислимому множеству этих маленьких тайн, исчезающих вместе с людьми, для которых они когда-то были важными, прибавилась, таким образом, еще одна.
Затем тело Ясенского было завернуто в плащ-палатку. И в последнюю минуту Федерико, державшийся все время с непроницаемой отчужденностью, сунул в ее складки письмо генерала Вальтера.
– Может, эта рекомендация еще пригодится там Янеку, – проговорил он по-итальянски.
К счастью, его никто не понял.
3
Втайне, когда случалось задуматься о себе самой, Лена Синельникова огорчалась и каялась. В самом деле, она никак не могла вполне проникнуться ужасом этой войны – даже не разучилась смеяться. То есть, конечно, она и ужасалась, и негодовала, и расплакалась, когда на их улицу пришла первая «похоронка». «Пал смертью храбрых» – было написано там о человеке, которого она немного знала, их городском киномеханике, тихом рябом парне; с ним как-то даже не вязалась эта оглушительно звучавшая «смерть храбрых». И то, что у него, бедолаги, часто во время сеансов рвалась лента, и то, что он безответно выслушивал все насмешки, вызывало теперь у Лены жалостливое сокрушение. Потом в городе появились беженцы из захваченных немцами областей, они рассказывали о бомбежках, о гибели людей под развалинами домов, о горящих вокзалах, о потерявшихся детях – и их нельзя было слушать без слез. Но и эти, очень искренние слезы заставляли Лену лишь сильнее чувствовать свою виноватость, свой эгоизм. Вот сейчас, принарядившись, она шла на свидание: за городом, у ворот монастыря, ее ожидал Федерико, ее новый друг. И вопреки войне, ей было интересно и радостно – не стоило и притворяться перед собой: словно бы игралась какая-то замечательная, со стремительным действием пьеса, в которой она и Федерико исполняли главные роли. Каким-то оправданием, может быть, служило ей только то, что в содержание пьесы входила, как представлялось ей, и комсомольская интернациональная солидарность.
Давно еще, не то в пятом, не то в шестом классе, Лена уверилась, что ее призвание – театр. В школе она была звездой самодеятельности: пела, читала на вечерах стихи, выступала в драматических отрывках из Чехова, Горького, Лермонтова. И в ее памяти жил еще тот счастливый успех, который она имела в роли Нины из «Маскарада» на областном смотре самодеятельности. Осенью Лена собиралась в Москву, держать экзамен в училище имени Щукина, и было, конечно, обидно – и тоже до слез! – что война помешала этим планам: театр и училище отдалились на какое-то время. Но тут неожиданно сама ее жизнь стала театром, драмой…
С момента, как в их Доме учителя появились четверо изгнанников из Европы, а среди них Федерико – итальянец, антифашист, боец Интербригады, Лена как бы подчинилась некоему драматическому сюжету. По первому впечатлению этот молчаливый, рослый красавец разозлил ее: не проронил ни слова, кроме «бонжур» и «мерси», ни разу не улыбнулся и только скользнул по ней невнимательным взглядом. Но точно гонг ударил к началу представления – и жизнь Лены Синельниковой день ото дня, как от сцены к сцене, становилась все интереснее, богаче, полнее.
А вокруг, похожая на дивную декорацию к пьесе, стояла ясная, сухая осень. Прохладные сентябрьские ночи были полны звезд, а дни – цветов и плодов: расцвели в палисадниках астры, а воздух пропитался запахом яблок. Дозревая на разостланной соломе, на чердаках, в сенях, антоновки были подобны прозрачным чашам, налитым желтоватым медом. И среди этого праздничного великолепия так легко забывалось о том, что на свете бывают и дожди, и ненастье, и война.
…К монастырю, где они условились встретиться, вела от дороги прямая, мощенная булыжником дубовая аллея. Там всегда было сумрачно: ветви столетних деревьев смыкались наверху, образуя низкий, начавший уже по-осеннему бронзоветь свод. И у входа в этот лиственный туннель Лена еще издали увидела Федерико. Прислонившись одиноко к дереву, откинув к его стволу непокрытую, курчавую голову, он всей своей позой выражал долгое ожидание. Но смотрел он не в сторону дороги, откуда только и могла появиться Лена, а куда-то вверх, в небо; можно было подумать, что оттуда, с неба, он и ожидал ее сошествия.
И Лена пошла быстрее, потом побежала… Вероятно, так не полагалось; все известные ей правила для подобных случаев требовали большей сдержанности. Но эти умные правила годились лишь для обычных, а не для тех исключительных, в чем она не сомневалась, отношений, что завязались у нее с Федерико. И ее удовольствие от того, что он ждет ее, говорило громче всех хороших правил.
Подумать только – этот почти что ее ровесник был уже ветераном, прошедшим с боями чуть ли не по всей Европе. И то, что при первой встрече не понравилось Лене – его замкнутость, молчаливость, отчужденность, – сделалось теперь в ее глазах приметой его мужества: а каким еще он мог стать, непрестанно сражаясь?! Особенно волновало Лену, что в целом мире, как она дозналась, у него не было никого из родных – ни матери, ни сестры, ни невесты, одни лишь боевые товарищи, самый близкий из них лежал здесь в госпитале с тяжелой раной. Федерико как мог о нем заботился, навещал его, но он и сам нуждался, конечно, в большем, чем это строгое мужское товарищество. К тому же он был изгнанником, политическим эмигрантом – окажись он на своей родине, его заточили бы в тюрьму, а может быть, казнили. И выходило так, что она, Лена, обязана была дать ему то, чего он не имел в своей завидной, но словно бы оголенной, обглоданной войной жизни.
Встречаясь с Леной – а теперь это происходило в Доме учителя ежедневно, – Федерико менялся прямо на глазах: мрачный, неразговорчивый со всеми другими, он с нею веселел, случалось, что и смеялся, правда, как-то нехорошо, глухо – голос у него вообще был похож на прокуренный, стариковский, – начинал что-нибудь болтать, и смуглое, в черной небритости лицо его оживало, точно из тени переходило на свет. Словом, одно ее присутствие утешало уже Федерико, а ее жизнь, в свой черед, наполнилась, казалось, добрым смыслом: сиротство этого героя огорчало Лену, но вместе с тем окрыляло. И чем лучше, чем вдохновеннее делала она свое дело утешения, тем счастливее становилась сама…
Утром сегодня Федерико удержал ее в сенях, сжав ее руку выше кисти своими твердыми пальцами, и потянул к себе; от неожиданности она только коротко вздохнула, точно всхлипнула. Он близко наклонился к ней – весь темный, большой, – и она зажмурилась, не зная, как быть – ведь это был не мальчишка из ее школы. Засмеявшись, Федерико отпустил ее, не поцеловав, и она сама чуть не чмокнула его, благодарная за его, как ей показалось, деликатность… Тогда же они условились встретиться здесь вечером…
– Федерико! – позвала она, запыхавшись.
– Что? – не изменив позы, он лишь повел на нее взглядом; у него были совсем синие глаза с желтоватыми белками.
Она запнулась – он точно не узнавал ее, прямо, в упор разглядывая, – и все приготовленные заранее фразы вылетели у нее из головы. Объясняться с Федерико было вообще нелегко: итальянского языка она не знала, он не знал русского, а ее французский язык был очень уж небогат.
– Вы?.. Что вы смотрели… высоко там, в небе? – подбирая французские слова, неуверенно выговорила она.
Он все вглядывался в нее и не отвечал, словно ничего не понял.
– Там в небе… вы смотрели, – упавшим голосом повторила она.
Его потрескавшиеся губы растянулись в подобие улыбки, и он облизал их.
– Там? Нет, Янек не на небе… Янек там, – он показал пальцем вниз, в землю.
– Камарад Ясенский? – испуганно спросила она.
– Прощай, до свидания, – хрипло сказал Федерико по-русски.
И у Лены едва не вырвалось: бедный Федерико! Спохватившись, она горячо проговорила:
– Бедный, бедный камарад Ясенский! Вчера он был… ему было хорошо.
– Вчера ему тоже было плохо, – сказал Федерико.
– Умер… – прошептала Лена. – Какой ужас!
Но, по правде говоря, ужаса она не испытывала – бедного камарада Ясенского она ведь ни разу не видела. А вот Федерико, потеряв своего друга, совсем теперь осиротел и, как видно, был очень расстроен. Он так и не пошевелился, разговаривая с нею, его откинутая голова припала к дереву, открылась гладкая, сильная шея… И Лену потянуло обнять эту маленькую, как у женщины, нестриженую голову в смоляных космах и витках.
– Я прошу, не надо… – жалобно начала она, – не надо… – Она хотела сказать «отчаиваться», но забыла это слово по-французски и сказала: – Не надо скучать.
– А я не скучаю, мадемуазель! Мы еще повеселимся, – сказал он.
– О, господи! – воскликнула по-русски она.
– Что вы сказали? – спросил он.
– Ничего… Я так… – Ей было невыразимо его жалко.
– Что вы сказали? – потребовал он.
– Я сказала… – она виновато взглянула. – Mon Dieu! [19]19
Мой бог! (фр.)
[Закрыть]
– Mon Dieu! – Федерико выпрямился, его будто что-то подстегнуло. – Ваш бог убийца, мадемуазель! Гангрена – это его выдумка. У бога много способов убивать… Гангрена, рак, проказа, тиф – это все он придумал. Гитлер – тоже его выдумка… Франко, Гитлер, Муссолини – тоже способы убивать.







