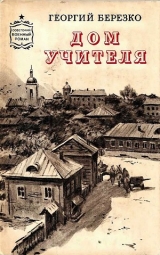
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– Но ваш намек мы понимаем, – продолжала директорша. – Передайте там своим товарищам бойцам: мы, женщины, трудящиеся в тылу, только об них и думаем, и нет нам ни часа покоя от наших дум. А они пусть об нас не тревожатся. Мы и детей соблюдем, и себя, и мы прокормимся, ничего…
Громадные шары ее грудей заколыхались под жакетом, она глубоко вздохнула.
Веретенников хмыкнул, поднялся со скамейки, и все стали прощаться.
– На политработу, Виктор Константинович, ставить вас еще рановато, – сказал он Истомину, когда они шли к машине. – С народом надо конкретно, ближе к практическим вопросам.
– Да, наверно, вы правы, – охотно согласился Истомин. – Какой из меня политработник?
Он все еще находился в необыкновенном возбуждении: пусть даже речь его оказалась неудачной, чересчур книжной, он был потрясен тем, что смог ее сказать и, более того, сам ей поверить. И если даже ему не слишком удалось утешить своих слушательниц, они утешили его самого.
Чтобы возвратиться в Дом учителя, надо было с одной городской окраины проехать на другую. И состарившийся в покое, в окружении своих садов, городок снова весь открылся Виктору Константиновичу. Он еще раз увидел эти деревянные улочки и эту бревенчатую церковку-вековушку с островерхим чешуйчатым куполом, а ближе к центру – эти каменные толстостенные дома с полуциркульными окнами, с ампирными портиками: школу, больницу, горсовет, продмаг и эту булыжную площадь с белой аркадой торгового ряда, с легкой, обитой кумачом трибункой, этот разросшийся бульвар с заколоченным пивным павильоном и полосатую будку алебардщика, в которой сидел ныне милиционер. Вдалеке, над разливом медно-зеленой листвы, то показывались, то исчезали зубчатые венцы башен монастырского кремля и долго маячила белосахарная соборная звонница. Все еще держалась ясная погода, и в прозрачной голубизне осеннего дня городок пронесся мимо, подобный овеществленному воспоминанию, каменному эхо давно умолкшего прошлого.
А впрочем, по улицам ходил народ, продавались билеты в кинотеатр, где сегодня показывали «Девушку с характером», по середине бульвара маршировал отряд школьников – все с сумками противогазов; встрепанная девочка, в тапочках на босу ногу, вела на шнурке белую козу, перебиравшую по мостовой, как на цыпочках, своими остренькими копытцами.
И Виктор Константинович почувствовал благодарность за все, что он здесь пережил и увидел, благодарность даже к этой вот взлохмаченной Эсмеральде с ее козой. А его смутное предчувствие – надежда на счастливый перелом в войне, на победу, что так долго, так страстно ожидалась, – превратилось почти в уверенность – уж очень хорошо он себя сейчас чувствовал!
Недолго задержавшись у райвоенкомата, пока Веретенников наведывался туда, дольше постояв возле столовой, где все пообедали жареной курятиной, за счет командира, обе машины вкатили во двор Дома учителя. И здесь настроение у Виктора Константиновича несколько понизилось: обитатели Дома собрались бежать из города, с минуты на минуту за ними должны были приехать… Желая попрощаться с хозяйкой Дома, Веретенников и Истомин нашли ее в зальце; одетая по-дорожному в какой-то допотопный, обшитый галуном черный костюм, в черной кружевной шали на седой голове, Ольга Александровна одиноко там прохаживалась. Выглядела она даже спокойнее, чем вчера, когда устраивала здесь гостей, но казалась рассеянной и словно бы все что-то обдумывала. Когда Веретенников, деловой человек, осведомился, будет ли кто-нибудь в ее отсутствие присматривать за этим «оазисом», она недоуменно улыбнулась. В нарядном, залитом солнцем зальце все, надо сказать, оставалось нетронутым, ни одной вещи не было убрано. И после того как Веретенников повторил вопрос, Ольга Александровна коротко ответила, что о Доме позаботится кто-то другой.
– Советую на основании опыта, – сказал Веретенников, – все материально ценное снести в одно место и – под хороший замок.
– А зачем? – только и проговорила она.
– Дорогая Ольга Александровна, самое тяжелое, может быть, уже позади, – сказал Истомин.
– Может быть… Может быть… – рассеянно повторила она.
Затем она пожелала товарищам фронтовикам счастливого пути, милостивой – так она выразилась – судьбы. И опять стала неспешно прохаживаться по своему цветущему садику, среди фикусов, роз и лимонных деревцев, упорно что-то про себя обдумывая.
Племянница Ольги Александровны Лена повстречалась Истомину во дворе; она куда-то стремительно неслась, но Виктор Константинович успел заметить, что кончик ее носа покраснел от слез; незастегнутое линялое пальтецо канареечного цвета приподнималось за ее спиной одним большим крылом. На бегу Лена жалобно улыбнулась Виктору Константиновичу, и ему пришло в голову сравнить ее с вылетевшим из гнезда в свой первый, страшный полет птенцом с красным носиком.
Польских беженцев не было видно: затворившись в комнатке Барановских, они совещались, вероятно, о том, как им теперь быть: дожидаться ли указаний сверху или уходить вместе со всеми? Положение у них действительно было вдвойне трудное – о них могли просто не вспомнить в эти дни.
Ваня Кулик, выключив мотор, достал расческу и, повернув зеркальце над ветровым стеклом так, чтобы видеть себя, причесался. Заглянув затем в свой продуктовый запасник, устроенный под сиденьем в кабине, и переложив половину его содержимого в карманы, он пошел прощаться с Настей… Когда на рассвете он проснулся, ее уже не было рядом: она поднялась раньше, он и не слышал. А повидать ее перед отъездом Кулика очень тянуло – по мотивам противоречивым: и по чувству признательности, и по чувству своей, и не только своей, общей их вины, непривычно тяготившей его. Ничего плохого, в сущности, у них не произошло, он переспал с нею – только и всего, велик ли проступок?! И она так искренно, так щедро его любила, что, вспоминая ее любовь, он немного дурел, похохатывал, начинал петь, подарил ни с того ни с сего свой запасной домкрат этому растяпе, новому их шоферу… Но нет-нет да и покалывало Кулика неопределенное поначалу беспокойство. «Соскучилась баба без мужика – простое дело. А нам тоже зевать не положено», – говорил он себе, оправдывая их обоих. Однако неприятное чувство не только не проходило, но постепенно созрело во вполне ясную мысль: «А ведь она не меня любила, она того, другого, целовала, что там, в Финляндии, пропал». И отвязаться от этой мысли Кулику уже не удавалось. «Не свое взял, чужое», – дошел он и до такого соображения. И хотя опять же взял он только то, что никому уже не принадлежало – мертвые ничем не владеют, – ему почему-то все вспоминалась фотография сумрачного сержанта, убитого на финской.
С Настей он столкнулся в кухне, на пороге ее жилища, – она выходила из своей пристройки и в руках у нее было по узлу. Увидев его, она подалась назад, явно желая избежать этой встречи.
– Здорово! Как дела? – брякнул он и тут же понял, что сморозил глупость: о делах можно было не спрашивать.
Она опустила на пол свои узлы – один ковровый, другой из мешковины, перевязанные веревками, выпрямилась и нехорошо, отчужденно, но как бы с бессилием взглянула на него. Сейчас, при свете дня, она показалась Кулику почти незнакомой, самой что ни есть обыкновенной: куда только подевалась вчерашняя невеста в полувоздушном одеянии, с золотым пояском, в белом веночке?! На Насте была ватная стеганка, подпоясанная ременным кушаком, толстый серый платок, замотанный на шее, тяжелые яловичные сапоги. И если бы только не диковинные, глубоко посаженные, огромные глаза на скуластеньком лице, Настю вообще было бы не узнать. Но и глаза ее изменились: ночью они казались совершенно черными, блестели золотисто-огненным блеском, сегодня они были серыми, матовыми, будто охолодавшими.
– Прекрасные дела, – сказала она тихо. – Ну, что ты?.. Чего тебе?..
– Ничего… Уезжаем мы… Нынче здесь – завтра там, – сказал он.
– Счастливо, – сказала она. – Езжайте.
– Лапушка! – Он сделал движение к ней. – Может, свидимся еще когда? И на войне не всех убивают.
– Нет, не свидимся! – Она словно бы даже испугалась. – А про то, что было, забудь… Ничего не было.
Кулик моргнул, натужно улыбнулся:
– Как так – не было?
– А вот так… Дай мне пройти!
– Как же не было, когда было, – сказал он сипло. – Да ты постой… постой, красавица моя!
– Ничего у нас не было. – Она не усилила голоса, но будто вдруг затосковала, будто сразу утомилась. – Чего стоишь?.. Прощай!
– Прощай! – обиженно проговорил Кулик. – Гонишь теперь. А я тебя не силой брал…
Настя прикрыла ресницами глаза, точно ей трудно было смотреть на него.
– Лучше бы уж силой, – сказала она очень тихо. – Пусти, уходи!
И, подхватив свои узлы, она двинулась прямо на него, как в пустоту: он невольно отклонился.
– Дай поднесу! – попросил он.
Она не ответила, ногой в сапоге толкнула дверь, протиснулась с узлами в коридор, и дверь за ней захлопнулась.
– Гадюка! – пробормотал Кулик. – Вот гадюка!
Бранясь, он пошел к выходу… Но из сеней вернулся и, продолжая сыпать ругательствами, вышвырнул из карманов на стол все, что принес из своего запасника. Он не мог заглушить в себе странного чувства к этой женщине, чувства близости к ней от соучастия в общем, плохом, нечестном деле. Каким бы оно ни было, оно уже связало их; Кулик и негодовал на Настю, и против воли испытывал уже какую-то ответственность за нее. Бросая на выскобленные доски кухонного стола консервы, печенье, кружок колбасы, он в сердцах приговаривал: «Получай за свое б… Вот тебе, вот! Ты-то больше виновата!.. Получай!»
Спустя полчаса обе машины Веретенникова выехали из ворот Дома учителя. В первой, рядом с новым шофером Кобяковым, сидел Истомин; вторую с бочками масла вел Кулик, с ним ехал Веретенников, выбравший его машину, чтобы не терять из вида головную с новичком. Перед отправлением техник-интендант распорядился всем проверить и привести в боевую готовность личное оружие, почистить и зарядить; сам он расстегнул кобуру, чтобы не замешкаться, если придется стрелять. Вообще-то он не был убежден в необходимости этих предосторожностей, но предпринял их даже не без удовольствия.
Проводить машины вышли за ворота слепая Мария Александровна и поляк Осенка… Машины скрылись уже за изгибом улочки, а Мария Александровна все махала им своей узкой, бескостной ручкой – она долго еще их слышала.
Шестая глава
Третья рота идет в бой
Школьники
1
Ночью в Спасское пришел раненный осколком лось, он спотыкался и сипло трубил о своей беде. На площади перед лавкой сельпо он упал на подогнувшиеся колени и склонился к земле длинной головой с тяжелыми рогами-лопатами. Судорога прошла по его горбатому хребту, и лось затих.
Спасское, стоявшее в стороне от железной дороги, от Московского шоссе, прикрытое с запада вековым лесом, оставалось покуда в стороне и от боев. Пушки гремели теперь недалеко, порой слышалась даже пулеметная стрельба, но каким-то островком неверного покоя было до времени это большое село, с его бее малого тремястами дворами, – фронт обтекал его.
Лишь на третьи сутки немецкого наступления в Спасском стали то в одиночку, то маленькими группами появляться солдаты, отбившиеся от своих частей. Задымленные, грязные, кое-кто в почерневших бинтах, они садились у колодцев прямо в пыль, жадно пили воду, перематывали задубевшие портянки, поспешно расспрашивали о дороге и уходили. Промчалось через село, с запада на восток, не останавливаясь, несколько штабных машин, иные с пулевыми звездными отверстиями в стеклах; проскакала с громом и топотом гаубичная батарея, и артиллеристы тоже не остановились, чтобы дать отдых взмокшим коням; проехал, качаясь на выбоинах, автобус походной типографии.
Был безветренный ясный день, один из тех голубых прозрачных дней конца осени, которые так похожи на самое начало весны. Но невидимая, отдаленно ревевшая буря словно бы неслась по следу этих людей и гнала их все дальше. Под вечер в Спасское въехал большой санитарный обоз – длинная вереница тихих повозок с их молчаливой, будто уже неживой, человеческой кладью потянулась мимо школы на окраине села. И соскочивший с повозки врач нетерпеливо допытывался у Сергея Алексеевича Самосуда, не перехвачена ли немцами дорога в город.
– Никто не может мне сказать, где сейчас противник, – пожаловался он. – А на руках у меня девяносто семь человек…
Врач был очень молод может быть, еще до срока выпущен в армию с последнего курса. Присев на краешек стула, он стащил с головы новенькую с зеленым медицинским околышем фуражку, оставившую на лбу мученический рубец, и, потирая лоб, сердито проговорил:
– Еду как с завязанными глазами. А по правилам… Да что толковать!
Он в сердцах хлопнул по кобуре с наганом, оттягивавшей его командирский ремень.
– Вот все наше вооружение! И два карабина в обозе… «Безумству храбрых поем мы песню!..»
«Сердитый юноша не свыкся еще, видимо, с тем, что правила и война – «две вещи несовместные», – подумал Сергей Алексеевич.
– Не хотите ли чаю? – спросил он. – У нас поспел самовар.
– Благодарю!.. Надо ехать… У меня много тяжелых…
Юноша вскочил, насунул на лоб фуражку – его розовое лицо страдальчески покривилось – и откозырял.
– Постойте-ка, товарищ Гиппократ! – Сергею Алексеевичу врач понравился. – Давайте напоим чаем ваших раненых. Это займет не больше получаса, а самовар у нас архиерейский, трехведерный.
Молодой медик насупился, повертел отрицательно головой, но вдруг согласился, и они вдвоем вынесли самовар на крыльцо. В довоенные времена этот медный богатырь украшал школьную столовую, тепло сияя в конце стола; теперь «техничка» тетя Лукерья ставила его для бойцов – случалось, забегали бедолаги в школу за огоньком, за водой… И перед крыльцом тотчас же выстроилась очередь бородатых нестроевиков ездовых, молоденьких санитарок; на повозках люди зашевелились, приподнимались, кто-то с толсто забинтованной головой сполз с повозки и, шатаясь, загребая ногами, пошел к крыльцу. А там вокруг солнечно лучившегося великана, увенчанного конфоркой, как короной, опять зашумела на короткие минуты жизнь, даже зазвучал женский смех. И странно, и ужасно в этот добрый шум ворвалась громкая, отрывочная речь, раздавшаяся на одной из повозок:
– …Денек-то!.. Хорош денек!.. А ты что?.. Да не надо – теплынь ведь… Ната, Наташка!.. Море, как стекло… Славный денек! Ну, пошли, помчались…
– Комбат Деревянко умирает… Не довезу, наверно, – сказал врач. – Тяжелое, черепное…
И школьный двор вскоре вновь опустел, обоз потянулся дальше, в город, в госпиталь. Пыль, вставшая из-под копыт крестьянских сивок и гнедков, окрасилась в цвет вечерней зари, и последняя подвода потонула в этой светлой мгле.
– Советую и вам не мешкать, товарищ педагог, уезжайте! – на прощание посоветовал медик Самосуду и побежал догонять своих раненых.
Сергей Алексеевич постоял немного на крыльце, глядя вслед.
«Пора и мне с моими ребятами, – мысленно проговорил он, – вот и настал день…»
При мысли об этих своих ребятах Сергей Алексеевич по-стариковски длинно вздохнул – он страдал, как страдают от любви. Вероятно, он не имел уже права задумываться над вопросом, брать ребят с собой или распустить по домам, – все было решено. Но каждый раз, говоря себе, что наступит день, когда он, никто другой, поведет их в ад, в смертное пекло, где и самая большая любовь не защищает от летящего навстречу свинца, он испытывал эту нерешительность. Чтобы пересилить ее, Сергей Алексеевич сказал вслух – так оно было убедительнее, – сказал зло, с нажимом:
– А чем мои ребята лучше тысячи тысяч других? Разве только тем, что они мои?
Нимало, однако, не утешившись, тоскуя и борясь с собой, он вернулся в школу.
К жестокому этому дню Самосуд готовился уже давно, с одной сентябрьской ночи в райкоме партии, когда ему, участнику гражданской войны, комиссару тех лет, вновь было поручено боевое дело – создание партизанского отряда. Множество забот, очень далеких от мирных обязанностей, сразу же свалилось на него: вооружение отряда, продовольствие, запасные склады, явки, связь, медикаменты, технические средства, взрывчатка и, конечно, люди, люди, с которыми он должен был остаться в немецком тылу! Кроме ненависти к врагам от них требовалось, еще и много другого: какая-то военная выучка и телесное здоровье, дисциплинированность и специальные познания в подрывном деле, в радиосвязи, а сверх того, и главным образом, – духовная доблесть. И если о деловых качествах кандидата можно было судить до его довоенным занятиям, а в известной мере по анкете в отделе кадров, то гораздо труднее было не обмануться в его способности к подвигу – тут не могла помочь и самая подробная анкета. Но как раз в этих заботах о кадрах, говоря официальным языком, Самосуда ждала необыкновенная удача, а вместе с тем и горчайшая тревога.
…В долгой жизни Сергея Алексеевича Самосуда был и такой момент, когда он посчитал себя чуть ли не потерпевшим личное крушение. И сознание своей жизненной неудачи даже попортило его характер: на людей, мало его знавших, он производил впечатление желчного человека. Вообще-то особенных оснований для жалоб на судьбу у Сергея Алексеевича не было: главное дело, которому он служил со студенческих лет, победило в октябре семнадцатого года и продолжало побеждать – те же идеалы справедливого устройства общества, что открылись ему в юности, светили ему и сегодня. Но чувство удовлетворения, каким бы полным ни было оно в час победы, не является чем-то постоянно напряженным, и обстоятельства личного порядка придают обычно свой оттенок общему успеху.
Мировая война помешала Сергею Алексеевичу устроить свою частную жизнь, а другие переломные события отразились и на его общественной жизни. В конце двадцатых годов Самосуд, занимавший большой партийный пост на юге страны, вынужден был его покинуть, да еще со строгим взысканием. Позднее его точка зрения в вопросах коллективизации деревни получила поддержку в партийных решениях, но к прежней деятельности он уже не вернулся: казалось, что доверие к нему было все же поколеблено. И Сергей Алексеевич почувствовал себя уязвленным. С того момента и возобновилась его прерванная на полтора десятилетия педантическая работа.
Вернувшись в родные места, Самосуд получил назначение в Спасское, директором школы, – это было лучшее, на что он мог тогда рассчитывать. И здесь, в Спасском, с полной ясностью для него самого обнаружилось его истинное, лишь приглушенное на время призвание; видно, и учился он некогда для того именно, чтобы стать учителем.
Как и всякий педагог по призванию, Сергей Алексеевич был художником… И если живописцу материалом, в котором воплощается образ, служит цвет, объем, линия, если поэту служит слово, то школьный учитель имеет дело с «материалом» самым драгоценным и трудным – с детской душой, кстати, и самым хрупким. Ныне, по убеждению Сергея Алексеевича, а вернее, по самому его вкусу к жизни, не существовало ничего более увлекательного, чем это общение с живой душой, раскрытой и для добрых семян, и для сорняков. Собственно, и в давшие годы комиссар Самосуд испытывал то же учительское, художническое удовлетворение, когда бойцы его дивизии имени Третьего Интернационала побеждали белые офицерские полки. Происходили чудеса очеловечивания: паренек в лаптях, пришедший чуть ли не из восемнадцатого столетия, из царевой вотчины или из демидовского заводского застенка, не умевший написать свое имя, превращался в этих походах и битвах в агитатора и защитника самых высоких идеалов. И это он, комиссар, обучал его науке классовой борьбы.
Незадолго перед войной о Самосуде вспомнили в столице, но и полученное лестное предложение не заставило его теперь изменить своей школе в Спасском. Он не только выполнял здесь директорские обязанности и не только давал уроки русского языка и литературы, он был еще классным руководителем; одна из его педагогических идей и заключалась в том, что классному руководителю надлежало стать центральной фигурой в школе. Много лет назад он, следуя своей идее, взял себе группу мальчиков и девочек, принятых в первый класс, взял с намерением провести их через все классы школы. И он не мог бросить их где-нибудь на полпути. Школа в Спасском, как и всякая другая, работала день за днем, год за годом, каждый раз обновляясь, как обновляется сад, – это был процесс, а не нечто раз навсегда созданное.
Нельзя было сказать, что Сергей Алексеевич дружил со своими ребятами, как нельзя сказать, что художник дружит со своей картиной – он живет в ней. В младших классах Самосуд ходил с ребятами в лес по грибы, на реку, читал им сказки, помогал готовить уроки, разбирал их конфликты; когда его подопечные подросли, он затеял с ними издание машинописного «литературно-общественного журнала» (называвшегося, без лишней скромности, «Современник»), в котором помещались их стихи, рассказы, публицистические статьи. Обсуждения каждого нового номера журнала носили широкий характер, и к ним привлекались родители. В общешкольных делах, таких, как уход за садом, помощь местному совхозу на уборке, его класс был впереди, подавая пример; Самосуд сам сажал с ребятами деревья, ставил кормушки для птиц. И он ревниво следил за тем, как под руководством преподавателя истории его класс устроил в школе музей революции и гражданской войны. Очень внимательно относился Самосуд к чтению ребят: Александра Дюма с «Тремя мушкетерами» – «тремя архаровцами», как он выражался, Конан-Дойля с Шерлоком Холмсом он только терпел, и он требовал, чтобы все прочли «Отверженных» Гюго, «Хижину дяди Тома», «Записки охотника», «Войну и мир» и, конечно, «Как закалялась сталь»… Во время испанских событий в школе висела большая, нарисованная ребятами карта Испании; после Хасана его класс стал переписываться с участниками боев на той далекой границе. А в год перед войной Сергей Алексеевич, к удивлению районо, устроил в Спасском олимпиаду поэтов – их неожиданно много объявилось у него. Это было удивительное поветрие; стихотворение, в высшей степени патетическое, к Первомаю написал даже завхоз школы, незаметный, многосемейный Петр Дмитриевич Овчинников.
С районо у Самосуда сложились отношения не то чтобы плохие, но выжидательные. Ему не мешали, хотя указывали на гуманитарный крен и оторванность от требований практической жизни. Сергей Алексеевич отвечал, что ничто не имеет такого значения для практики, как душевные качества – социальная отзывчивость и благородство помыслов. А они воспитываются поэзией… «Если вы хотите, – говорил он, – чтобы директор завода не ловчил, не делал приписок и прочего, помогите ему в юности полюбить Гюго и Пушкина». Внутри самой школы тоже не обходилось без борьбы мнений. Были речи о том, что Самосуд слишком много отдает внимания своему классу, что он воспитывает любимчиков; математик в старших классах жаловался, что ему не хватает часов на усвоение программы. Но в общем и учительский коллектив, и комсомол поддерживали Сергея Алексеевича – в этой школе было интересно и учиться, и учить.
Выпускной вечер в школе состоялся в июне, и Самосуд, прощаясь с выпускниками, не без труда скрывал свое словно бы разочарование: вот растил, воспитывал, – и все кончилось, его создание уходило от него – ребята готовились разлететься в разные стороны. Вскоре, однако, выяснилось, что ему можно было и не прощаться, потому что он не расстался со своим классом.
Война быстро приблизилась к Спасскому – уже в первой половине июля завязались бои под Смоленском, Спасское сделалось прифронтовым селом. И в одно июльское утро к Самосуду с просьбой от выпускников пришли трое делегатов: ребята всем классом собрались в армию, на фронт.
«Удачно у нас получилось, мы как раз успели кончить школу», – сказал глава делегации Сережа Богомолов. Единственное затруднение, по его словам, заключалось в том, что и самый старший из них не получил еще призывной повестки. И делегаты попросили Сергея Алексеевича похлопотать для своего класса о призыве.
– У вас же авторитет в районе, – сказал Сережа.
– Всем классом надумали идти? – с непонятной угрюмостью переспросил Сергей Алексеевич.
– Так постановили, – сказал Сережа.
Самосуд привел ребят к себе на квартиру – жил он тут же, в школе, – усадил, достал бутылку вишневой наливки и разлил по рюмочке.
– Аники-воины, Аники-воины, – приговаривал он время от времени. – Постановили, говорите, единогласно?
– После небольшой дискуссии, – серьезно ответил Сережа.
В облике этого парня была приметная особенность – необыкновенная, прямо-таки смущающая напряженность взгляда, в остальном он ничем не выделялся: скуластое, грубовато очерченное лицо, прямые русые волосы, падающие на лоб. Но смотрел он на все и на всех с таким сосредоточенным вниманием, что долго выдерживать его взгляд было трудно.
– Голубкин говорил, что надо сперва пройти военное обучение, – продолжал Сережа. – Отчасти Голубкин был прав. Но потом согласился, что пройдем его на фронте.
– Ага, на фронте… – Сергей Алексеевич покивал, точно и он придерживался того же мнения.
Посматривая на другого члена делегации – Женю Серебрянникова, лучшего в школе поэта, сына совхозного агронома, сутуловатого, узкоплечего, белолицего с россыпью розовых прыщиков на подбородке, тщательно, на косой пробор, причесанного – Женя весьма следил за своей внешностью, – Сергей Алексеевич как бы с неудовольствием отворачивался. Вдруг он подсел к нему на диван и обнял молча за слабые плечи. Женя вздрогнул, попытался высвободиться, но, подумав, должно быть, что может обидеть Сергея Алексеевича, замер весь в напряжении. А Самосуд все не отпускал его, вспоминая старую историю с ним, о которой не забыл, конечно, и Женя.
…Случилось это довольно давно, в конце тридцать восьмого года. На школьную елку Женя – ему было тогда около пятнадцати – привел свою соседку, пятилетнюю девочку Машу. Отца Маши, директора местного совхоза, несколько месяцев назад увели под конвоем в областной город (говорили, что за вредительство). И Женя взялся шефствовать над осиротевшей девочкой – она-то, во всяком случае, ни в чем не была виновата. Праздник, который все в школе любили, начался весело, играл школьный оркестр, Маша – пузатенькая, как бочонок, разряженная, бело-розовая, с бантом в редких кудерьках – пустилась под елкой в пляс – из счастливой благодарности ко всем, кто устроил это веселье. И надо же было, чтобы на новогодней елке перед раздачей подарков – бумажных мешочков с конфетами, золочеными орехами и пряниками – произошло это несчастье.
Нашелся необъяснимый человек, новый, недавно назначенный завуч Павел Павлович – хорошо образованный, ласковый со школьниками, любезный с коллегами, он производил отличное впечатление. И, стремясь, должно быть, побыстрее «войти в коллектив», он сам напросился на обязанность распорядителя праздника… Отозвав Женю Серебрянникова в сторонку, он сделал ему внушение за то, что тот пригласил в школу «постороннюю», как он назвал Машу, девочку; он нервничал и был не похож на себя. А Машу он сам повел за руку в сени, в гардеробную.
– Но почему, почему ей нельзя? – забегая перед ним, спрашивал Женя. – Она же совсем еще маленькая!
Маша же заплакала даже – ей так хотелось получить этот бумажный, полненький мешочек, завязанный ленточкой, что она просто позабыла о слезах. И она попыталась было подольститься к Павлу Павловичу.
– Дяденька, а у вас красиво как! А я еще цыганочку умею, дяденька! – предлагала она ему свой танец в обмен на мешочек с подарками.
Влекомая за руку, она спотыкалась, вертя головой с бантом, оборачивалась назад на разноцветно горящую елку, на ребят, ходивших со своими мешочками, на все это прекрасное веселье.
– Нельзя тебе здесь, девочка! Иди, иди домой, – спеша говорил Павел Павлович, напяливая на Машу ее беличью шубку, нахлобучивая капор, – мамочка твоя соскучилась уже.
Пальцы плохо слушались его, и он долго не мог застегнуть пуговицы на шубке.
Во дворе Маша, словно бы спохватившись, разревелась, стала вырываться из рук Жени, и он, страдая за нее, дал ей шлепка.
– И не надо, не надо нам вашей елки! Дураки! – кричал он, таща упиравшуюся Машу по снежному, залитому светом из окон двору; с головы его слетела шапка, и он не заметил этого.
Только на следующий день свидетели происшествия рассказали все Самосуду. С мешочками подарков он отправился к Жене и Маше. Женю он застал в постели – мальчик простудился, лежал в жару, мать поила его чаем с малиной и встретила Самосуда сухо, если же враждебно. Это была женщина с тяжелой судьбой: все ее дети – а рожала она много – умирали в колыбели, выжил один Евгений. И она точно прикрыла его собой, не позволяя даже близко подходить к его кровати. Впрочем, Сергей Алексеевич не настаивал – он, при всей своей житейской бывалости, не знал, что могло бы утешить мальчика, разве что суд – скорый, правый и самый суровый над Павлом Павловичем. Не поддающимся объяснению казалось и то, что преступление на празднике – а какое другое слово было бы здесь более уместным, – преступление совершил этот симпатичный новый завуч.
Спустя еще день, второго января, Павел Павлович рано утром появился в его кабинете. Глядя в бок, но вполне владея собой, он сказал, что принес заявление, в котором просит об освобождении от работы «по семейным обстоятельствам». Предупреждая вопросы директора, он присовокупил, что ничего другого он заявить не имеет, а на своей просьбе решительно настаивает; вскоре он куда-то уехал из села, исчез. И Сергей Алексеевич мог только строить догадки о том, что послужило истинной причиной этого невероятного случая на новогодней елке.
Женя Серебрянников выздоровел, но еще много времени и труда потребовалось, чтобы вытравить из его души страх перед жизнью – да, так: перед жизнью, в которой возможна несправедливость. А сейчас вот он, порозовевший от рюмки наливки, сидел в комнате Сергея Алексеевича и напряженно улыбался.
Третьим членом делегации была Леля Восьмеркина – крупная девушка, с большими мужскими руками, обутая в мужские полуботинки, и нежным цветом доброго лица; Леля считалась способной математичкой и хорошо играла в шахматы. Смущаясь, она начинала немного косить; косила и сейчас, говоря, что она хочет пойти бойцом, как все, но она может и санитаркой, если ей нельзя в строй.
Сергей Алексеевич поднялся и прошел в соседнюю комнату – ему надо было побыть одному, чтобы привести в порядок свои чувства. Его волнение было сродни тому особого рода волнению, что охватывает художника, когда он может сказать себе: «Ты хорошо потрудился». Все его многолетние усилия, его слово, его забота, его пример сегодня вернулись к нему в душах этих молодых людей, став их общей силой. А его «гуманитарный крен» оправдал себя: поэзия сотворила из мягкой глины железо. Сергей Алексеевич имел сегодня полное право быть довольным. Но, любуясь своей молодежью, он испытывал уже и страх за нее – эти ребята казались ему слишком драгоценными для войны.







