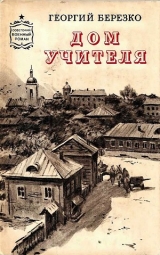
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
– Что с вами? Садитесь, – не предложил, а распорядился он.
Только что после недолгого совещания с командирами Самосуд отдал приказ готовиться к бою. На завтра, на раннее утро, он назначил выступление полка, как то было условлено с командиром ополченцев; завтра полку предстояла, быть может, первая встреча с врагом – первый бой. И мысль об этом вытеснила у Самосуда все остальные мысли… Да и присутствовавшие при допросе Павла Павловича военком Аристархов, завхоз Петр Дмитриевич, не говоря уже о конвоире Соколенке, поглощенные своими заботами, вымотанные, недобрые, едва ли были способны сейчас отнестись к этому человеку так, как тот в своем отчаянии еще надеялся: со вниманием и терпением. Все ж таки в прошлом они знали друг друга, думалось ему, свободно, как равные, встречались, а с Петром Дмитриевичем он был в приятельских отношениях. И Павла Павловича словно бы прорвало: торопясь оправдаться, ища сочувствия, он сбивчиво, перескакивая с одного на другое, заговорил…
Его речь была совершенно искренней, но в ней было все то, что уже приходилось слышать и Самосуду, и другим: окружение, потеря связи с соседями, с командованием, жестокие бомбежки, танки, танки повсюду: спереди, в тылу, на флангах! И она сейчас, здесь, вызывала протест и, странным образом, раздражение… Павел Павлович ничего не придумывал; «все, что я мог, все, что только в человеческих силах!..» – с тоской и страданием повторялось в его речи; он не докладывал, а исповедовался…
И действительно, в какой-то момент боя Павлу Павловичу привиделось, что на этом страшном поле только он один ползает еще в черном, зловонном дыму но трупам своего политрука и своего телефониста.
– Этого никто бы не выдержал!.. – прерывисто, на остатках голоса выкрикнул он. – Поверьте мне.
Судорожно дернувшись, Павел Павлович закрыл руками лицо – он был искренен и в этом жесте боли и отчаяния.
Самосуд отвел глаза, Аристархов смотрел с отчуждением, Петр Дмитриевич покачал головой, дивясь, как такое может с человеком стрястись; Ваня Соколенок взглянул со злостью… Соколенок был в горе: утром сегодня он узнал, что его жену, тоже шофера, с которой он и пожил-то всего ничего – поженились перед самой войной, – убила фугаска на дороге из Спасского в город – жена вела машину с эвакуированными женщинами, и они попали в бомбежку. Соколенку казалось теперь, что этот трус и шкурник, который так распинался, тоже повинен в смерти жены.
Павел Павлович отнял от лица руки – его спрашивающие глаза быстро всех обежали.
– Почему, – взмолился он, – почему вы не верите?.. Сергей Алексеевич, я вас всегда… я вас особенно уважал…
– Ну и что же было с вами потом? – холодно спросил Аристархов.
– А потом… меня, наверно, тоже приняли за убитого… Танки ушли, а я дождался темноты и уполз… – со всем прямодушием ответил Павел Павлович. – Всю ночь я ползал среди мертвых.
И он зажмурился при этом воспоминании. Но у людей, решившихся в душе своей на бой и, может быть, на смерть, его трепет и его жалобы не возбудили отзвука. Петр Дмитриевич все качал головой, а конвоир Соколенок переминался с ноги на ногу и то вскидывал свою берданку, то опускал – самый допрос казался ему пустой тратой времени.
– Погодите-ка, Павел Павлович! В какой дивизии, говорите, вы служили? – переспросил вдруг Самосуд. – Повторите, пожалуйста… В каком полку?
С готовностью человека, которому больше всего хочется, чтобы восторжествовала правда, Павел Павлович назвал номер дивизии – одной из московских ополченских – и номер полка.
– Одиннадцатый… был одиннадцатый, – с неизъяснимым выражением проговорил он.
– Вот как?.. – Самосуд повел взглядом на Аристархова. – Зачем же был? Почему был?
Павел Павлович свесил на грудь голову; в его взлохмаченных волосах оставались еще запутавшиеся стебельки сена, торчал высохший цветок клевера.
– Слушайте, вы!.. – сказал Аристархов. – Вы что-то поторопились проститься со своим полком.
Словно не расслышав, Павел Павлович не пошевелился. Уставившись в пол, он, казалось, внимательно рассматривал слякотные следы, нанесенные со двора. И Аристархов усилил голос:
– Ваш одиннадцатый полк держит сейчас оборону здесь, на городской окраине. Сегодня ваш одиннадцатый отразил несколько атак противника и не сделал ни шагу назад. А вы – был…
И когда Павел Павлович, боком, по-птичьи, не выпрямляя спины, поднял голову с цветком, Аристархов закончил, прямо глядя в его словно бы не понимающие глаза:
– О вас самих можно уже сказать: был… Был такой командир, опозоривший свое звание.
Аристархов-ветеран не чувствовал к этому напуганному человеку ничего, кроме презрения, он хорошо и много помнил такого, что говорило о солдатской доблести, и поэтому не находил оправданий для человеческой слабости; как оно и бывает, плохое и недостойное помнилось им хуже.
– Где ваши знаки различия? Спороли? – резко спросил он.
– Спорол, – беспомощно признался Павел Павлович. – А что… что, скажите, было делать? Ведь мне грозил плен.
– Готовились сдаться в плен?
– Но что я один был в силах?..
Павел Павлович с таким глубоким, с таким чистосердечным недоумением перевел взгляд на Самосуда, что тот не смог не увидеть этого недоумения. Его новый начальник штаба и бывший завуч разговаривали как глухие… Собственно, Павел Павлович превратился уже в существо, лишь внешне подобное человеку, так как у него отсутствовало управление собой, – это было существо, утратившее волю.
– Привели хотя бы здесь себя в порядок, – сказал Аристархов; отвращение вызывал и самый вид дезертира – сено в волосах, цветок…
– Ну, достаточно… Будем судить вас, Павел Павлович, – сухо проговорил Самосуд, было бессмысленно продолжать этот тяжелый диалог. – Обязательно будем судить, Павел Павлович! Но если в вас осталось что-нибудь… Словом, так: мы дадим вам возможность, последнюю, как вы понимаете, возможность оправдаться. Завтра мы идем в бой и дадим вам оружие… Вы сами решите свою судьбу.
Соколенок неодобрительно помотал головой: ему и суд над дезертиром представлялся ненужной формальностью, ведь приговор мог быть только один – пуля.
У выхода Павел Павлович обернулся с выражением того же непонимания на лице…
Соколенок сильно толкнул его ладонью между лопатками – хотя б таким образом сорвал на нем злость, – и Павел Павлович, споткнувшись о высокий порог, едва не растянулся.
– Не знаю, Сергей Алексеевич, – сказал Аристархов, – не думаю, что этот тип чего-нибудь еще стоит. Это уже шлак.
– А чего бы мы добились, расстреляв его? – ответил вопросом Самосуд. – Это и в самом деле было бы уже непоправимо. Ну, поглядим… поглядим.
Сергей Алексеевич не испытывал полной уверенности в том, как поведет себя Павел Павлович: он хорошо помнил злосчастное событие на давнишней школьной елке. И пожалел, что не спросил сейчас у своего бывшего завуча, что же явилось причиной его тогдашнего поступка. Но не возвращать же было его, чтобы задать этот вопрос…
До подъема оставалось уже немного, часа четыре, и надо было обязательно поспать, если только ему, Самосуду, командиру полка, идущему завтра в бой, удастся уснуть. Хотелось еще стащить намокшие сапоги и посушить портянки… Но прежде чем лечь, Сергей Алексеевич заглянул в клубный зал лесхоза, отведенный ребятам третьей роты. Теперь он даже сердился на них, как сердятся на свое постоянное, неутихающее, требовательное беспокойство. Конечно же, он чувствовал бы себя легче, свободнее, если б этих замечательных ребят не было здесь с ним. И, сердясь невольно на то, что уже завтра, а точнее, сегодня его ребята тоже пойдут в огонь, Самосуд открыл дверь…
В темном зале – этой случайной казарме третьей роты – словно бы тихо плыл ничем не тревожимый сон. Спали все, спал даже дневальный, подперевший рукой голову, и спали, как спят в юности: беззвучно, отрешенно, безгрешно; слышались лишь посапыванье, чмоканье, легкий вздох. Да огонек коптилки на столике дневального чуть колебался от его дыхания, и воздушный шарик света едва покачивался у его разрумянившегося лица с толстоватыми щечками. Но во мраке, наполнявшем зал, Сергею Алексеевичу почудилась нависшая, как туча, угроза… Вообще-то он был реалистом, не склонным к поэтическому фантазированию, и он подавил в себе вспыхнувшее желание немедленно разбудить своих ребят, чтобы увести из-под этой грозовой тучи… Притронувшись к руке дневального, он разбудил его и напомнил, что спать на дневальстве не полагается. Дневальный Саша Потапов, добрая душа, этакий толстячок, увалень, любимец всего класса, сонно улыбаясь, слушал выговор, не чувствуя за собой особенной вины. И Сергей Алексеевич, оборвав на полуслове, вышел.
А Женя Серебрянников заворочался на своем узком, твердом ложе и тоже проснулся, не досмотрев сна, часто теперь снившегося ему. Он летал во сне – свободно, без всяких усилий взмывая в чистое и теплое небо, проносился, не ощущая своей тяжести, над лесами, над извилистыми реками, над большими и малыми городами, над вершинами гор, плавно опускался, парил, и у него сладко схватывало в груди… Днем он с удовольствием думал, что ночью опять окунется, как в волны, в это беспредельное голубое пространство. И ему казалось, что так, во сне, обнаруживалось нечто скрытое в нем до времени – некая счастливая сила, могущая поднять его, Женю Серебрянникова, над землей и как бы даже над самим собой… Может быть, это было предощущением его будущего, тоже представлявшегося ему бесконечным и подобным полету. Но о своих снах Женя никому никогда не рассказывал: днем он стыдился их…
Шестнадцатая глава
Бой за дом
Все, кто могут стрелять
1
Дождь к утру перестал, но небо было закрыто облаками, и рассвет наступил с опозданием. Он словно бы милостиво помедлил, даря людям еще немного ночной тишины. Лишь с востока, уже не с запада, а из тыла, доносились глухие орудийные вздохи – там и ночью не ослабевал бой.
Первым у Дома учителя увидел немцев Истомин – это произошло на исходе его предутренних караульных часов. Только стало светлеть, когда на перекрестке, в начале улицы, обозначилось несколько расплывчатых теней. Держась ближе к заборам, почерневшим за дождливую ночь, серые тени медленно и почти бесшумно приближались. Но, даже начав различать немецкие глубокие каски, автоматы, похожие на больших черных насекомых, усевшихся на животах этих солдат, Истомин не сразу уразумел, что перед ним немцы, – таким неожиданным было их тихое возникновение. А те просто не заметили его, смотревшего на улицу сквозь щель в неплотно притворенных воротах.
Гуськом, в затылок друг другу, они прошли мимо, осторожно ступая в полузатопленной траве, прошли и исчезли за поворотом; их было четверо – автоматчиков.
И Виктор Константинович с заколотившимся сердцем побежал будить Веретенникова. А когда тот объявил тревогу и все уже были на ногах, в окнах дома задребезжали уцелевшие стекла: возобновился бой на южной окраине города, на большаке, – немцы начали там с огневого налета.
Веретенников при всей своей боевой неопытности рассудил правильно: Истомин видел немецких разведчиков. И это значило, что теперь надо было ждать атаки и здесь, на северной окраине, со стороны Красносельской дачи. Немцы вознамерились, видимо, нанести удар в тыл ополченцам, оборонявшимся на большаке, разгромить их, захватить наконец переправу… И техник-интендант 2 ранга по мгновенному побуждению взял здесь на себя командование. Он отправил одного из ночевавших в доме бойцов с донесением к командиру ополченцев, а сам со всеми, кто еще находился в доме, стал готовиться к бою.
Он не успел, да и не пытался рассчитать все «за» и «против», вероятно, слишком уж несоразмерно выглядели эти «за» и «против»; горсточка случайно оказавшихся в одном месте людей против регулярной наступающей части. Но Веретенников действовал сейчас не по расчету, а по вдохновению – он и внешне изменился. Истомину казалось, что в черненьких глазках маленького техника-интенданта, отдававшего своим звенящим тенорком приказы, горел огонек безумия. Однако и сам Виктор Константинович с какой-то заразительной готовностью этим приказам подчинялся.
– Занимаем все круговую оборону! – объявил Веретенников сбежавшимся к нему жильцам и постояльцам дома. – Задача: остановить противника, если он сунется, и держаться до прихода подкрепления.
Он лишь понаслышке знал, что это такое – круговая оборона, и совсем не знал, когда придет подкрепление, и придет ли оно вообще. Но ему было с безжалостностью понятно: если немцам удастся ударить в спину ополченцам, смять и прорваться к переправе, то всем: и там, на реке, и тут будет один конец – смерть или плен, то есть смерть с небольшой отсрочкой. Ну и, конечно, нестерпимо было бы видеть, как те богатства, которые он, Веретенников, раздобыл для своей дивизии: бочки сливочного масла, мешки сушеного картофеля, кадки с медом, – попадут в загребущие руки жадных до лакомства фрицев.
– Есть вопросы? – осведомился он.
И обвел своим безумным взглядом эту пеструю, встрепанную, полуодетую, безмолвную кучку людей, обступивших его: мужчин с помятыми со сна лицами, женщин – хозяйскую племянницу Лену с красными от слез веками (ночью убили ее тетку), сандружинницу из ополченцев, польку пани Ирену, торопливо закалывающую волосы. Пулеметчик с замотанной шеей ступил вперед, желая что-то сказать.
– У вас что? – спросил, не дожидаясь, Веретенников. – Замечу, что книги жалоб и предложений у меня в данное время нет… Ага, вопросов тоже нет… Отрадно! – заключил он.
Маленький техник-интендант ощущал себя сейчас даже увеличившимся в росте и раздавшимся в плечах – с мальчишеских лет еще, смутно, как в полусне, предчувствовал он эту свою минуту. И ее ожидание жило в нем, чем бы он ни занимался – продажей хлебобулочных изделий или другими текущими, совсем не воинственными делами. Сегодня, сейчас, эта его главная минута наступила – Веретенников был, как никогда раньше, самим собой. И словно бы ликование – гневное, хмельное – овладело его душой! А самое удивительное было то, что и людям, внимавшим Веретенникову, он представлялся сейчас единственно имеющим право приказывать им, все точно знающим, все умеющим, за все ответственным. Молодая женщина, прибежавшая вчера из Спасского, смотрела на него с упованием.
– Кормящую мать, а также граждан сверхпризывного возраста (это относилось к погорельцам) попрошу пройти в укрытие в саду. И находиться там, в погребке, впредь до отбоя. Всем, имеющим оружие, остаться при мне! – скомандовал он.
Его взгляд нашел Лену, и он, смягчившись, проговорил:
– Не смею приказывать, однако же убедительно прошу – в укрытие. Искренне сочувствую!
Лена, заплаканная, бледная, будто оробевшая, оглянулась на Федерико. Тот кивнул ей; он выглядел сердитым, но словно бы просветленным, ясным.
А дальше Веретенников, действуя также по вдохновению, разместил людей по огневым точкам, то есть по комнатам и окнам. И то, что все это действительно было близко к сумасшествию, никого уже не останавливало, потому что эта сумасшедшая неоглядность заразила каждого. Спустя четверть часа Дом учителя являл собою маленькую крепостицу, – увы, с явно недостаточным и плохо вооруженным гарнизоном.
Пулеметчиков Веретенников посадил на главном направлении, в угловой общей спальне, откуда из окон можно было держать под обстрелом и улицу, и перекресток.
– Меняйте огневую позицию: туда-сюда, по обстановке, – указал он.
– Боезапаса у нас кот наплакал! – пожаловался пулеметчик с замотанной шеей – первый номер. – Всего два диска. Озаботиться бы, товарищ лейтенант.
– Ведите прицельный огонь, – ни секунды не помедлив, ответил Веретенников.
Истомина он отправил на чердак.
– Рассчитываю на ваш снайперский глаз. Ведите круговое наблюдение. Желаю успеха, – напутствовал он.
И Виктор Константинович послушно закарабкался со своей винтовкой наверх; за ним увязался и Гриша.
– Дяденька, я вам дапомогать буду, – поднимаясь сзади по лестнице, пообещал мальчик. – На обе стороны доглядать будем.
Кулик, Федерико и Барановский засели по заднему фасаду дома, приоткрыли створки окон, примостились, кто на коленях, кто стоя сбоку; пограничники-связисты и еще двое бойцов устроились на веранде и в зальце. А для своего командного пункта Веретенников выбрал библиотеку – здесь он был примерно в центре всей позиции. Вспомнив, что ему понадобится связной, он назначил на эту должность шофера Кобякова.
Тем временем сандружинница из ополченского батальона смывала со стола в зальце вчерашнюю кровь, готовилась к приему новых раненых, а Настя поставила в кухне кипятить воду. Лена притащила охапку чистых простыней и принялась с пани Иреной рвать их на длинные полоски бинтов. Все молчали, спешили, подчинившись одной общей необходимости, не оставлявшей места ни для размышлений, ни для жалоб…
И эта торопливая работа еще не окончилась, когда наверху, на чердаке, ударил выстрел – Истомин открыл огонь…
На этот раз первым обнаружил врагов Гриша. Мальчик был совсем простужен, чихал, сопел, узкое личико его блестело испариной, но видел он своими выпуклыми, круглыми, как у птиц, глазами по-птичьи зорко. Обзору из торцового окна, у которого он топтался подле Истомина, мешали крыши построек, стоявших ближе к перекрестку, – чердак Дома учителя почти не возвышался над ними, лишь вдалеке, километров с двух, открывался кусок черного, распаханного под озимь поля и пустынной дороги, отливавшей ртутным блеском; дорога пропадала в лесу, тянувшемся стеной по горизонту. И ни Виктор Константинович, ни Гриша не углядели, откуда немцы вышли к самой окраине. Вдруг Гриша схватил своей горячей, с отросшими, царапающими ногтями рукой руку Истомина.
– Дядько, побачьте! – выдохнул он.
Внизу, в соседнем саду, меж голых ветвей, мелькали округлые, тусклые колпаки с рожками – каски… И Виктор Константинович, страшно заторопившись, сунул в окно винтовку, приложился и выпалил – точно так же, как палил вчера. Но сейчас до цели было гораздо дальше, колпаки двигались, и он ни в кого не попал. Вторая пуля, выпущенная, как и первая, впопыхах, тоже бесследно куда-то унеслась. Правда, среди немецких колпаков произошло суетливое движение, они рассыпались, и их стало как будто меньше.
– Эх! – над ухом Истомина крикнул Гриша. – За молочком пошли.
– Что?.. За каким молочком?.. – не понял Виктор Константинович.
– Пульки, кажу, за молочком пошли, – объяснил Гриша.
– Иди отсюда, – отрывисто бросил Виктор Константинович, – нечего тебе здесь…
– А вы не волнуйтеся, дядько! Аккуратно треба, – подал совет Гриша.
– Иди, тебе сказано…
Виктор Константинович не договорил: между ветками блеснуло желтое пламя, и над их головами грубо, дробно загремело – пули пробили железный козырек над окном, тесовую обшивку на торце и ушли в чердачные балки; запахло сухой подогретой пылью.
– Яны так само, як невученые, – сказал Гриша, – так само мажуть…
– Иди, иди, – не помня себя, в тоске, в спешке повторял Виктор Константинович.
Взгляд его задержался на одной из оставшихся в саду касок; она, казалось, висела на стволе дерева, фигуры солдата под нею не было видно. И Виктор Константинович, как по наитию, взял чуть ниже каски… Сквозь дымок выстрела он разглядел, как она словно бы сорвалась с дерева, а тело солдата ткнулось в кучу опавших листьев и стало перекатываться…
– А!.. Ты видел?! – закричал он. – Видел, Гриша?!
Но и оба они в ту же секунду растянулись на песке, что был насыпан между балками: по крыше опять оглушающе загремело. Виктор Константинович подождал, пока не стало тихо.
– Теперь беги, быстро! – крикнул он. – Беги, Гриша, поднимай тревогу!
Мальчик, однако, не отозвался, даже не шевельнулся, лежа ничком, спрятав лицо в песке. Он не поднялся, и когда Истомин подтолкнул его, только откачнулась набок голова. А на этой стриженой, плюшевой голове, над ухом, Истомин увидел крохотное темное отверстие, – и лишь несколько красных капелек вытекло из раны. Виктор Константинович машинально зашарил по карманам, ища платок, чтобы вытереть капельки. Не смея поверить в то, что произошло, он в страхе, бормоча бессмысленно «сейчас, сейчас», перевернул тело Гриши на спину, приложил ухо к остренькой груди. Там было совсем тихо, словно бы пусто…
И, поняв, что мальчику ничего уже не надо, Истомин стал неумело, безобразно ругаться – впервые в своей жизни. Ругаясь, он дозарядил винтовку и опять подполз на коленях к окну.
Теперь стрелял уже весь дом. Будто молотком по железу, бешено колотил внизу, под Истоминым, пулемет, хлопали вразброд винтовки и пистолеты. Виктор Константинович, прицелившись, свалил еще одну каску в саду – сад опустел, и он перебрался к другому окну, занавешенному ковром. Отведя винтовкой ковер, он даже обрадовался, точно увидел своих старых знакомых: внизу на изгибе улицы стояли утренние автоматчики, возвратившиеся из разведки; они совещались, куда им теперь повернуть. И Виктор Константинович мог бы поклясться, что одного из них он тоже уложил – наповал, головой в дождевое озерцо! Остальные мигом исчезли – это принесло ему некоторое облегчение…
А в зальце, на кушетке, сидели все вместе женщины: Лена, Настя, пани Ирена и сандружинница, которую тоже звали Настей. Пани Ирена молча, однообразно поглаживала Лену по плечу – ее сочувствие было неподдельным, но и мысль о муже не покидала ее – она прислушивалась. И когда стрельба несколько утихла, она побежала на другую половину дома. Пан Юзеф, странно неподвижный, точно одеревеневший, сидел сбоку, у раскрытого окна в комнатке Ольги Александровны с револьвером в руке и не сразу, медленно повернулся к жене.
– Я посижу немного с тобой, – сказала пани Ирена, улыбнувшись через силу.
– Не надо! – попросил он. – Иди, иди к женщинам! Я сам…
Он принял прежнее положение у окна, но затем вновь повернулся:
– Ты видишь, я ничего… я в порядке. – Он скривился, тоже пытаясь улыбаться. – Я уже стрелял…
Пани Ирена обняла его голову, поцеловала и отступила, не сводя с него глаз; лишь за дверью, не сдержавшись, она всхлипнула, прислонившись к стене.
А Лена время от времени спохватывалась и совала руку в карман своего плащика, проверяя, лежит ли там ее наган… Настя силилась держаться, сидела прямо, со стиснутыми зубами, но съеживалась и закрывала глаза, когда стрельба становилась чаще. И Настя другая, сандружинница, громко говорила:
– Ничего, сестрички, ничего, отобьемся!
Она, самая бывалая, считала себя обязанной подбадривать других.
И одиноко в своей келье у трупа сестры сидела слепая Мария Александровна…
В ту минуту убийства у нее, оглушенной выстрелом, помрачилось сознание: она заметалась, натыкаясь на стены, на горшки с цветами, споткнулась о тело сестры и опустилась подле него на пол – ее мозг отказался принять случившееся. Так ее и нашли, сидящей на полу: слепая очень тихо окликала:
– Оля! Оленька!
Она так ослабела, что ее совестились расспрашивать, едва шевелила губами. А на вопросы, которые ей все-таки задал Веретенников «для выяснения личности преступника», как он выразился, она лепетала одно и то же:
– Простите!.. Это я виновата… Я первая… Простите меня!
И, позабывая об убийце, она просила:
– Доктора скорее надо… Оленька, наверно, ушиблась. Ах, господи!.. Тут же близко госпиталь… А где Леночка?
– Я… я здесь… – невнятно отзывалась Лена. – Но как?.. Кто?..
Стоя на коленях у трупа – беспомощная, растерянная, – она, словно ожидая чего-то, вглядывалась в родное лицо с открытыми, еще не остекленевшими глазами.
А затем ее пронзило раскаяние… Лене вдруг представилось, что тетка умирала как раз в тот момент, когда она, Лена, – грешная, испорченная, себялюбивая, – тут же, совсем рядом предавалась любви. И, подумав так, она в голос, отчаянно, взахлеб разрыдалась. Этот плач о матери, а ею и была для нее тетя Оля, смешался с ее плачем о самой себе: Лене померещилось, что и все вокруг знают о ее ужасном эгоизме, знают, что она уже не такая, какой была, и все осуждают ее… В хмуром молчании, со своей полуавтоматической винтовкой на плече, взлохмаченный и босой стоял за ее спиной Федерико, будто охраняя от недобрых взглядов. Но Лене смутно хотелось даже, чтобы он не стоял сейчас так близко к ней. И страдая, и отчаиваясь, она какими-то обрывками фраз: «прости…», «я плохая, но прости…», «я виновата, но прости», – молила свою тетку-маму простить их обоих – она уже не отделяла себя от Федерико.
В изнеможении она спросила у Марии Александровны:
– Но почему, почему он выстрелил? Как он попал сюда, к тебе?
– Это я виновата… Я первая… – все повторяла слепая. – Он был голоден, и Оля дала ему поесть. А где он? Ушел? Убежал?..
И хотя сознание Марии Александровны замыкалось перед ужасом случившегося, одно она скорее чувствовала, чем ясно сознавала: Лена не знает, что здесь был ее отец, и никогда, ни при каких обстоятельствах она не должна об этом узнать.
Все другое в мыслях Марии Александровны перепуталось, реальное отступило перед нереальным. И она просто не в состоянии была постигнуть, что сестры Оли, ее заступницы в зрячем мире, больше нет, что поводырь покинул ее. Присев в изголовье кровати, на которую положили тело сестры, она упрямо прислушивалась, стараясь уловить ее дыхание… Близкая стрельба нестерпимо мешала Марии Александровне: ей чудилось, что это некие злобные существа носятся вокруг, громыхая и лязгая драконьими доспехами. Она отмахивалась от них руками, как от мух, гнала куда-нибудь подальше. И все тщилась поймать другой звук – звук жизни, который не мог же так вдруг бесследно исчезнуть: был и нет его. Мария Александровна так силилась услышать сестру, что порой и впрямь начинала, казалось, различать в этом адском железном шуме равномерный нежный шумок – ее живое дыхание. Исполняясь надеждой, она разговаривала с сестрой, не упоминая ни словом о брате, будто его и не было.
– Лучше тебе?.. Я слышу, что тебе лучше, – утешала она ее, – скоро тебя отвезут в госпиталь, тут близко… Сергей Алексеевич справлялся о тебе (Мария Александровна не лгала, ей мерещилось, что так оно и было), он скоро будет здесь… Ты слышишь меня, Оля?! Не отвечай, тебе нельзя разговаривать, лежи смирненько, а я здесь, с тобой…
Но тут хлопанье чудовищных крыльев опять сотрясало воздух. И слепая наклонялась ниже к сестре, осторожно кончиками пальцев касаясь ее волос, лба, и опять тихо звала:
– Оля! Оленька!
…Встретив огонь там, где его нельзя было ожидать, потеряв несколько человек, немцы попятились, унося своих раненых. Первое нападение удалось, против ожидания, отразить сравнительно легко, наступило затишье. Но вскорости могла последовать новая атака – это было более чем вероятно, и Веретенников послал к Истомину Кобякова с приказом оставаться на месте и продолжать наблюдение.
– А этот что же? – спросил, передав приказ, Кобяков, кивая на Гришу. – Вотдыхает? Ну и ну…
Гришу действительно можно было принять за спящего – на не остывшем личике его горел румянец, губы с болячками лихорадки ярко алели.
Виктор Константинович промолчал – это «вотдыхает» ошеломило его. А Кобяков вдруг оживился, с непостижимой интонацией какого-то дикого удовлетворения проговорил:
– Вот так-так… И пацана зацепило. – Только сейчас он разглядел крохотное отверстие над ухом Гриши.
– Надо бы отнести его вниз, похоронить, – сказал Виктор Константинович.
– У нас тоже есть потеря… – с тем же непонятным возбуждением сообщил Кобяков, – пулеметчика нашего тоже в черепок.
Как зачарованный, он не мог отвести взгляда от круглой, почерневшей ранки.
– Давайте отнесем, – поторопил Виктор Константинович. – Берите мальчика.
Он подхватил Гришу под мышки, Кобяков взял его за ноги, под тощими коленками, и они вдвоем подняли его податливое, легкое тело.
– Недолго попрыгал… А весу-то, весу, как у цыплака, – Кобяков будто обрадовался и пытливо посмотрел на Истомина, молча спрашивая: «Ну что об этом скажешь?»
– Да, легонький… – пробормотал Виктор Константинович.
– А чего полез, чего?.. Сидел бы дома на печке! – закричал Кобяков. – Я и говорю… – И он неожиданно подмигнул Истомину.
Вчера после ужина, прижав Истомина в коридоре к стенке, он пытался убедить его в том, что он передумал и что он не собирается теперь сдаваться в плен.
– Это ж я тебя жалеючи, вижу, мается хороший человек, – навалившись на Истомина, бубнил он. – А чтоб я сам – да ни в каком разе! Чтоб я сам, добровольно, – в немецкую каторгу?! Быть того не может. Что я, не русский, что ли? Я, как все!
Виктор Константинович не обманывался: его вчерашний снайперский успех заставил Кобякова по-иному взглянуть на него, трусоватого интеллигента, и Кобяков, очевидно, раскаивался в своей откровенности с ним. Так оно было или нет, а Истомин пообещал ему вчера хранить молчание – он вообще не умел отказывать, да и выглядел Кобяков потерявшимся, загнанным. И нельзя было, по твердому убеждению Виктора Константиновича, преследовать человека только потому, что тот не способен на геройство; о себе Виктор Константинович тоже знал, что и он никакой не герой – случай помог ему! Словом, вчера ему легче было поверить Кобякову, чем не поверить… Но сегодня, сейчас, за диким возбуждением Кобякова, за этим его любопытством к смерти стояло: «Неужто же нам всем умирать? И мне тоже?.. И мне тоже лежать вот так с пулей в голове?.. А я хочу жить!..»
И Виктор Константинович испытал жаркое желание ударить этого человека, схватить за воротник и трясти, трясти… Его собственный страх перед собственным исчезновением ослабел, позабылся в эти минуты боя.
«И разве Гриша не хотел, не должен был жить?!» – хотелось ему крикнуть.
Он нервно проговорил:
– И думать о том не смейте! Вы понимаете, о чем я… Вы отлично понимаете!
– А что? Я ничего такого… – сказал Кобяков.
Они стояли друг против друга, держа тело Гриши.
– Если не перестанете о том думать… Вы знаете, о чем я… Я должен буду…
Все же Виктор Константинович не смог пригрозить Кобякову, что он расскажет начальству о немецком «пропуске», который тот хранил.
– Ну, постарайтесь, возьмите себя в руки, – сказал он. – Если вас поймают, вас расстреляют.
– Это уж точно, если поймают… – подхватил Кобяков, не замечая, что он выдает себя. – Народ у нас злой, не пожалеет.
«Жить, жить! Не хочу умирать, нельзя мне умирать!» – только и было сейчас в его сознании, подавив все другое.
– Пускай за вас другие умирают, так, что ли? Пускай Гриша умирает! – закричал Виктор Константинович, точно услышав его тайный голос. – Подло это, подло!.. Вы негодяй, Кобяков!
Они топтались на месте, не выпуская тела Гриши, и оно раскачивалось на весу: болтались, как плети, руки, болтались ноги в больших, как колокола, сапогах.
Кобяков заморгал – он не ждал такой вспышки от Истомина.
– Теперь ты обо мне всякие слова можешь, – другим тоном, с жалобной злостью проговорил он. – Твой верх… Теперь ты и к командиру можешь… Он тебе награду выдаст.







