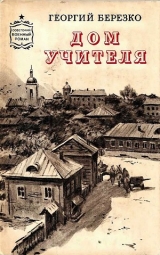
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
Вторая глава
Европейское воспитание
Интербригадовцы
1
После того как их повстанческий отряд был разгромлен и его остатки рассеялись в полесских лесах, Войцех Осенка повел своих товарищей на восток, туда, где шел бой – бой, протянувшийся на две с половиной тысячи километров.
Их было пятеро: сам Войцех, долголетний тюремный житель, сын почтальона в Перемышле, коммунист-подпольщик, лишь не так давно, с приходом советских войск, вышедший на свободу; музыкант Юзеф Барановский, беглец из Варшавы, из еврейского гетто, и его жена, пани Ирена, устроившая этот побег; Ян Ясенский – литейщик из Силезии, участник гражданской войны в Испании, «анархист-индивидуалист», как он себя называл, и его постоянный спутник итальянец Федерико, юноша из Ассизи, в пятнадцать лет защищавший республику под Мадридом, а в семнадцать – политический изгнанник, скитавшийся по Европе со своим таким же бесприютным опекуном – Ясенским. Случай свел в одном из немногих тогда партизанских отрядов этих разных людей, и теперь общее несчастье поражения заставляло их цепко держаться друг за друга. Когда они пятеро были вместе, даже Федерико казалось, что платановые рощи и голубые холмы его Перуджии уже не так недостижимо далеки.
Направление на восток, к советско-германскому фронту, Осенка выбрал не только потому, что в полуокружении, в котором погиб их отряд, это направление осталось незакрытым немцами. Было не поздно еще попытаться вернуться на юг, в родные места, и там, затерявшись в предгорьях Карпат, а то и южнее, в каком-нибудь горном, лесистом ущелье, дожидаться лучших времен. Но этот вариант мало чем отличался бы от дезертирства. А Войцех после первых же выстрелов, прогремевших в июньскую ночь над Саном – пограничной рекой, сказал себе, что это начался тот самый последний и решительный бой, о котором пелось в лучшей из песен и к которому он, польский коммунист, давно готовился.
Утреннюю зарю над Саном Осенка встретил, лежа на приречном, прохладном песке, в цепи с советскими пограничниками и стреляя по серым фигуркам, мелькавшим в пролетах железнодорожного моста. Винтовку ему дал и научил обращаться с ней русский сержант. «Задержи дыхание, задержи, закрой левый глаз, а правым – через прорезь – на мушку… Бей сволочей!» – звенел над его ухом гулкий голос. И Осенка задерживал дыхание даже дольше, чем требовалось, жмурил глаз и целился, целился с отрешенной старательностью – он не просто дрался, он наконец-то с оружием в руках словно бы участвовал в пролетарской революции. И волновался он так, как волновался, может быть, еще в детстве, мальчиком, когда мать привела его в старый костел в Кракове и он в этом полутемном, пустоватом, освещенном редкими свечами храме стоял на коленях, объятый страхом и восторгом, предавая всего себя в руки бога, смотревшего со своей огромной высоты, сквозь радужное сияние витража…
В это июньское утро храм необыкновенно расширился – дальше видимых пределов, – в нем текла полноводная река в зеленых берегах, кудрявились рощи, над рекой висел прямой, весь из стальных перекрестий сквозной мост, и в отдалении в сизоватом тумане укрывался большой город – оглушенный, притихший… А непомерным куполом храма стало само небо, наполненное голубым светом занимавшегося дня. Это все было только недавно обретено Войцехом Осенкой, и это вновь хотели у него отнять… Столбы черного дыма от разрывов покачивались, медленно расплываясь в стороне железнодорожной станции, высоко носились и кричали испуганные птицы. И Войцех словно бы творил молитву, стискивал потеплевшую винтовку, посылая пулю за пулей.
Немцы начали здесь войну ровно в четыре часа утра, открыв артиллерийский огонь по всей линии пограничных застав и дорогам, идущим в тыл. Позднее Осенке стало известно, что выше по реке в наступление рванулось до двухсот немецких танков… Сейчас оттуда по тронутой рябью воде катился тяжелый гул – пограничники отбивались от танков гранатами. Здесь, в районе моста, атаковала немецкая пехота, и пехоту также встретили пограничники. А неожиданным подкреплением к ним – пусть и необученным, и почти невооруженным – прибежали из города добровольцы – перемышленский партактив. Его в цепь к себе взял командовавший у моста лейтенант, начальник заставы…
Осенка слышал, как бойцы между собой называли командира «Нечай». Это был совсем еще молодой человек, со светлым пушком на подбородке – не успел, должно быть, сегодня побриться. И Войцех запомнил Нечая – запомнил не таким, каким тот показался ему, когда разговаривал с ними, добровольцами, досадливо-озабоченным, машинально щипавшим свою нежную растительность на лице, а каким Войцех увидел его спустя какое-то время, – за несколько минут до того, как самого его ранило.
К этому моменту защитников моста осталось уже немного: был убит и товарищ Осенки, заведующий редакцией газеты, где они вместе работали… А немцы все рвались вперед, им не было, казалось, конца… Словно из ничего, из пустоты возникали на мосту в глубине ажурного туннеля их согнутые фигуры, и в руках у них желто посверкивали автоматные очереди. Осенка вслед за своим боевым наставником, сержантом, переполз с отмели на насыпь, ближе к лейтенанту Нечаю – там стрельба перешла в сплошное огненное клокотание. И там на мелком, в масляных пятнах гравии вытянулся ничком с пробитой головой сержант-пограничник.
«Да когда же они кончатся!» – с тоской подумал Осенка о немцах…
Бой шел, казалось ему, уже слишком долго, и Войцех почувствовал, что он устал – устал от нечеловеческого усилия, что потребовалось в этом первом, бесконечном бою… День уже полностью вступил в свои права, и июньское солнце начало припекать, слепяще блестели отполированные рельсовые полосы, нестерпимо, до стона хотелось пить, уши закладывало, а в нос шибала пороховая гарь… На какие-то мгновения Войцех терял ясное сознание того, что совершалось, мгла застилала мозг, он силился вспомнить, где он, что с ним. И с опозданием заметил, что его сержант сделался неподвижным, что зеленая фуражка сержанта свалилась со стриженой головы и легла верхом вниз, открыв пропотевшую подкладку. Войцех тронул сержанта за плечо, потряс, огляделся, чтобы позвать на помощь… И он увидел немцев – в каких-нибудь двух десятках шагов! – они кучкой приближались, перепрыгивая через шпалы, толкаясь и вопя. В тот же миг он встретился взглядом с лейтенантом, который лежал впереди, а теперь приподнялся и обернулся назад; руки его что-то делали с гранатами – Осенка не сразу понял.
И это лицо Нечая, очень внимательное, пронзительно внимательное и очень бледное, с темнее обозначившейся на подбородке растительностью, – это меловое лицо врезалось в память Войцеха, должно быть, навсегда. Лейтенант что-то крикнул, скомандовал, Войцех не расслышал… а затем немецкие солдаты добежали до лейтенанта, закрыли его собой от Войцеха. И их тут же с непонятной силой разбросало в стороны, дым окутал дергавшиеся, падавшие тела, посыпалось множество мелких камешков, зазвеневших на рельсах.
Уцелевший из всей кучки немецкий солдат улепетывал, пригнувшись. Осенка выстрелил в него, но, позабыв о наставлении сержанта, не придержал дыхание, не попал, и немцу удалось уйти.
Осенка вставил новую обойму и приготовился ждать новых немцев. Теперь он готов был ждать, не сходя с места, хотя бы до ночи, хотя бы до нового дня, пока хватит сил держать винтовку…
Внизу, вдоль береговой кромки и в воде, стали рваться снаряды – немцы не прекращали попыток выйти на этот берег. Осколок угодил Войцеху сзади, пониже лопатки, и он ткнулся лицом в черную шпалу, остро пахнувшую креозотом…
Бои за Перемышль шли еще целых пять суток – это были первые бои войны, в которых гитлеровцы испытали крепкий контрудар. На следующий день, 23 июня, они были выбиты из города сводными батальонами пограничников и частями подошедшей стрелковой дивизии… Но когда, отлежавшись в домике матери, Осенка встал на ноги, город находился уже в тылу наступавших немецких частей. И, не долечившись окончательно, Осенка ночью ушел из города, надеясь догнать русских пограничников. Он знал – и теперь тверже, чем когда-либо, что остановить фашизм может только одна армия в мире – та, что и перед ним, Войцехом, раскрыла тюремные ворота. Но линия фронта слишком быстро удалялась к востоку, и догонять ее Осенке пришлось уже в партизанском отряде. Там среди многих других людей он повстречал и эти две пары: Ясенского с Федерико и довольно неожиданную в их лесной жизни чету Барановских.

Их немногочисленному, пестрому по составу отряду сразу же не посчастливилось. Еще не успевший должным образом организоваться и вооружиться, еще, в сущности, не начавший воевать, он был обнаружен и окружен эсэсовской частью. После ночного боя в то проклятое утро на болотистом берегу речушки, когда воцарившаяся тишина – даже птиц не стало слышно! – дала Осенке знать, что отряда больше не существовало, у него окрепла мысль: идти на восток, только на восток, к Советской Армии – если они не хотят без пользы погибнуть.
Все же, несмотря на бесспорность, как ему казалось, такого решения, его случайные спутники не сразу согласились с ним. Людей пугал и длинный путь по захваченной немцами территории, и отчаянный риск самого перехода линии сражающихся армий. Пани Ирена говорила, что ее муж слаб здоровьем и не осилит такое большое расстояние. А у анархиста Яна Ясенского нашлись свои возражения…
Этот угрюмый, под пятьдесят лет, но физически еще не сломленный человек, храбрый и умелый солдат был одержим, на взгляд Осенки, болезненной враждебностью ко всякой организации и ко всякому командованию. Солдат рассеявшейся армии, потерпевшей в Испании жестокое поражение, Ясенский, не веря больше своим анархистским вождям, не доверял уже никому. Его старые товарищи полегли на камнях Кастилии, кто-то был застрелен при переходе французской границы, кто-то – и это было самое тяжелое – перебежал к врагам. Свою независимость Ясенский оберегал теперь как последнее прибежище своего разочарования. И в спорах с Осенкой он упрямо повторял, что ему никогда не поладить с порядками, которые ожидают их по ту сторону фронта, – с советской коммунистической дисциплиной. Он был по крайней мере искренен, и после всех утрат, а точнее – вследствие их, предпочитал свою одинокую охоту.
Они дискутировали на каждом более или менее спокойном привале – где-нибудь на потаенном островке посреди припятских топей, либо у дымного костерка в черно-зеленых комариных дебрях белорусских лесов. Ясенский разувался, устраивал повыше на пеньке отекавшие ноги и цитировал Бакунина – многие куски из «Государственности и анархии» он знал наизусть. Обросший черной с проседью бородой, широколицый, высоколобый, он и сам напоминал внешностью Бакунина, но Бакунина притомившегося, угрюмого. А когда цитаты иссякали, он говорил:
– Разве имеет значение, Войцех, где тебя свалит пуля, если ты умрешь за дело свободы?
На что Войцех, стараясь не смотреть на пухлые ноги Ясенского, отвечал:
– Для меня не имеет, но для дела это не безразлично. Нам дано умереть только один раз, и поэтому надо умереть там, где это лучше послужит свободе.
Подле Ясенского сидел Федерико, чистил оружие, подбрасывал в костерик еловые ветки и насвистывал песенку из фильма «Под крышами Парижа». Итальянец не ввязывался в спор, он плохо понимал польскую речь, и вообще с языком дело обстояло у него неважно. Родной, итальянский, он стал уже позабывать, и лишь несколько десятков испанских фраз да куча испанских ругательств остались у него в памяти после Испании; лучше он знал французский – еще подростком в поисках работы он попал во Францию и несколько лет бродяжил там. Он затруднился бы ответить и на вопрос, какую страну он считает своей родиной. И если у него спрашивали о родителях (отца он совсем не помнил, мать похоронили на муниципальный счет, когда ему едва исполнилось десять), он либо отмалчивался, либо, если спрашивавший был ему несимпатичен, ошарашивал чем-нибудь, вроде:
– А ты сам хорошо знаешь, кто был твоим отцом? Тебе твоя мать признавалась?
От гнева он бледнел под загаром и его кожа принимала лимонный оттенок; он откидывал назад свою лохматую, маленькую, как у женщины, голову, ожидая еще вопросов, а его атлетически-широкие плечи чуть шевелились под рубашкой, словно оживали сами по себе.
Прочная, давняя привязанность соединяла Ясенского и Федерико: они познакомились в госпитале и, поправившись, ушли вместе в одну часть, в Интербригаду имени Домбровского – Ясенский воспользовался возможностью не возвращаться к анархистам. Поляк потом дважды спас итальянца: вынес его, контуженного, из-под обстрела, а в другой раз выстрелил во франкистского гвардейца раньше, чем тот выстрелил в Федерико. Больше они уже не расставались… Но, как ни странно, итальянец в вопросе о маршруте их партизанской группки держал сторону Осенки. Он объяснил это тем, что еще в дни Мадрида, когда над городом появились советские «моска», ему захотелось побывать в России, просто захотелось посмотреть, как там и что – подробнее он не высказывался.
Впрочем, когда однажды в добрую минуту Осенка поинтересовался у Федерико, кто же все-таки были его отец и мать, итальянец серьезно, даже с важностью ответил по-французски:
– Mon pére Lénine[6]6
Мой отец Ленин (фр.).
[Закрыть].
Ясенский, слышавший его ответ, ухмыльнулся. Он лучше знал своего младшего друга… Временами Федерико называл себя, как и он, анархистом, а прочитав как-то книжечку о карбонариях, заявил, что он карбонарий двадцатого века. Федерико был совсем неважно образован – да и где ему было образовываться?! – но стрелял он отлично.
Неизвестно, чем закончился бы спор Ясенского с Осенкой, если бы они не повстречались с одним из отрядов СВБ – Союза вооруженной борьбы. В штабе этого подчинявшегося эмигрантскому правительству отряда их посвятили в тактику, предписанную полякам из Лондона: «Сохранять вооруженный нейтралитет», или, как выразился офицер, в землянку к которому их привели, – закутанный в овчинный тулуп, весь малиновый от жара майор: «Тшымаць стршельбу «у ноги»[7]7
Держать ружье «к ноге» (польск.).
[Закрыть]. Майор не скрыл, что СВБ намеревался выступить не раньше, чем обе стороны – немецкая и русская – обессилеют в войне. И Ясенский в свой черед не скрыл, что такая тактика вызывает у него отвращение: «Mierde!» – выругался он по-испански. Осенка сохранял внешнее спокойствие – он вообще умел держать себя в руках – и, сказав, что они обязаны вернуться к своим «главным силам», попросил – на неблизкую дорогу – продовольствия. Майор не стал их удерживать, его любезность простерлась до того, что сверх галет и консервов он предложил еще коробочку с пилюльками акрихина: «Гиблэ мейсце, панове, – малария»[8]8
Гиблое место, господа, – малярия (польск.).
[Закрыть], – выговорил он вздрагивающим голосом, трясясь от озноба.
Он очень охотно расстался с этими нежданными гостями: польским коммунистом и двумя интербригадовцами, – и те двинулись дальше на восток. Не почувствовав доверия к малярийному майору, пани Ирена и пан Юзеф также не пожелали остаться в лагере СВБ.
Еще месяц без малого добиралась их пятерка к фронту, все удалявшемуся от них; шли ночами, короткими, теплыми ночами этого сухого лета, с опаской выползая по вечерам на проселки, а с рассветом забираясь куда-нибудь подальше от дорог. Они отощали и оборвались; Федерико напялил на себя трофейный офицерский мундир, трещавший по всем швам на его крупной фигуре; пани Ирена, когда только было возможно, шла босиком, сберегая в сумке свои туфельки. В сущности, их многодневный поход по оккупированной и к тому же незнакомой территории – большая часть их пути пролегала по белорусской земле – без связи, без явок, без языка – по-русски кое-как изъяснялся один Осенка, – с картой, выдранной из школьного атласа, был почти сумасшедшим предприятием. И кто знает, хватило бы у них силы и решимости на этот поход, если б не тот же Осенка – их командир, по общему молчаливому согласию, и главный разведчик. В минуты опасности он становился несколько медлительным, как бы раздумчивым, но учтивость не покидала его: отдавая команду приготовиться к бою, он добавлял: «пшепрашам». И никакие угрозы и препятствия не могли заставить его изменить принятому курсу на восток. Когда Осенка говорил о Советском Союзе – своим ровным голосом, глядя не на собеседника, а чуть повыше, словно проникая взглядом во что-то, видимое ему одному, – его молодое, поросшее русой щетинкой лицо становилось молитвенно-сосредоточенным. Он шел на восток, к фронту, все еще как бы догоняя солдат в фуражках цвета травы, которые на берегу Сана научили его стрелять. И как это бывает, он увлекал за собой тех, кто стремился не так отчетливо, как он, видел не так ясно, хотел не так сильно…
По дороге, в тылу у немцев, их группке несколько раз пришлось применить оружие… На железнодорожном переезде недалеко от Могилева Ясенский и Федерико сняли без выстрела, пустив в ход ножи, часового и там же, в районе Могилева, они вместе с Войцехом уложили еще двух гитлеровцев, вступив в бой с дорожным патрулем. В следующую ночь особенно отличился Федерико, расстрелявший из засады на пустынном шоссе офицерский опель со всеми его пассажирами: обер-лейтенантом, унтером – шофером и с черным шотландским догом; дог был только покалечен, тонко, по-щенячьи визжал, и Федерико пристрелил его. Спасало и то, что они нигде не задерживались, иногда кружили, по постоянно меняли места. Помогали им и полезные «призы»: в багажнике опеля они нашли консервированные сосиски в банках, сардины, целую головку сыра и разную другую снедь, что очень поддержало их, так как консервов малярийного майора хватило ненадолго.
С продовольствием вообще было трудно; случались дни, когда, кроме ягод и грибов, пани Ирена, заведовавшая хозяйством, ничем не могла их покормить. Грибы, кстати сказать, в это лето с жутковатым изобилием перли из земли: небывало крупные, белоногие подосиновики с оранжевыми колпачками, похожие на теплящиеся свечи, и огромные, пузатые боровики в круглых словно бы фетровых шляпах. Но случались у их пятерки и настоящие пиры. Как-то в дремучей, хвойной глуши, в овражке, Ясенский набрел на привязанного к сосне живого теленка, – вероятно, его спрятали там от очередной реквизиции. И потом, в течение ряда дней, пани Ирена угощала своих «жолнежей» мясом, пахнувшим можжевеловым дымком; в качестве гарнира она подавала бруснику, поджаренные орешки, дикую малину.
Эта двадцати летняя мастерица из модной шляпной мастерской на Маршалковской улице обладала способностью устраивать человеческий быт в нечеловеческих условиях. Ей даже удалось сохранить свой единственный наряд – клетчатый жакетик и такую же юбку – в более или менее пристойном виде; каждое утро она тщательно причесывалась, примостив на коленях зеркальце, и при каждом удобном случае принималась стирать свое и мужнино белье, уединяясь в приречных кустах. Подолгу на дневках она одиноко плескалась в воде и загорала на бережку, рассыпав по покатым плечам рыжеватые волосы…
Ее присутствие в их группе было обременительным, пожалуй, для одного только Федерико. Юноша то старался ее не замечать, но проявлял к ней чрезмерное внимание: однажды она уличила его в том, что, забравшись в камыши, он подглядывал, как она купалась. Она никому, однако, ни словом не обмолвилась об этом – не стоило поднимать шум из-за такого, в сущности, ребячества, тем более что она могла не стыдиться своего тела, она себя знала. А настроение доверия и дружбы в их группке было одинаково необходимо всем, и это настроение следовало беречь.
Нельзя было сказать, что участь «лесных братьев» пришлась пани Ирене по душе, но в их партизанском походе обнаружились главные ее качества: деловитость и здравый смысл. А постоянная забота о муже, страх за него сделали ее бесстрашной – они-то и привели ее в отряд! Пан Юзеф действительно был болен – болен памятью о гетто; иногда по суткам замыкался в молчании, иногда принимался рассказывать, как гестаповцы заставляли его играть на своих вечеринках – рассказы кончались истерическими припадками. А ко всему еще он не вылезал из простуды: кашлял, хрипел, на шее у него выскочили нарывы. И пани Ирена поила мужа хвойным витаминным настоем, благо хвои вокруг было в изобилии.
Поначалу Осенку особенно беспокоило, как им удастся, говоря военным языком, форсировать водные преграды. Но именно это оказалось легче, чем он думал: небольшие реки обмелели к середине лета и можно было везде отыскать брод. А на Березине им опять сопутствовала невероятная удача или, может быть, нечто более надежное, чем удача: отношение к ним людей. В туманную ночь их перевез в лодке на правый берег лесной обходчик-белорус, которому они доверились.
И вообще жители этой стороны – бескрайнего зеленого царства, соломенных деревень, белесых вечерних туманов – молчаливые, светлоглазые люди: тихие женщины, оставшиеся без мужиков, опрятные, белоголовые старики – были по-своему сдержанно участливы к беглецам. И не очень любопытствовали, когда Осенка в поздних сумерках осторожно стучался в окошко хаты – той, что победнее, – чтобы расспросить о дороге. Казалось, люди здесь знали уже о нем – прохожем человеке, озирающемся по сторонам, все самое главное, то есть то, что он – в беде, как и они, как все сейчас. Впустив его в сени, хозяйка шептала, что через пять, или шесть, или девять дворов живет полицай, что в соседнем селе стоят германцы, и выносила торопливо когда ржаную лепешку, когда связку луковиц, а когда и шматок сала… По пути чернели остывшие пепелища, тянуло от головешек холодной окурочной вонью, в потоптанной пшенице валялись смердящие трупы, а ночью по горизонту бродили вишнево-дымные зарева. И неистребимым в этой ночи ужаса было лишь чувство человеческой общности.
За Днепром группку Осенки спасла от верной гибели девчонка лет девяти-десяти. Они ничего не знали о ней до часа, едва не ставшего для них последним, да и она знала о них только то, что ранним утром, еще по росе, эти четверо обросших, оборванных мужиков с автоматами, с тощими мешками на спинах и женщина в клетчатом костюме с большой сумкой прошли огородами и скрылись за колхозным амбаром. Потом девчонка снова увидела всех пятерых на тропке, что вилась от амбара к ближнему березовому леску. И бог весть по какой догадке, а может, по инстинкту общей для всех опасности, она бегом кинулась сказать, что в березнячке еще с вечера укрылись немецкие танки. Женщина поцеловала ее, сняла с себя, чтобы отдать ей, брошку с голубым камешком. Но перепуганная девчонка тут же помчалась обратно, мелькая охолодевшими в росе маленькими красными пятками.
В середине сентября, ближе к двадцатому числу, Осенка и его спутники услышали фронт – за горизонтом что-то будто обваливалось… Через десяток километров им стало чудиться, что это сотрясается земля, а когда ветер подул оттуда, он принес отчетливое, твердое постукивание пулеметов. В следующую ночь на востоке разгорелось, должно быть, большое сражение: выстрелы сливались в железный рев. И Осенка почувствовал себя, как на краю пропасти: стоило, казалось, сделать еще один шаг – и он с товарищами бесследно пропадет в этом реве, называвшемся фронтом.
Наказав своим подопечным дожидаться, Осенка один отправился в разведку. И словно бы кто-то ему ворожил: нос к носу в лесистой низинке он столкнулся с русскими разведчиками, возвращавшимися из немецкого тыла. Не разобравшись сразу, эти ребята крепко его помяли, скрутили руки и обезоружили, – правда, их было трое. Но, услышав выкрикнутое по-русски: «Брыкаешься, гад!» – Осенка возликовал… Возможно, русские товарищи только сделали вид, что поверили его рассказу, но, развязав ему руки, они даже попросили не обижаться; затем, посовещавшись, согласились всю его группку провести через ту же «калитку», которой пользовались сами. И Осенка невольно подумал, что в противоположность законам перспективы трудности как бы уменьшаются в размерах, когда к ним подходишь вплотную; издали они выглядят более грозными.
Оружия ему, однако, разведчики не вернули – ну что ж, это была понятная, хотя и напрасная в данном случае предосторожность. И он сам уговаривал Федерико не противиться, когда разведчики потребовали сдать им все оружие. Федерико ничего не хотел слышать: прижав локтем свой новенький пистолет-пулемет, снятый с трупа обер-лейтенанта, держа палец на спусковом крючке, он только злобно по-испански ругался…
Больше всего, надо сказать, Федерико дорожил своим оружием, он был влюблен в эти умные, дьявольски хитро слаженные механизмы, в эту вороненую или светлую, как небо, сталь – единственное, на что он мог вполне положиться. Он и владел оружием виртуозно, во всех видах огня: в прицельном, в автоматическом, – и он не просто соблюдал правила ухода за оружием, но словно бы общался с ним, как с чем-то одухотворенным, преданно его оберегая от влаги, от пыли, от нагара, лаская и подкармливая, когда смазывал и чистил. К концу похода у Федерико кроме снятого с убитого обера бельгийского автомата (свой другой, добытый в Полесье, он отдал Осенке) имелись еще парабеллум и браунинг; его мешок был набит патронами, на поясе болтались немецкие гранаты, похожие на детские трещотки. Никогда не жалуясь и ни у кого не прося помощи, он один таскал на себе весь этот арсенал; впрочем, и мышцы у него тоже были, как высокого качества механизмы… Услышав, что кто-то посягает на его с боями взятое сокровище, он впал в ярость. Озираясь, готовый не то стрелять, не то бежать, он отчаянно богохульствовал, и, как у зверька, плоским синеватым огнем вспыхивали в сумраке лесного вечера его глаза. Дело оборачивалось совсем скверно: в нескольких шагах стояли русские солдаты, едва различимые под деревьями в своих темно-зеленых плащ-палатках, также держа наготове автоматы. И Осенка, не на шутку встревоженный, прибег к содействию Ясенского; тот расстался уже, хотя и с большой неохотой, со своим оружием и, конечно, сочувствовал итальянцу. Но стрельбы нельзя было допустить.
Встав между Осенкой и Федерико, Ясенский что-то по-французски сказал итальянцу. И тот сразу же замолк, утих. Еще немного он словно бы размышлял над сказанным ему и наконец повернул автомат дулом вниз.
– Ну ладно, – сказал он и бережно опустил на траву автомат, рядом положил запасные патронные рожки, два пистолета, снял с ремня гранаты – все при общем молчании. И отошел в сторону, не желая видеть, как его оружие перейдет в другие руки.
– Что ты ему такое сказал? – полюбопытствовал Осенка у Ясенского.
– Добрый он хлопец! – ответил Ясенский. – Я сказал: твой отец Ленин. Не хочешь же ты войти в дом отца с автоматом в руке?
Под утро все были уже в расположении советских войск. Самого перехода через фронт они, собственно, даже не заметили: довольно долго они шли по подсохшему болоту, в мертвой, жестяно шуршавшей осоке, прыгали по мшистым кочкам, потом опять вступили в лес, продрались через осинник. Невдалеке холодно полыхали разноцветные ракеты, небо озарялось и гасло, и лес был наполнен шевелением теней; деревья будто двигались, меняя этой ночью свои места. Ухали в стороне пушки, и с шелковым шелестом проносилась над головами чья-то смерть…
Путь прокладывали шедшие впереди два разведчика, за ними гуськом, след в след, тянулись Осенка с товарищами, замыкал цепочку третий русский – командир. Никаких особых приключений на этом завершающем этапе не случилось, если не считать, что Юзеф Барановский – он брел уже из последних сил – часто спотыкался и раза два падал. Пани Ирена последние километры вела его за руку, а Осенка взвалил себе на свободное плечо его мешок.
В общей сложности – с остановками, с разведкой по пути – они шли часа три. Вдруг Осенку оглушил трескучий птичий крик, раздавшийся сзади над самым ухом. Он инстинктивно пригнулся, но затем обрадовался. Вообще ему с каждым шагом становилось теперь все веселее – они приближались к цели.
«Дрозд! – узнал он этот птичий крик. – Вот смельчак, не боится пушек!» Обернувшись, чтобы поделиться своим весельем, он в разгорающемся свете ракеты увидел луноподобное, бледно-зеленое лицо разведчика; тот выпятил нижнюю губу – и громкое пение дрозда снова огласило лес. В ответ очень близко протрещал голос другого дрозда, и зеленолицый разведчик проговорил:
– Дотопали…
– Уже? – не поверил Осенка.
– Порядок, – сказал разведчик и шумно вздохнул.
Но тут, когда их неправдоподобно-удачливый поход был окончен, судьба, такая милостивая к ним, словно бы опомнилась и пожалела о своей доброте. Ее случайный выбор пал на Ясенского. Недалеко рванул шальной снаряд, и в наступившей после удара тишине – лишь постукивала осыпавшаяся земля – все услышали, как Ясенский ругнулся:
– Дьябел!
Он упал, попытался подняться, но вскрикнул, опять упал и опять выругался:
– Дьябел!
Осколок перебил ему ногу выше колена.
До штаба батальона Ясенского несли на плащ-палатке, а оттуда отвезли в медсанбат на операцию. Сам он был больше рассержен этим невезением в последний момент, чем испуган.
В тот же день Осенка, Барановские и Федерико были на машине доставлены в штаб дивизии. Их принял сперва начальник штаба, советский полковник, и Осенка, медлительный, как всегда в минуты волнения, стащил с ноги порыжелый, обмотанный проволокой ботинок, отодрал стельку и достал завернутый в клеенку свой документ – удостоверение в том что предъявитель сего является Sekretarzem[9]9
Секретарем (польск.).
[Закрыть] воеводской газеты «Młodość»[10]10
«Молодость» (польск.).
[Закрыть]. Бумажка, несмотря на клеенку, сильно пострадала, некоторые слова и дата выдачи удостоверения стерлись, но и штамп, и номер, и печать, и подпись редактора сохранились. Полковник прочитал бумажку, спросил, нет ли еще других документов, и неопределенно помолчал, когда выяснилось, что эта бумажка единственная на всех пятерых. После визита к начштаба они побывали у самого командира дивизии, затем у начальника разведки, в Особом отделе и в политотделе; их сводили в столовую и в баню, поместили в отдельной избе, дали чистое белье, сапоги… Вечером к ним зашел инструктор из подива, принес газеты, свежую сводку Совинформбюро. Впервые за много недель они спали в постелях, положив головы на подушки, и в такой возбуждающей безопасности, что долго не могли уснуть. Но оружия им не вернули… А на просьбу Осенки определить его и Федерико поскорее в боевую часть ему сказали: отдохните, не торопитесь. И это было, по его состоянию, подобно тому, как если бы измученным паломникам, добравшимся наконец-то до святых мест, сказали у самых врат храма господня: вам нельзя, подождите, очиститесь… Но, в сущности, у него опять-таки не было оснований для обиды: бдительность на войне, да еще на такой войне, да еще по отношению к людям, явившимся из вражеского тыла, с единственным на всех удостоверением, была естественна – он так и говорил скрепя сердце своим товарищам. Вскоре его, а с ним Федерико, пани Ирену и пана Юзефа отправили в штаб армии.







