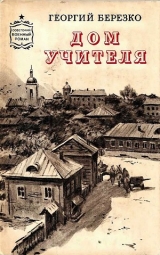
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Вздор вы говорите! – закричал Виктор Константинович. – Зачем вы?.. Вздор, вздор!
– Ты теперь как хочешь можешь меня собачить. Валяй, не стесняйся, – сказал Кобяков.
И Виктор Константинович задохнулся от негодования.
– Вы сволочь, Кобяков! – запинаясь, вытолкнул он из глотки.
– На том и до свидания. – Кобяков как бы закрылся, ушел в себя. – Давай мне Гришку, я один снесу.
А Виктор Константинович уже устыдился своей, как ему показалось, жестокости.
– Вы вот что… вы держитесь… – досадливо проговорил он. – Не обижайтесь на меня. Я вас даже понимаю – на войне всем страшно. Но если не поддаваться, то можно… можно пересилить себя. И не обижайтесь, пожалуйста…
Он отдал Кобякову тело Гриши, и тот посадил его на левую руку, как носят детей. Поддерживая его правой рукой, Кобяков легко понес Гришу вниз… А Истомин, злясь и на этого несчастного труса, и на себя, пошел в обход от окна к окну, ведя, как приказал Веретенников, круговое наблюдение.
На улице и в ближних садах опять было тихо и пустынно. Тише стало и на южной стороне, откуда доносились лишь одиночные разрывы, – может быть, немцы и там, на большаке у переправы, перестраивались для новой атаки…
И тут Виктор Константинович услышал что-то совершенно невероятное – музыку!.. Она родилась внизу в доме и доходила сюда утишенной, но еще достаточно звучной для того, чтобы ее узнать, – снова кто-то играл Шопена… Кто же, как не польский пианист, беглец из Варшавы, однажды уже доставивший Истомину своей игрой такое удивительное переживание? И Виктор Константинович стал ступать осторожнее, боясь заглушить хотя бы ноту… Он слышал сейчас всего только мазурку, одну из тех шопеновских мазурок, в которых и печаль изящна и нежна. Эта музыка могла бы показаться бездушной здесь, на войне, где каждое мгновение и умирали, и убивали. Но, как чудо, именно эта музыка и проникла сейчас глубоко в душу Виктора Константиновича, не оплакивая его, но лаская. Она ничего ему не обещала – ни защиты, ни спасения, но ее прелесть поразила его, как поразило бы здесь, в этих осенних садах, где только что летали пули, расцветшее вдруг молодое деревце.
…Внизу, в зальце, позади игравшего на пианино Барановского стояла в крайней сосредоточенности, в позе молящейся, сложив на груди у шеи ладонь к ладони руки, пани Ирена. Раненый пограничник, которому только что перевязали пробитое плечо, облившийся потом от страдания, слушал с изумлением и то подергивался, как от укусов, то расслабленно кивал, как бы соглашаясь с музыкой… Вошел Веретенников, быстрый и решительный, он вернулся из сада, куда ходил проведать погорельцев и женщину с ребенком, спасавшихся там в погребе, – и задержался у порога. Вообще-то он был глуховат к музыке, вернее, безразличен, но и он одобрительно покивал: люди в его гарнизоне пребывали в неплохом настроении, если в перерыве между стрельбой занимались музыкой. Выглянул из коридора Кулик – ему захотелось было попросить пианиста сыграть что-нибудь знакомое, популярное, однако и этот танец забрал его; слушая, он ухмылялся, посматривая на Настю. И всех удивила девушка-сандружинница – расплакалась вдруг, такая невозмутимая и бывалая. Лена, сама плача, обняла ее, и та, давясь слезами, стала оправдываться.
– У меня руки… руки от крови неотмытые, – с трудом выговаривала она, тряся своими свалявшимися кудерьками. – Я уже эти муки людей видеть не могу…
В дверях зальца бесшумно встала слепая Мария Александровна, пришедшая на музыку, и Лена кинулась к ней.
– Леночка, – очень тихо, чтобы не помешать, сказала Мария Александровна. – Надо же что-то делать, надо доктора. Лучше, если бы Олю положили в госпиталь, там все условия.
С испугом взглянув в пустые глаза тетки, Лена только крепче обняла ее.
Но и это движение вокруг, и шепот не помешали Барановскому исполнить сейчас всю пьесу: отлетел последний звук, и он осторожно снял пальцы с клавишей.
Пани Ирена с таким выражением, точно это не он, а она благополучно добралась до конца пьесы, подошла к мужу.
– Юзеф, Юзеф! – И она продолжала по-польски: – Вот ты сам убедился? Ты замечательно все сыграл.
– Я все сыграл… – У Барановского было рассеянно-отрешенное лицо. – Я бы мог еще долго играть. Ты поверишь?
– Я ни минуты не сомневалась, что все к тебе вернется! – сказала она. – Уже все вернулось, ты играл прекрасно.
Ну это еще не все.
Растопырив на обеих руках пальцы в пятнах ружейной смазки, он оглядывал их, вертя кистями.
– Той беглости еще нет, – сказал он.
– Юзеф, ты слишком многого сразу хочешь, – сказала пани Ирена.
Он повернулся на вращающемся стуле, вскочил и взял с крышки пианино револьвер – тот, что он вчера получил.
Это было первое оружие, доверенное ему, и он впервые сегодня употребил его в дело!.. Он, Юзеф Барановский, музыкант, артист, больной человек, сначала в комнатке Ольги Александровны, а потом, выбравшись из дома, стоя на заднем крыльце на колене и положив для упора руку с револьвером на перильца, шатавшиеся от отдачи, – он стрелял!.. Между деревьями в саду перебегали немецкие солдаты, и он стрелял по ним! – он отлично помнил этот зеленовато-мышиный цвет фашистского вермахта!.. До нынешнего утра он только убегал от него, чувствуя кожей спины, затылком, пятками вечное преследование, сегодня он обернулся к преследователям лицом. Расстреляв по гитлеровским гренадерам целых два барабана патронов, он и сам плохо понимал себя сейчас. Но он словно бы отведал ударившего в голову целительного напитка.
2
Пауза длилась недолго – начался артиллерийский обстрел. Снаряды рвались поблизости, – и в Доме учителя опять хлопали двери от невидимых ударов; день потемнел, будто угас до срока, вздрагивала земля.
И кое-где в черном дыму уже появилось пламя – проворные золотистые зверьки метались по обломкам, оставляя огненные следы.
Веретенников прокричал приказ всем покинуть дом… Но ни за что не хотела оставлять старшую сестру Мария Александровна; дом пошатывался и скрипел, с подоконника сорвался и разбился горшок с бегонией, а она не трогалась с места.
– Олю… Надо сперва Олю, – просила она. – Леночка, помоги мне…
Федерико, Барановский и еще один боец-пограничник бегом вынесли из дома тело Ольги Александровны, чуть не выронили его на заднем крылечке, но дотащили до сада и положили на скамейку. Слепая все порывалась за ними, спотыкалась, цеплялась за Лену, и ее альтовый голос летел вдогонку:
– Оля!.. Ты где?
Последними выбежали Веретенников с Истоминым и только успели залечь у колодезного сруба, как в дом попало сразу два снаряда. От первого ощерилась стропилами и рухнула крыша над кухней, второй развалил и окутал дымом и пылью развалины Настиной пристройки. Выглянув из погреба в саду, Настя увидела внутренность своего жилища: кровать, засыпанную мусором, и кусок стены с овальным зеркалом, утыканным по краям бумажными цветами. Трещина разделила зеркало пополам, а через мгновение на ее глазах верхняя его половина выпала из рамы, полетела вниз и сверкнула осколками.
– Тетя Маша-а! Лена! – дурным голосом завопила Настя, которую ужаснула эта плохая примета – разбитое зеркало. – Где Кулик, не видели Ваню Кулика?! Ваня-а! Ваня!
– Настя! Ты где? – ответил голос Кулика.
Артиллерийский налет продолжался недолго, минут пять. И когда наступила тишина, Веретенников позвал своего связного, Кобякова: надо было готовиться к отражению новой атаки… Но Кобяков не появился и не отозвался. А с улицы, куда выскочил Кулик, в тот же момент донеслось:
– Ты куда, куда?.. Да там немцы… Назад, дурья голова!
Веретенников, а за ним Истомин бросились за ворота… По улице, над которой еще носилась копоть, уползал на четвереньках Кобяков, уползал, выписывая кривые, тыкаясь в одну сторону, в другую… Тем не менее он постепенно удалялся: в его движении было определенное направление.
– Сдурел! – закричал Кулик. – Разрешите, я его приволоку.
Веретенников не успел ничего ответить – Кобяков вскочил и, согнувшись и подняв руки над втянутой в плечи головой, развалисто побежал, теперь уже по прямой – к перекрестку.
– Ох гад! – Кулик почему-то рассмеялся. – К немцам чешет…
– Куда, куда? – переспросил Веретенников.
А Кобяков перемахнул через поваленный телеграфный столб, оглянулся зачем-то и побежал дальше.
– По предателю – огонь! – торопливым фальцетом скомандовал Веретенников.
И сам первый выстрелил из пистолета… Но Кобяков как ни в чем не бывало продолжал бежать; Веретенников выстрелил еще раз и еще и опять не попал.
– Истомин – по сволочи! – криком приказал он.
Виктор Константинович вскинул свою трехлинейку, поймал на мушку спину в сером ватнике. – и опустил винтовку.
– Уложите его! Вы ведь снайпер!.. Огонь! – Веретенников пронзил Истомина запылавшим взглядом.
– Но это же Кобяков! – воскликнул Виктор Константинович. – Простите! Простите, ради бога!
На длинном блоковском лице его была мученическая мольба.
– Я вас самих… за неисполнение в боевой обстановке… Огонь! – техник-интендант притопнул от нетерпения и гнева.
– Ради бога, ради бога! – Виктор Константинович вновь поднял винтовку – ослушаться он не мог.
Опередив его, выстрелил Кулик – добряк Ваня поспешил ему, Истомину, на выручку. Но и пуля Кулика пролетела мимо.
А Кобяков добегал уже до перекрестка. Там все было затянуто дымом – еще мгновение, и Кобяков скрылся бы в этой плывущей мгле.
– Огонь, огонь! – надсадно раздавалось в ушах Виктора Константиновича.
И его мушка вновь подколола снизу серую спину в ватнике; придержав дыхание, он плавно, как его учили, нажал на крючок – он действовал уже механически. И Кобяков подпрыгнул на бегу, изогнулся, взмахнул руками и опрокинулся на спину.
А Виктор Константинович растерянно взглянул на Веретенникова… Бой тут же возобновился, словно его выстрел послужил сигналом. Немцы, решив, что их артиллерия достаточно поработала, опять бросились в атаку, выскочили из дыма со стреляющими автоматами, но опять были встречены огнем.
…Федерико стрелял, лежа на животе на дощатой крыше дровяного сарая. Самозарядная русская винтовка, полученная от Осенки, была для него оружием новым, и он проверял ее в деле. Вчера он лишь предварительно познакомился с нею: разобрал, почистил, смазал, собрал; сегодня в бою он нашел ее приемлемой: винтовка не давала осечек, не подводила при точном прицеливании, была сравнительно легкой. Но конечно, она не могла заменить того, что он отдал при переходе фронта, – о своем автомате он вспоминал и сегодня. Хуже обстояло дело с натронами: их приходилось расходовать экономно, запас близился к концу.
Еще тревожила Федерико мысль о Лене: он был уже не одинок, их было двое в мире, и он теперь закрывал собой ее. А она здесь, за его спиной, ждала исхода этого боя… Ничего подобного с ним раньше не бывало. Воюя, Федерико никогда не думал, что он защищает человечество или кого-нибудь из человечества, и это нисколько не ослабляло его свободной отваги. Теперь его главная забота сосредоточилась на единственной девчонке, полюбившей его, и он испытывал чувство несвободы. Получив Лену, он словно бы потерял какую-то часть себя, все время возвращаясь мыслью к ней и мучаясь от того, что его девчонка подвергается опасности.
В сущности, любовь помешала Федерико почувствовать себя сейчас счастливым, если счастьем называть ощущение себя в гармонии со своим призванием. Этот юноша из Ассизи, соотечественник блаженного всепрощенца Франциска, был воином, прежде всего воином, он ненавидел фашизм и мстил ему. И талант Федерико – некое особо удачное сочетание телесных и духовных качеств – полностью раскрывался и цвел своим жестоким цветением в бою, в открытой схватке.
Федерико и сейчас был внешне холоден и инстинктивно расчетлив. Отыскав цель, он выжидал ровно столько, сколько было необходимо, чтобы наверняка ее поразить. И его палец на спусковом крючке так мягко увеличивал нажим, что весь механизм незаметно, как бы сам по себе, приходил в движение. Федерико и не спешил, вглядываясь в задымленную перспективу перекрестка, где вновь возникли расплывчатые серо-зеленые фигуры, и выбирая себе мишени. Но когда после очередного выстрела человекоподобное пятно вдалеке комкалось, кувыркалось и оставалось на месте, лицо его светлело, смягчалось. Он успевал поглядывать и по сторонам, чтобы не потерять общей ориентировки.
Справа и слева от него вели огонь русские, и тоже, кажется, не впустую. Интендантский писарь в очках или кладовщик – кто их разберет? – залег в развалинах дома и стрелял из дверной рамы, с которой были сорваны обе створки. Кто-то заполз на улице под поваленный забор и палил из-под него, прикрытый, как щитом. А по двору перебегал – к одному подскочит, к другому – маленький интендантский офицер в фуражке с зеленым околышем, с пистолетом в руке и что-то по-русски звенящим голосом выкрикивал, вероятно, подбадривал. Офицерика каждую секунду могли продырявить, но выглядел он хорошо, даже шикарно.
Словно бы опьянение, особое, ясное и трезвое, охватило Федерико – оно было похоже на то, что чувствует чемпион, наслаждаясь своим высшим умением.
Но вот в его винтовке словно щелкнул пустой орех, и выстрела не последовало – патроны кончились. Федерико сполз по дощатому скату, легко с двухметровой высоты спрыгнул, присел и что было силы помчался на улицу. Невдалеке там он приглядел немца, застреленного еще в первой атаке, – кучу шинельного тряпья, из которого высовывались подметки с белыми шляпками гвоздей и торчал вороненый ствол автомата. Кидаясь из стороны в сторону, пригибаясь, Федерико добрался до трупа. Несколько пуль остренько взвизгнули над ним, пока он, укрываясь за трупом, довольно долго возился, снимая автомат; пришлось поворачивать тяжелую тушу, поднимать ее голову. На счастье Федерико, немец был толст, огромный его живот прикрывал, как бруствер… В карманах шинели у него нашлись запасные патронные рожки, а губную гармонику Федерико швырнул в уличную лужу.
Вернулся он вовремя: немцы обошли усадьбу – странно, что они не сделали этого раньше, – и частая стрельба раздавалась в стороне сада. Он помчался в сад. Пробегая мимо беседки, в которой женщины устроили перевязочный пункт, Федерико увидел в полуовале входа, увитого сухими виноградными стеблями, Лену. Она и пани Ирена стояли на коленях перед кем-то, лежавшим на земле… Точно почувствовав приближение Федерико, Лена обернулась…
– Прекрасная погода!.. До встречи!.. – прокричал он.
На лице Лены отразилось непонимание – она не услышала его… В глубине сада железно колотились автоматы, оглушали удары гранат – бой шел на дистанции их броска. И Федерико, пригнувшись, выставив перед собой автомат, понесся дальше.
…Случилось так, что тревогу в саду поднял Осенка, возвращавшийся от Самосуда с донесением к командиру ополченцев; Осенке же было поручено привести в отряд на обратном пути всю группку его интернационалистов; с ним шел и партизанский связной. И, выбрав кратчайший и, казалось» самый безопасный путь, они чуть ли не нос к носу столкнулись в кустах у садового забора с немцами. Хорошо еще, что Осенка и его спутник первые открыли огонь и первые оказались в саду Дома учителя – проползли сквозь прорехи в заборе. Кроме этого щелястого забора сад отделяла от черемуховых зарослей еще дренажная канавка, в которой они двое и укрылись, как в окопчике…
Когда Федерико добежал, а частью дополз до канавки – сад был велик, метров около ста в глубину, – там находились уже и Веретенников, и его писарь, они стреляли по дырам в заборе, по щелям. А из щелей посверкивали автоматные очереди, и поверх забора летели гранаты… Взвихренные их разрывами, густо носились в воздухе мокрые листья.
Осенка был ранен, кровь заливала его лоб, капала с бровей, но он тоже стрелял, сидя в бегущей по дну канавки воде. Федерико с ходу повалился около него и тотчас же дал по забору очередь. Подгнившие доски закачались под невидимыми ударами, как под ветром, одна сорвалась, и за забором раздались хриплые, будто грачиные, крики… Затем стрельба оттуда прекратилась.
– Войцех! – окликнул запыхавшийся Федерико. – Войцех!..
Он не знал, как по-польски сказать: «уходи на перевязку», – и покрутил пальцем вокруг своего лица.
Осенка обернулся, и несколько красных капелек сорвались и потекли по его щекам.
– А, Федерико! Дзень добры, – отозвался он и стал рукавом отирать лицо.
Семнадцатая глава
Жертвоприношение Авраама
Отцы и дети
1
Сергей Алексеевич проснулся с таким ощущением, точно кто-то его разбудил. «Кто это? Что? Тревога?» – чуть не спросил он. И услышал лишь равномерное похрапывание Аристархова, спавшего тут же, на составленных стульях, – никого больше не было в кабинете директора лесхоза, где они устроились.
«Бой!.. – вспомнил Сергей Алексеевич. – Ребята… Первый бой!» Он выпрямился в кресле, в котором собрался провести остаток ночи, нашарил электрический фонарик на столе, включил, посмотрел на свои наручные часы в старомодном ремешке-гнезде: до подъема оставалось еще около часа – он спал совсем немного. Но сон уже отлетел…
«Вот и этот день… Ребята идут в бой, – повторил про себя Сергей Алексеевич. – Все мои, весь класс!» И безымянное, вязкое томление овладело им.
Натянув сапоги, которые так и не просохли, накинув на плечи пальто, Сергей Алексеевич вышел в тихий коридор. Почему-то эта тишина дома, в котором спало множество людей, усиливала его неотчетливое беспокойство… На крыльце темный воздух обдал его сырым, как из колодца, холодом, и озноб прошел по спине. Во дворе, как и в доме, было также тревожно-тихо – дождь перестал, не слышалось и стрельбы, часовой с неясно серевшим лицом безмолвно посторонился, и слабо стукнул о перильца приклад винтовки.
По скользким от натасканной слякоти ступенькам Сергей Алексеевич сошел во двор, поплотнее запахнулся… А озноб все не унимался, даже челюсти начали подрагивать, и было уже непонятно, что это: телесное страдание или душевное.
«Что со мной? – подивился Сергей Алексеевич. – Ведь не трушу же я, в самом деле? Этого еще не хватало!»
Но что-то необычное все-таки происходило с ним… Впервые за последние дни он остался наедине с самим собой, и то, о чем ему никак не удавалось с собой поговорить – попросту не было времени, чтобы оглянуться на себя, но что смутно будоражило, возвысило голос в его душе.
Сергей Алексеевич выбрался за ворота и долго стоял там, вглядываясь в туманную глубину широкой просеки, в обложенное тучами, грифельного цвета небо; верхушки высоченных елей чернели, уменьшаясь в перспективе, как сторожевые башни.
«Кто же ты, Сергей Самосуд? – спросил он себя, спросил так словно вопрос давно уже возник у него, а он всё уходил от ответа. – Что ж ты делаешь? Кто дал тебе право?..»
В памяти Сергея Алексеевича проносились какие-то пустяковые мелочи: класс решает задачки, три десятка голов склонились над партами… Безутешно рыдает восьмилетний Женя Серебрянников, он потерял свой ластик – этот мальчик вообще был ужасной плаксой… Двенадцатилетняя Таня Гайдай украдкой, сунув голову под крышку парты, щиплет свои щечки, чтобы они разрумянились, – Таня, кажется, родилась кокеткой… А сегодня Женя боец, а Таня сандружинница! И Сергей Алексеевич будто в непонимании развел руками…
«Как возможно?.. – допытывался он у себя. – Неужто ж ты не мог уберечь хотя бы их, этих мальчишек и девчонок?!»
Он испытывал совершенно родительское сокрушение… Несколько часов тому назад на совещании командиров рот он сам сказал, что рассчитывать на успех в предстоящем бою можно, только нанеся удар всем полком: каждая винтовка должна стрелять. И он умолчал о том, что сама эта операция продиктована едва ли не отчаянием, – впрочем, это понимали все. Однако и уклониться от нее было невозможно – речь шла о спасении сотен беспомощных людей: раненых из застрявшего здесь армейского госпиталя, беженцев, да и драгоценного военного имущества. И, отдавая приказ командирам рот, Самосуд тогда, на совещании, был прежде всего старшим командиром, трезво оценившим обстановку. Теперь он с внутренней, неизъяснимой усмешкой сказал себе:
«Получается, как в Библии – жертвоприношение Авраама, у которого бог потребовал сына».
Если б кто-нибудь из бойцов видел сейчас Самосуда, он решил бы, что их командир повредился в рассудке: Сергей Алексеевич как будто разговаривал с незримым собеседником – жестикулировал, пожимал плечами, качал осуждающе головой.
«Не много ли для одной человеческой жизни? – спрашивал он. – А, Сергей?»
Он вспоминал о прошлых своих утратах… Были тюремные одиночки, каменные коробки, в которых его товарищи сходили с ума. Были виселицы 1907, 1908 годов и военно-полевые суды в 1916-м, были Каховка, Перекоп, Кронштадт, где в братских могилах спят его товарищи. Были деникинская контрразведка, эсеровский террор, кулацкие мятежи… Если ненависть врагов не убивала коммунистов, их смертельно ранили клевета или подозрительность… А уцелевшие смыкались, закрывая собой бреши, и шли дальше, как под нескончаемым обстрелом, как в атаке, начавшейся еще в прошлом столетии и еще раньше, где-то в плохо уже проницаемом тумане веков.
– Чертовы старики! – пробормотал Самосуд. – Двужильные!.. И ты чертов старик, Сергей!
Вдруг он странно, судорожно засмеялся – то ли от гордости, то ли чтоб не заплакать от своего слишком трудного волнения.
«Отдавал, что имел… Все, что имел… – подумал он с этим странным смехом. – Теперь вот отдаю детей».
В мглистой глубине просеки засветился красноватый огонь – повара уже готовили завтрак… Вскоре огонь пропал – закрыли, должно быть, дверцу походной кухни. Набежал предрассветный ветер, коснулся расплывчатых верхушек елей, и черные башни зашатались.
«А ведь это от твоего эгоизма… – Сергей Алексеевич опять хохотнул, – ты ведь для себя, если честно, совсем честно, для себя старался… Все счастья хотел, полного! Ты же чертов эгоист, Сергей!»
Он прямо-таки затрясся от тихого хохота. Но затем его веселье разом и прошло… Конечно же, полное счастье было возможно только через всеобщее… через всеобщее! «Откуда это? – задумался Сергей Алексеевич. – Да, да – Гракх Бабеф, письмо перед казнью…»
Мысли Сергея Алексеевича вернулись к началу его разговора с самим собой. Он искал у себя же самого – у кого ж еще? – утешения… Но шла все та же война – вековечная! – то обманчиво затихавшая, уходившая в глубину жизни, то вырывавшаяся наружу. Бой, что предстоял ему, Самосуду, сегодня, был продолжением прошлых боев. И разве он мог посчитать себя вправе уберечь что-либо в этой войне лишь для себя одного, для своего спокойствия, для своей любви?..
Сергей Алексеевич словно бы примолк внутренне… Нет, не минула его и эта ужасная чаша. Кусочек свинца в ничтожное мгновение мог разрушить то, что с таким терпением, таким искусством он долго, годами создавал… И не было для него утешения…
Вблизи раздалось петушиное пение: невидимый певец со звонкой яростью на всю округу длинно прокукарекал. И откуда-то на его исступленный призыв отозвался другой, такой же самозабвенный вестник нового дня.
«Пора будить… – подумал Сергей Алексеевич. – Время…»
Выдирая ноги из залившего двор жидкого месива, он пошел к дому.
…Связные, ушедшие к ополченцам еще ночью: поляк Осенка и боец полка Феофанов, все не возвращались; миновало позднее осеннее утро, время подошло к полудню – их все не было. И Самосуд медлил, колеблясь и не зная, что же там сейчас происходит – в городе и на переправе: прорвались ли к ней немцы или их и сегодня удалось отбросить? Восстановлен ли мост, началась ли эвакуация или немцы хозяйничают уже на реке?.. Вчера в Доме учителя с командиром ополченского батальона было договорено, что партизанский полк придет к ополченцам на помощь: партизаны в критический момент должны были ударить в тыл врагу, рвавшемуся к переправе. И командир ополченцев обязался прислать рано утром Самосуду со связным «обстановку», подтвердить договоренность и указать час атаки. Могло случиться, что лучший момент для удара еще не наступил, могло случиться и так, что этот удар уже опоздал. И если реденькое прикрытие на переправе было смято, сброшено в реку, то атака партизан оказалась бы не только бесполезной, но и гибельной для них.
А полк имени Красной гвардии, все три его роты: первые две, состоявшие в основном из коммунистов, советского актива и ветеранов гражданской войны, и третья, самая молодая, с утра стояли на выходе из леса. Отсюда можно уже было в короткое время выйти на рубеж атаки. И истекали последние, быть может, минуты, когда эта атака партизан могла сыграть какую-то роль… Не вернулись пока что и полковые разведчики, ушедшие на рассвете…
Звуки боя, доносившиеся сюда со стороны города, наводили на прямо противоположные заключения. Одно время там громыхало как будто листовое железо – бушевал артиллерийский огонь; потом на защитников переправы двинулись танки – словно бы ударили вразнобой гулкие колокола, – и Самосуд готов уже был подать команду «Вперед!». Но наступило относительное затишье, танков совсем не стало слышно, изредка татакали пулеметы. И это в равной мере могло означать и наш успех, и нашу неудачу – тишину победы и тишину кладбища.
К Самосуду, одиноко прохаживавшемуся между деревьями, подошел, позванивая шпорами, придерживая на боку шашку, командир первой роты Никифоров. Это была фигура заметная: заведующий районным пунктом «Заготскота», а в гражданскую войну командир эскадрона в бригаде Котовского, Никифоров и внешне походил своим высоким ростом и полным, округлым лицом на знаменитого комбрига. Он и в своей конторе одевался с оглядкой на него – носил широкие галифе, короткую, отороченную серым каракулем бекешу, а на его голо обритой голове низко сидела фуражка с малиновым верхом – ее он сохранил с давних героических лет.
– Стоим, Сергей Алексеевич! А время, между прочим, идет, – проговорил Никифоров с рассеянным видом, как о вещи, лично его не волнующей.
– Что вы имеете в виду? – спросил Самосуд, хотя отлично понял командира роты.
– Остывают люди, Сергей Алексеевич! Боевой дух уходит, как пар из самовара…
И Никифоров улыбнулся, показывая изрядно попорченные коричневые зубы – он был уж немолод, этот удалой комэск.
Самосуд, стоявший к нему вполоборота, резко повернулся:
– Вы что же, пришли ко мне плакаться? За боевой дух своей роты вы лично отвечаете. – Он и сам был обеспокоен, раздражен, и сам подумывал, что это затянувшееся стояние плохо действует на людей. – Что за разговоры, товарищ Никифоров: боевой дух уходит, боевой дух приходит… У вас что же, рота неврастеников?
Никифоров постукивал по сапогу своей казацкой шашкой с георгиевским оранжевым, в черную полоску, темляком.
– Ну, в своих людях я уверен, – сдерживаясь, сказал он. – Народ закаленный, золотой фонд… Я из третьей роты сейчас, Сергей Алексеевич. Жалостный вид у ребятишек… Нахохлились, как мокрые галчата, и скучают.
– Что вы сказали: галчата? – переспросил Самосуд.
– Так ведь совсем еще зеленые… Об мамкиной юбке скучают.
Никифоров расплачивался с Самосудом за неврастеников: он знал о пристрастном внимании командира полка к третьей роте, сплошь составленной из его воспитанников.
– И смех, и грех, Сергей Алексеевич, – продолжал он, все похлопывая шашкой по голенищу, – один вояка сахар грызет, набил себе карманы сахаром, другой стихи декламирует.
– Что, что? – Самосуд в связи со стихами подумал о Серебрянникове; сахар грыз, наверно, Потапов, у которого всегда было что-нибудь во рту. – Стихи? А чем же это плохо?..
– Сховался под деревом и бормочет: «кровь – любовь», и те де. А сам аж посинел, носик красный. Девчонки сбились в кучку, сию минуту заревут.
– Благодарю вас, товарищ Никифоров, за информацию, – сказал Самосуд, – и можете быть свободны. Идите к своей роте, ждите команды.
– Есть, товарищ командир!
И Никифоров опять приоткрыл в улыбке свои темные зубы – он был удовлетворен. Но и вправду эти мальчишки и девчонки из третьей роты вызывали у него жалость: вероятно, все ж таки их не следовало брать в отряд.
А когда он уже уходил, Самосуд его окликнул:
– Я просил вас, товарищ Никифоров, сменить свою фуражку на что-нибудь менее бросающееся в глаза. Теперь я приказываю… Что за ребячество! Вы и сами напрасно рискуете, и можете демаскировать весь полк своим оперением.
Сергей Алексеевич почувствовал себя по-родительски, то есть лично, обиженным. Что бы там ни было, а о своих ребятах он ничего подобного не хотел слышать. И по тому, как он сказал об оперении, Никифоров понял, что возражать не стоит – старый учитель был довольно опасен в какие-то минуты.
А Самосуд направился в третью роту – она стояла тут же, надо было только перебраться через ручеек, бежавший в пожухлой траве…
Утром, когда полк покидал лагерь, ребята держались хорошо, на взгляд Самосуда, даже запели песню, которую он сам прекратил – двигаться надо было скрытно. А Богомолов, командир, твердым голосом доложил ему, что рота готова к бою, что бойцам роздано удвоенное количество патронов, что все получили гранаты и индивидуальные санитарные пакеты… Сергей Алексеевич, надо сказать, не был уверен в том, что он поступил правильно, назначив, хотя и временно, Богомолова командиром (он так и не подыскал еще никого другого, кому со спокойным сердцем мог бы доверить свою третью роту) – парень, при всех своих достоинствах, не имел боевого опыта. Но пока что Богомолов производил, в общем, впечатление полной уверенности в себе. А может, и более того: горение решимости было в его немигающем взгляде; парень, вероятно, и глаз не сомкнул за всю ночь перед первым боем. Саша Потапов – тот, стоя в строю, со смешливым выражением поглядывал по сторонам – он словно бы забавлялся. Женя Серебрянников был, правда, бледнее обычного, а у Лели Восьмеркиной, стоявшей на правом фланге – ростом она превосходила всех, – начали слегка косить глаза, так у Лели бывало и на экзаменах. Но другие ребята больше любопытствовали и с особенной старательностью выполняли команды: «Смирно!», «Кругом!», «Шагом марш!..» Конечно, это естественное их возбуждение могло так же естественно смениться упадком и испугом – Сергей Алексеевич достаточно много знал о ранимости еще неокрепшей души. И может быть, действительно его тяжким грехом оказалось то, что его увлек первоначальный порыв ребят, что он не охладил их жара?.. Но и сожалеть об этом было уже поздно.
Вновь стал накрапывать дождь, и лес словно бы зашептал, забормотал. Сделалось пасмурно, и слабо засеребрились осыпанные дождевыми каплями темно-зеленые ели. Бойцы третьей роты кучками, прижимаясь друг к другу, теснились под деревьями. Их сжавшиеся, пригнувшиеся фигурки, окутанные сумраком, имели и в самом деле несчастный, какой-то сиротский вид.
Из-под качнувшейся еловой лапы, ронявшей мелкое серебро, выглянул сторожко шестнадцатилетний Юра Яковчик – большеглазый, большеносый, дождевые капли, как слезы, падали с его ресниц, дрожали на кончике носа; маленькая Таня Гайдай с санитарной сумкой на боку прятала лицо на плече у понурившейся Лели Восьмеркиной. У Саши Потапова что-то шевелилось за вздутой щекой, он и впрямь что-то грыз, а его толстые губы вздрагивали – озяб, бедняга. Один Сережа Богомолов вышагивал перед своими бойцами, не прячась, и, завидя Самосуда, пошел к нему навстречу.







