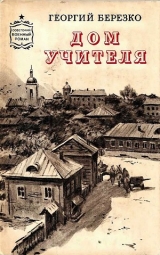
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
И далее выяснилось, что отцу Франца Зингфогеля грозило сейчас нечто худшее, чем увольнение из университета, и что только чиновные связи его родного брата, члена нацистской партии, спасали его покамест от концлагеря: дело в том, что профессор Зингфогель в студенческие годы состоял в Союзе Спартака. Мать Франца была родом из Словакии, и ее славянское происхождение стало, по словам Франца, причиной ее смерти – она умерла после вызова в гестапо… Отец, провожая сына, возвращающегося в армию, ничего не потребовал от него, он только сказал, что победа Германии в этой войне означала бы гибель всех человеческих надежд. «Дух Фауста смертельно болен и уже издает зловоние, – перевел несколько неуверенно подполковник запомнившиеся Францу слова его отца. – В фашистской Германии мы видим закат европейской культуры».
– Хорошо поясняет, научно обоснованно, – добавил подполковник от себя.
Все же, лишь вернувшись на фронт, в полк, летчик принял окончательное решение; здесь от адъютанта командира корпуса, товарища школьных лет, он узнал, что и сам он взят под наблюдение секретной службой – из фатерлянда пришло о нем специальное указание. И при первой же представившейся возможности он предпочел не дожидаться неминуемого развития событий.
– Он просит русское командование не называть нигде его имени, – перевел подполковник. – Он имеет желание, чтобы в полку считали, что Франц Зингфогель погиб, как погибают пилоты, – в небе, что его самолет был сбит снарядом. Он имеет страх за своего отца.
У пленного пересохло в горле, он давился, кадык скользил под кожей, как поршень, но глоток все не удавался ему. Подполковник взял со стола для заседаний графин с водой, налил в стакан и подал.
– Попей вот… Молодец, Франц, – похвалил он немца. – Орел, а не певчая птичка…
Зингфогель, не отрываясь, выпил весь стакан. Потом достал из кармана штанов вместе с раздавленной пачкой сигарет грязный, влажный комок носового платка, отер лоб, оставив на нем табачные крошки, и длинно вздохнул.
…Все теперь было кончено – он, Франц Зингфогель, больше не воевал, он сделал свое дело, как задумал: перелетел через фронт, сдался русским и выдал им, вчерашним врагам, важную военную тайну. Его отец будет доволен им, когда узнает о его бегстве – но узнает ли?.. И его мать – если только есть та, другая, лучшая жизнь – с любовью смотрит сейчас на него с небес, он отомстил за нее. Но в эти первые минуты Зингфогеля охватила тоска – тоска одиночества, он почувствовал себя, как после бури, выброшенным на незнакомый берег, где он был один среди чужих. А все, с кем до этого дня он жил общей жизнью: учился, служил, ел, летал, пил водку, мечтал, ругал втихомолку старших офицеров, радовался письмам из дома, поминал павших, – все его однополчане, – больше чем братья? – все остались на покинутом им родном берегу, куда он никогда уже не сможет вернуться. В их понимании он заслуживал теперь только веревки на шею, пуля в лоб была бы для него милосердием! И он ничего уже не мог им объяснить, да они, пожалуй, не поняли бы его, просто не стали б слушать…
Зингфогелю вспомнилось, что его самой прекрасной мальчишеской мечтой было получить на войне, когда он станет солдатом, Железный крест; он много и сладко, как и все в их школе, размышлял о военном подвиге и о завидной солдатской награде, даже написал на эту тему сочинение. Он увидел мысленно и свою школу – эту истинно прусскую школу, построенную еще королем Фридрихом II, старым Фрицем, – желто-серую казарму с узкими окнами в мелком переплете, сводчатые, каменные, гулкие коридоры, почерневший от времени портрет Фридриха в актовом зале, кайзеровскую каску в суконном чехле, которую принес однажды в класс их учитель истории, потерявший руку под Верденом; увидел каменный, пропахший мочой и окурками нужник, где они собирались, чтобы покурить и помечтать… Было невероятно глупо, конечно, что это детское мечтание о Железном кресте не покинуло его и когда он подрос и стал читать книги из библиотеки отца. Но и сейчас, в самую смятенную, самую безжалостную минуту, оно вновь ему блеснуло, бог весть зачем, как вспоминается, говорят, перед смертью все то, о чем напрасно мечталось в жизни. Ибо было уже несомненно, что он никогда не получит своего креста.
Подполковник попросил у командующего разрешения курить и, получив его, протянул Зингфогелю открытую коробку «Казбека».
– Бери, бери, не стесняйся! – подбодрил он «языка».
Но пальцы плохо повиновались Зингфогелю, он долго не мог уцепить папиросу, а когда наконец вытащил одну и стал разминать, она лопнула и табак высыпался. Зингфогель прикусил губу, он испугался, что расплачется. Русский офицер, улыбаясь, закрыл коробку и положил ему на колени, отдавая ее всю целиком.
– Спасибо… – через силу выговорил Зингфогель; он испытывал стыд и за свою неловкость, и за свои грязные пальцы, и за свой ужасный носовой платок, и за разорванную куртку, и за то, что он, как милость, принял эту коробку с папиросами, и за свою нетвердость, немужественность. Все уже было кончено, а значит, надо было держаться – он совершил лишь то, чего не мог не совершить.
– Чудак, Франц! – услышал он голос русского офицера. – Что голову повесил?..
Симпатия, которую чувствовал подполковник к этому во всех отношениях редкостному «языку», сделала его проницательным: с «языком» творилось неладное. И, положив по-приятельски руку ему на плечо, подполковник сказал по-немецки негромко, чтобы не помешать замолчавшему в раздумье командующему:
– Встряхнись-ка! Да ты сегодня для своего фатерлянда больше сделал, чем когда-либо! И война для тебя кончилась, жив останешься – тоже не мелочь.
Зингфогель снизу поднял на русского офицера опасливо-искательные глаза: уж очень нуждался он сейчас в участии – пусть только в добром слове!
Подполковник чиркнул спичкой, поднес к папиросе огонь…
И Зингфогель с надеждой подумал, что и вправду, может быть, то, что произошло сегодня, было его, Зингфогеля, немецкого юноши с его ребячьими нибелунговыми грезами, со всей этой нордической дребеденью, было его настоящим подвигом.
Командующий, неподвижно смотревший куда-то мимо, позабыл уже, казалось, что в кабинете у него все еще находятся пленный немец и подполковник из разведотдела. Подполковник осторожно покашлял, чтобы напомнить о том, и командующий, вновь их увидев, нахмурился.
– Можешь увести Франца. Займитесь им там, покормите, пускай отдохнет, – распорядился он. – Переведи ему, что советское командование его благодарит и все, что надо, о чем просил, обеспечит. Идите!
Он, надо сказать, не держал уже в голове истории этого немецкого фельдфебеля. То, что его действительно интересовало: можно ли доверять показаниям пленного, он для себя выяснил – немец производил впечатление искреннего человека, он не лгал. А отсюда следовало, что обстановка к началу сражения за Москву сложилась даже более невыгодная, более тяжелая, чем он, командующий фронтом, да и в Ставке Верховного Главнокомандования оценивали ее. Подавляющий удар мог грянуть в ближайшие дни, и нечего уже было думать что-либо существенно изменить в соотношении противостоящих сил. Командующий потянулся к телефону, чтобы пригласить к себе члена Военного совета, и даже не бросил взгляда на уходивших подполковника и пленного летчика. Впереди, прижав руки к бедрам, шагал уставным шагом, вскидывая прямые ноги, Франц Зингфогель, подполковник чуть отставал.
На несколько минут командующий остался один. Самообладание, привычное для него, как походка, испытанное во многих критических положениях, оставило его. С мечтательной яростью, с тем чувством, что день за днем в эти военные месяцы росло и кристаллизовалось, с тихим, душащим бешенством он выговорил:
– Мы разобьем их!..
Когда две недели назад его назначили сюда командовать фронтом на центральном, московском направлении, он пережил честолюбивое удовлетворение. О, он вовсе не был равнодушен к чинам, к наградам, к воинской славе – воздержанный трезвенник, аскетически нетребовательный во всем другом. Но в эту минуту он освободился даже от своего честолюбия, он был снова тем давним, невероятно упрямым, злым хлопцем в треухе с кумачовой звездой. В мыслях его, как заклинание, повторялось: «Мы будем драться – здесь и везде! В Вязьме, в Гжатске, в Можайске!.. На всех рубежах! Будем драться в Перхушково, в Филях, на Бородинском мосту!.. И мы их остановим! И разобьем!»
Члена Военного совета, вошедшего к нему, он встретил, прохаживаясь по кабинету из утла в угол, он был необычно возбужден. Ответ на самый главный вопрос: «как, когда и чем?» – ускользавший так долго от него, был наконец-то найден! Командующий не догадывался еще, что его отрешенная от всего личного решимость драться – везде, в любых условиях, в любой час, тем, что есть, – и была этим ответом.
– Будем готовить контрудар! Садитесь, прочтите вот эти показания, – сказал он армейскому комиссару.
…Пленный летчик лишь немного ошибся в сроке. Ранним утром 2 октября крупные соединения немецких бомбардировщиков повисли в посветлевшем небе над советскими оборонительными линиями. Массированной бомбежке подвергся также штаб фронта, и старая княжеская усадьба, где находился командный пункт, была объята пожаром. В первый же час наступления противник попытался таким способом обезглавить войска фронта, по которым наносил удар. Одновременно его наземные дивизии двинулись в атаку – сражение за Москву началось…
Пятая глава
Удачная командировка
Женщины
1
Ваня Кулик сидел в кабине машины, курил и смотрел, как Настя, тенью скользя от окна к окну, затворяла ставни – он ждал, когда она покончит со своими обязанностями. Вообще-то после долгого и нелегкого дня, после баньки и горячего чая, которым напоила его Настя, его клонило ко сну, и он подумывал, а не лучше ли завалиться, без промедления, на оставленную для него здесь, в общежитии, койку?.. Он и познакомиться с этой Настей как следует не успел, рассмотрел только, что она глазаста и несчастна. А несчастливых людей Ваня сторонился, как сторонятся опасно больных, от которых можно и самому захворать. Все же он крепился и медлил, куря папиросу за папиросой, чтобы не уснуть тут же в кабине, повалившись на протертое до дыр, продавленное сиденье. И даже не голод по женщине удерживал его на этом НП, а некий шаблон поведения, привычка в определенных обстоятельствах поступать так, а не иначе. Странно было бы отказываться от того, что само, казалось Ване, шло ему в руки.
У своих товарищей в таксомоторном гараже Кулик прослыл человеком и ловким и везучим: он и зарабатывал побольше других – умел обходиться с пассажирами, и числился в передовиках, и жил весело, особенно везло ему у женщин. Это завидное обстоятельство вызывало даже удивление: парень был на вид неказист, роста среднего, а лицом, щекастым и белобровым, просто, как говорится, не вышел; стригся он «под бокс», как и его товарищи, оставляя надо лбом коротенький белесый вихор, а в нерабочие дни надевал такой же, как у всех, синий шевиотовый костюм, купленный в Мосторге. К выделяло его не столь уж, впрочем, редкостное умение побренчать на гитаре; песен он знал множество и с удовольствием их пел под гитару своим небольшим сиплым тенором. Но не в этом заключался секрет его многих побед, да и не обладал он, в сущности, никаким секретом: он был всего лишь искренен и не опасался своей искренности. Как истинный Дон-Жуан, он каждый раз вновь дивился замечательному искусству природы, создавшей женщину такой, какая она есть. И не скрывая своего восхищения, он устремлялся к цели с нерассуждающей уверенностью в том, что не может его искренность не понравиться или обидеть. Если бы Кулика спросили, каким ему представляется рай, он ответил бы, что в раю, наверное, лучше дороги, а что касается женщин, то лучших, чем на земле, он и не желает – они и здесь были прекрасны и добры, прося лишь о том, что они называли любовью. Его восхищению нимало не мешала та нагловатая снисходительность, то ласковое презрение, с каким он, избалованный успехами, думал о них.
Легкая расплывчатая тень метнулась через двор – Настя перебежала к баньке и скрылась в ней, – должно быть, чтобы навести порядок после мужчин. Но находилась она там что-то чересчур долго, вероятно, мылась сама. И, подумав так, представив себе ее моющейся, а потом лежащей на полке, разомлевшей, Кулик превозмог сонливость.
Ожидая в машине, он услышал, как вернулись с прогулки хозяйская девчонка и этот красавчик иностранец. «Тоже парень не промах», – подумал Ваня с чувством товарищеской солидарности. Разговаривая на каком-то нерусском языке, словно бы даже заспорив, они прошли мимо, не заметив его, и с крылечка донесся смех девчонки. «Договорились», – удовлетворенно сказал про себя Кулик. Дверь за ними захлопнулась, а спустя недолгое время на крылечке появился кто-то, вышедший из дома, и чиркнул спичкой, закуривая; его наклоненное лицо красно осветилось. И Ваня узнал другого иностранца, поляка, которого другие поляки диковато называли паном – паном Войцехом.
Поляк сошел во двор и стал прогуливаться до ворот и обратно, попыхивая папироской. В нескольких шагах от Кулика он затоптал окурок и, заложив руки за спину, минуту-другую, а то и дольше, смотрел, не двигаясь, в небо, на туманные разрывы в облаках; человеку было, наверно, о чем подумать. Не подозревая, что он здесь не один, он вдруг внятно проговорил:
– Не вем… – И еще раз, с усилием в голосе: – Не вем[23]23
Не знаю (польск.).
[Закрыть].
Постояв в той же позе, точно подождав ответа, и не дождавшись, поляк медленно пошел к дому.
Но вот из баньки вырвалось серое облачко пара, а в нем возник белый призрак – Настя выскочила в одной рубашке и помчалась к крылечку.
Кулик посидел еще немного, вновь заколебавшись, идти к ней или не идти, а отоспаться, что было бы, конечно, разумнее. И, точно выполняя какую-то повинность, он выбрался из кабины, потянулся всем телом, разминаясь, и направился в дом. Он дознался уже, что Настя жила отдельно в пристройке, куда можно было попасть прямо из кухни, в которой они пили чай. Двери в сенцы и оттуда в кухню оказались еще не запертыми, и в теплом кухонном мраке под дверью в пристройку сквозила слабая полоска света…
Осторожно, на полусогнутых ногах, он подошел и прислушался: за дверью раздавалось глуховатое шлепанье – это ходила босая Настя. Он подмигнул себе и коротко постучал – шлепанье прекратилось, затем вновь послышалось – быстрое и легкое. Безотчетно улыбаясь, Кулик постучал погромче – и дверь приоткрылась.
– Не помешаю? – сипло сказал он. – Разреши на огонек.
Он тут же сильно надавил на дверь – она подалась, он шагнул в комнату – и, озадаченный, застыл на месте… В первое мгновение он просто не узнал Настю: перед ним – тут и вправду можно было не поверить глазам – стояла наряженная к венцу невеста или, может быть, святая. Он хмыкнул, готовый расхохотаться, но что-то помешало ему, смех застрял в глотке.
На Насте было белое, свободное, ниспадающее до полу платье без рукавов из какой-то воздушной материи, с золотым блестящим пояском на талии; веночек из крохотных белых цветов лежал на ее голове, а распущенные после купания волосы гладко струились на плечи матово-черными ручейками. Для полного наряда не хватало только туфелек – из-под платья высовывались маленькие ступни с розоватыми пальчиками, поставленные прямо, как у святых на иконах.
– Ты что это?.. Собралась куда? – выговорил Кулик первое, что пришло в голову.
– Заявился все-таки, – сказала она с явной досадой. – Ну что ты здесь потерял?
– А может, ты под венец идешь?.. Может, к богу на бал? Слышала такой романс? Может, тебя жених дожидается? – Он понемногу развеселился.
Она долго не отвечала, прижав к груди скрещенные руки, всматриваясь в его кругло-улыбавшееся, толстое лицо.
– Точно… – отозвалась наконец она. – Мой жених, точно, меня дожидается, давно – с той самой, с финской.
– Брось, брось! – Кулик был уже не рад своей шутке. – Теперь чего уж…
– Нет, ты правильно сказал… Ой и правильно! – необыкновенно вдруг оживилась она. – Теперь уж нас никто не разлучит. – И будто догадка осветила ее худенькое, с запавшими щеками лицо; блеснули в огромных затененных провалах глаза. – Спасибо тебе за верное слово!
– Ладно, лапушка, – сказал Кулик виновато, – мы люди неверующие, живем пока живы. Извиняюсь, что разбередил.
Она со странным, благодарным выражением взглянула на него и быстро, на носках, едва касаясь пола, понеслась к зеркалу на комоде. Большое, старинное, в овальной раме красного дерева, оно в этой просторной бревенчатой комнате было самой приметной и, вероятно, самой любимой вещью; алые и белые бумажные розы украшали его, свисая из-за рамы на стекло.
…Лишь час назад Ольга Александровна объявила Насте, что вопрос об их эвакуации решился, что завтра они все уезжают и что с собой можно взять только самое необходимое, пару белья да зимнее пальто.
– А куда ехать?! – воскликнула Настя. – Что нам здесь помирать, что где-нигде!
– Но зачем помирать? Будем надеяться на лучшее, – сказала Ольга Александровна.
А сама отрывисто дышала, утирала пот со лба и тут же попросила накапать ей сердечных капель.
– Разбомбят нас по дороге… А не разбомбят, с голоду помрем, а то от тифа, – сказала Настя.
Окончив дела по дому, она побежала первым делом в баньку – перед дорогой, как перед могилой, полагалось помыться. А придя из баньки, она тут же открыла свой сундук – среднего размера, но вместительный, прочный, обитый крест-накрест жестяными полосками и со звоночком, раздававшимся, когда его отпирали. Сюда во все годы, что Настя служила в Доме учителя, она складывала все свое самое лучшее и дорогое. И она принялась перебирать содержимое сундука, вынимать и разглядывать каждую вещь; о каждой она могла бы рассказать, когда и за сколько была куплена и как долго к каждой покупке она примеривалась… В сундуке хранилось все ее приданое: белье, сшитое к свадьбе, чистого льна сорочки с кружевцами, мадаполамовые простыни и пододеяльники с мережкой, полдюжины наволочек, два стеганых одеяла, две завернутые в полотно пары выходных туфель – белые босоножки и черные на высоком каблуке лодочки, новая вязаная шерстяная кофта, отрез на мужской костюм – подарок жениху. А сверху, чтобы не помялось, покоилось заботливо обернутое полотенцами платье, в котором она должна была ехать в загс расписываться…
Пять лет назад она – сирота, убежавшая из детдома, нищенка, побиравшаяся по церквам, по деревенским чайным, нянька в семействе сельского попа – и не мечтала о таком богатстве. И сейчас она никак не могла освоиться с дикой мыслью, что завтра она бросит здесь все на разграбление: хватай, кто хочет, тащи, топчи! Ее потрясло, когда она увидела бостоновый отрез, так и оставшийся лежать свернутым в сундуке. И, прощаясь со своими выходными туфельками, она еще раз прощалась со своими надеждами на иную, лучшую жизнь, на жизнь в любви. Когда она развернула свой свадебный наряд, его окутал пахучий желтоватый дымок – это Ольга Александровна посоветовала посыпать платье толченой апельсиновой коркой – от моли. И Настя почувствовала себя жестоко одураченной: берегла свое сокровище, не надевала, а зачем, для кого, для чего? – свадьбы уж не будет, никогда не будет, ей и самой оставалось жить всего ничего… Со смутной усмешкой – то ли над своими планами на жизнь, то ли над советами и планами всех добрых людей – она рассматривала и вертела, держа на весу, эту свою вчерашнюю драгоценность… И она не удержалась – накинула платье на себя – бог весть зачем, словно бы с глухой издевкой над собой. Внутренне недобро посмеиваясь, она примерила и веночек на голове, подаренный ей к свадьбе Ольгой Александровной – глупая, как и она, старуха говорила, что сама когда-то венчалась в нем… И Насте было теперь даже не больно, а как-то чудно, туповато, злобно.
С этой злой туповатостью, с оглушенным сознанием встретила она и своего ночного гостя – молодого солдата, шофера. Их много ныне проходило мимо, таких же, страдающих по бабам, оторванных от семейств, – нельзя было и обижаться на них. Но этого настырного парня она только что чуть не вытолкала – уж очень некстати был его приход. И она выпроводила бы его, если б не случилось чего-то похожего на чудо – ее поздний гость оказался добрым вестником, специально, в утешение посланным к ней. С первых же его слов она прозрела – сказанные на пороге, они сразу же натолкнули ее на спасительную догадку, будто высекли все осветившую искру: «К богу на бал!..» Это прозвучало для нее совсем как в тех старинных историях, которые рассказывались по воскресеньям в церкви. И все, что было необъяснимым, темным и ужасным, подобным смерти и грозившим смертью, стало и понятным, и радостным – дело и вправду, как видно, шло к ее свадьбе. А то, что она загодя, не зная еще о таком счастливом повороте в своей судьбе, облачилась для свадьбы, тоже подтверждало ее догадку.
В ее тусклом от времени зеркале, едва она приблизилась к нему, возникло воистину чудесное видение. Из дымной глубины зеркала, как из облачного тумана, вышла вдруг необыкновенная женщина в ангельском веночке, облаченная в дивное, все из белого газа, одеяние. Веря и не веря, Настя смотрела на это свое и не свое изображение, осененное красными и белыми розами. И ей подумалось, что наконец-то, после всех испытаний и несчастий, – наконец-то! – она видит себя не такой, какой привыкла видеть и какой ее видели и привыкли видеть все, а такой, какая она есть на самом деле, со своими истинными чувствами, со своей любовью. Настя словно бы открыла сейчас себя для себя. И это открытие показалось ей началом недоступной разумению, пугающей, но прекрасной перемены в ее жизни – перемены, которую она до сих пор считала смертью…
Кулик присел между тем к столу, выкрутил огонь в лампе – он не любил унылой полутьмы – и огляделся. Ему все больше здесь нравилось: чудаковатая, но завлекательная хозяйка этой тихой, удобной во многих отношениях жилплощади была еще вдобавок натурой художнической, то есть близкой ему самому. Повсюду на окнах, на столе, на стенах, у рукомойника виднелись здесь милые предметы женского поэтического умения: вышитые дорожки, занавески, полотенца с травами и птицами, даже более яркие, чем живые, цветы стояли и в вазочке на столе и торчали из трещинок в бревнах, между развешанных там фотографий. Матерчатый коврик – целая картина «Утро в лесу» с играющими медведями, хоть сейчас на выставку! – был протянут по стене над кроватью с никелированными шишечками, с пирамидой подушек мал мала меньше.
– А что? Неплохо у тебя, – похвалил Кулик. – «Свой уголок я убрала цветами…» Есть такой романс. Совсем, знаешь, недурно.
Настя обернулась, и он опять подивился – так она переменилась невесть с чего, и следа не осталось от ее прежней хмурости. Она раскраснелась, и ярко, огненно в ее глубоких глазницах блестели глаза. Кулик искренне восхитился:
– Ну точно, как сосватанная! Тебя сейчас… ну, куда угодно! Хотя б в Москву, в сад «Эрмитаж»!
Она с необъяснимым, чуть ли не молитвенным выражением вглядывалась в него.
– Тебя как звать-то? И не знаю еще, – сказала она.
– Главным, что ни на есть, русским именем, – сказал он, – которым и цари назывались.
– Иваном звать, угадала? – почему-то обрадовалась она.
– Точно!
– Иваном… – повторила она медленно, как бы запоминая, – по-церковному Иоанном.
– К тому же Ивановичем. – Он сипло засмеялся, довольный знакомством с этой необъяснимой женщиной – ничего подобного ему не встречалось еще.
– Тебя послал кто? – вырвалось у нее. – Чей ты?.. Говори…
Вместо ответа Кулик вытащил из кармана штанов банку консервов, пачку печенья – служба в интендантстве имела свои существенные преимущества, а из другого кармана – фляжку в суконном чехле и встряхнул ее, в фляжке забулькало.
– На сухую глотку не поговоришь, – сказал он. – Стопочек не найдется у тебя? А, лапушка, баядерка!..
Настя помедлила мгновение и всплеснула руками.
– Ой!.. Чего ж это я?! – вскрикнула она. – И стопочки найдутся, и что другое… О господи, совсем голову потеряла!
И она кинулась в угол к шкафчику с посудой; легкое платье ее раздулось и приподнялось, открыв щиколотки.
– Когда б имел я златые горы!.. – воскликнул со всей искренностью Кулик. – А у солдата, лапушка, только и есть, что сердце, которое завтра, возможно, будет пробито.
Настя заметалась по комнате, собирая ужин, – можно было подумать, что для нее и впрямь с его, Кулика, приходом наступил праздник… Чистая скатерть, опахнув Кулика свежим ветерком, плавно опустилась на стол, а затем перед ним появились не стопки, а красивые с золотым ободком рюмки и в дополнение к его консервам, как по щучьему велению, – отличная закуска: студень, соленые огурчики, квашеная капуста, яблоки – наливные, величиной с дыньку, антоновки. С подоконника перекочевала на стол двухлитровая бутыль с чем-то черно-багровым, присыпанным сверху порозовевшим сахарным песком, – вероятно, вишневая наливка. И Кулика охватило чувство, близкое к умилению…
– Ты сам-то откуда? – все допытывалась Настя, кружась у стола. – Ты где жил до войны?
– В столице нашей Родины – Москве, так точно! – отрапортовал он.
– Один жил? Или как?
– Зачем один, родня у меня. Мы все вместе живем.
– Не была я в Москве… В кино только видела Красную площадь, Мавзолей, – сказала Настя, – а еще метро – ну как в сказке. А родня-то у тебя большая?
– Старики у меня: батька, мать. Хоть и не очень еще старики, батька у меня казак, – сказал он.
Она прервала на минуту свое кружение, остановилась с тарелками в руках.
– А может, обманываешь меня? – спросила вдруг она.
– Да зачем мне обманывать? Могу дать полный адрес: Вторая Брестская, дом тридцать три, квартира двадцать два. Милости просим!
– Москва – ну да… – раздумчиво проговорила Настя; казалось, она была удовлетворена. – Там и митрополит у вас живет… Москва!.. Ну, ладно. А только адрес твой мне уже ни к чему.
И она опять унеслась в своем раздувавшемся платье, мелькая босыми маленькими ножками; вернувшись с хлебом в плетеной корзинке, она сказала:
– Везучий ты, Иванович!.. А я вот детдомовская, я и не дозналась, кто меня народил.
Метнувшись напоследок к комоду, она принесла оттуда и поставила у своего прибора небольшую, в фанерной рамочке, фотографию – портрет. С ревнивым любопытством Кулик потянулся через стол – с фотографии пристально, глаза в глаза, смотрел на него мужчина с залысинами, со строго сведенными в одну линию густыми бровями; мужчина был в пиджаке и при галстуке.
– Это кто же такой?.. Кто тебе этот дядя? – нарочито громко вопросил Кулик и запнулся.
На лице Насти, в ее подсвеченных снизу лампой сияющих глазах было словно бы хмельное, дурное выражение; на запавших щечках двумя пятнами-кружками пылал жар. Не ответив, она бесшумно, боком опустилась на лавку напротив Кулика, выпрямилась и положила на край стола ладонями вниз свои смуглые загрубевшие кисти рук; выше, до плеч, была открыта ее бледно-золотившаяся, нежная кожа.
– Разливай, Иванович! Тебе и первое слово! – сказала она вздрагивающим голосом и перевела взгляд на портрет.
– Есть! Природа не терпит пустоты! – поспешно проговорил он, как и говорил обычно перед пустой рюмкой, но ему сделалось не по себе: ощущение было такое, что за столом с ними сидит кто-то третий. И кавалерская уверенность Кулика – чувство инициативы, которое и вело к победам, стало у него таять.
Со вниманием Настя следила, как он, торопясь, отвинчивал крышечку фляжки, как наливал, сперва ей, потом себе, и ожидающе, с неразумной требовательностью уставилась на него, когда он поднял рюмку.
– Ну так… – с осторожностью начал он, – ну, счастливо!.. За счастье, то есть!
Не помешкав, он опрокинул в себя рюмку; она взяла свою, но пить сразу не стала, а опять поглядела на портрет, на строгого, лысоватого мужчину в пиджаке. Забывшись, она отчетливо сказала что-то вовсе несуразное:
– Алеша! Алешенька! За наше с тобой!..
Кулик опустил голову.
«Тронулась, бедняжка, с горя – вот так номер!» – огорчился он, и к его чести, в эту первую минуту огорчился не за себя.
Настя зажмурилась и одним длинным глотком выпила свою рюмку; не закусив, она стерла ладонью уголки губ. А Кулик тут же, как нечто целительное, налил ей вторую.
– Бывает, что и возвращаются бойцы, как с того света, – сказал он. – Напутает в штабе писарь, нас у него много, тысячи – и на тебе: жив-здоров Петр Петров, радуйся, мать, не плачь, жена!
Она ничего не ответила; они выпили молча по второй, и она расслабилась, помягчела, даже тихо, как бы в растерянности, заулыбалась.
– Это он и есть, сержант твой? – спросил Кулик.
Она покивала, глядя на портрет.
– Да… – протянул он. – «Быстры, как волны, дни нашей жизни…» А на войне, лапушка, особенно – быстрее не бывает.
Еще не оставив надежды на более приятное продолжение этой встречи, он сделал словно бы пробный шажок:
– Солидный товарищ, видать, на возрасте. А не староват маленько для тебя? Я извиняюсь, конечно! Но законы природы свое всегда возьмут.
– Алексей Васильевич точно меня старше, – проговорила Настя мягко, мечтательно. – Он мне – душа родная, и отец, и мамка. Он и сюда мне рекомендацию дал, а мне приказал: тут при Доме ты и учиться можешь… Староват, говоришь, Иванович! Искушаешь меня… А против него ты, Иванович, вроде как несовершеннолетний – он и ростом на голову выше, и в плечах… Алексей Васильевич на пилораме работал, бригадиром. Староват?.. А знаешь, что мне командир полка про него написал?.. Ты послушай.
– Ну зачем же?.. Я это – между прочим… – сказал Кулик.
– Нет, ты послушай! – Настя резким движением отодвинула свою тарелку и привалилась грудью к столу – она уже действительно захмелела. – Я каждое словечко того письма… Я как получила его, ума лишилась, на крик кричала, ко мне доктора вызывали… Ты слушай: «Сержант Алексей Васильевич Головин – это он и есть Головин – подавал на поле боя пример мужества и отваги…» Ты слушай, слушай! «Сержант Головин был лучшим в части младшим командиром, пользовался уважением подчиненных… – продолжала без запинки Настя, затвердившая письмо наизусть. – Пал смертью храбрых в бою у озера Сайма…»
– Ну ясно, – пробормотал Кулик.
– Сайма… – вслушиваясь в звук чужого названия, повторила она.
И Кулик подумал, что ему, видно, придёмся убираться не солоно хлебавши – разговор принял характер, явно не способствовавший его планам. Эта горемычная, чокнутая невеста убитого на финской войне сержанта все еще чересчур сильно горевала о своем женихе. Да и у самого Кулика, глядя на нее, поубавилось пыла – несчастье, в самом деле, было заразительно, переходило от человека к человеку… Помрачнев, он принялся, хоть и без особенной охоты, за еду – не оставлять же на столе богатую закуску!







