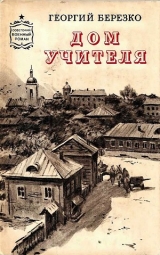
Текст книги "Дом учителя"
Автор книги: Георгий Березко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Седьмая глава
Последние часы тишины
Художники
1
Машина из Спасского не пришла ни в назначенный день, ни в следующий, а на третий день стало известно, что в Спасском – немцы! Весть принесла женщина, счетовод тамошнего совхоза. Босая, в дождевом плаще, надетом прямо на сорочку, она появилась рано утром во дворе Дома учителя, неся у груди завернутого в одеяло младенца. Приткнувшись на крылечке, женщина посидела неподвижно, оцепенев, положив на колени свой дорогой сверток, уронив вдоль тела онемевшие руки. Потом, как в полусне, распахнула плащ и вынула из сорочки большую, наполненную грудь с припухшим соском. Но младенец не взял соска, слишком, должно быть, ослабел; его лысоватая, как в птичьем пуху, головенка валилась набок, и, ужаснувшись и сразу прозрев, мать тонко завыла… Весь путь из Спасского в город она проделала единым духом, и ее ровно покрытые пылью ступни казались изваянными из серого камня.
Ее окружили люди, вышла, торопясь, Ольга Александровна. С перерывами, обливаясь молоком, младенец стал сосать. А женщина, запинаясь, будто с трудом припоминая, как все было, рассказала, что на рассвете ее разбудил страшный треск. За окном в дыму скакали черные бесы с огромными головами – так она и сказала: бесы, – мигал огонь, что-то взрывалось и свистело. И, выхватив из кроватки сына, она без памяти кинулась на огороды, а там по оврагу, лесом, выбралась на большак. Она поняла уже, что это носились по улице, стреляя, немцы – немецкие мотоциклисты в своих рогатых, похожих на опрокинутые горшки касках. А она была комсомолкой, женой командира Красной Армии, и она догадывалась, что ожидало бы ее с ребенком в немецком плену.
Ольга Александровна повела женщину в дом на свою половину, дала ей туфли, свитерок Лены, юбку, уложила ее младенца на кровать. Сама она облачилась в гладкое черное платье, служившее ей для официальных выходов, поправила, спеша и задыхаясь, прическу, приколола к воротничку черный галстучек. Наказав Насте не отлучаться и держать всех в готовности к отъезду, Ольга Александровна направилась в райисполком, в отдел народного образования. Куда же еще могла она пойти с вопросом, придет ли наконец за ними в Дом учителя машина и что вообще с ними всеми будет?
За воротами Ольгу Александровну нагнал Войцех Осенка – он направлялся в райвоенкомат со своими вопросами и просьбами: прошло уже больше недели, как он и его товарищи жили здесь в бездействии. И хотя их всех исправно довольствовали при местном госпитале, кормили и одели, это затянувшееся ожидание становилось с каждым днем все более тягостным. Осенка даже не знал, где находится теперь штаб армии, он мог обращаться здесь только в районный военкомат, а военком при встречах говорил одно и то же: что надо подождать еще немного, денек-другой указаний из штаба. Сегодня, однако, счет шел уже не на дни, а на часы, может быть, на минуты: если верить женщине, прибежавшей только что из Спасского, немцы были утром всего лишь в двадцати километрах от города. Кто мог гнать, какой оборот примут дела к вечеру?!
– Пшепрашам, пани! Нам по дороге?! – осведомился Осенка.
И Ольга Александровна посмотрела на него с благодарностью – ей было страшно идти одной по этим улицам, где она знала каждый дом, каждый двор, – она никогда не видела их такими. Время давно перевалило за ранний час открытия булочных, а затем и за более поздний – начала занятий в учреждениях, но город будто и не просыпался еще: были закрыты магазины, пусты дворы, а на иных домах так и не распахнулись затворенные ставни. И редкие встречи только усиливали ужасное впечатление от этого кладбищенского сна, поразившего целый город…
Проехало несколько нагруженных машин – все в одном направлении, на восток, к реке, – тесно облепленных женщинами и ребятишками, мостившимися на ящиках, на мешках. Туда же, к реке, за которой в нескольких километрах проходило Московское шоссе, медленно ковылял на протезе с баяном на спине городской гармонист, добрый знакомый Ольги Александровны, постоянный участник ее клубных мероприятий. Он что-то крикнул издали, замахал рукой, но у нее недостало сил вступить в разговор. Встретился ей и другой знакомый – начальник почтового отделения, помнивший еще ее отца и брата, старый вдовец с малолетним внуком; они в четыре руки толкали перед собой тачку с узлами, с чайником, бренчавшим поверх поклажи; позади хозяев, косо отвернув морду, трусил белый, с лысыми боками пудель; Ольга Александровна знала и этого пуделя – пес был тоже стар и от старости слеп на один глаз.
– А вы не ушли еще? Как же так?! – пугаясь за нее, выкрикнул почтовый начальник. – Ольга Александровна, голубка наша! Надо уходить… Мы – до Можайска… Желаете – подождем вас…
– Дай вам бог благополучно… – выговорила она с усилием.
Он задержался подле нее, снял свою обвисшую фетровую шляпу, отер ладонью потный лоб, щеки, а когда отнял морщинистую руку, его испуганное лицо было уже другим – жалобным.
– Да неужто вы?.. Ай-ай, – очень опечалился он. – Ну да вам, может, и не надо?.. Может, вы и не собираетесь вовсе уходить? Коли так – прощайте, Ольга Александровна! А мы пойдем!
И она даже не попыталась разуверить его, сказать, что он обидно ошибается в своем подозрении.
На главной улице города царствовал все тот же необъяснимый, при дневном свете, всеобщий сон. На дверях универмага, на гастрономе, на «канцелярских принадлежностях» висели большие гиреподобные замки; глухо и черно было за окнами, оклеенными крест-накрест полосками бумаги. И только в «скупке-продаже» какие-то тени шевелились в полумраке у прилавка. А на выходе на площадь на углу баба в пушистом платке, в мужском пиджаке вынесла на продажу мешок тыквенных семечек и с покорным выражением толстого лица дожидалась покупателей.
На городской площади – Московской, как ее называли с незапамятных лет, – Ольгу Александровну встретили Лена и Федерико. Они вышли с нею вместе, но вскоре опередили и теперь дожидались у входа в райисполком; здесь же, но в другом крыле этого желтого с белыми колоннами здания, построенного еще в прошлом веке, помещался также райвоенкомат. Осенка учтиво поклонился всем и ровным шагом пошел к другому крылу.
– Мы немножко походим вокруг с Федерико, – сказала Лена тетке. – Не возражаешь?
– Только недалеко… Отсюда мы прямо домой. Я прошу вас, мосье Федерико, недалеко! – сказала Ольга Александровна по-французски.
И с досадой отметила про себя, что разговаривала не строго, как следовало бы, а искательным тоном; почему-то этот искательный тон неизменно появлялся у нее, когда она обращалась к Федерико – словно она побаивалась его.
При всех своих заботах и тревогах Ольга Александровна не могла не заметить этой чересчур уж быстро, на ее глазах возникшей дружбы Лены с молодым итальянцем. И мосье Федерико внушал ей все меньше симпатии, по мере того как росла к нему симпатия ее племянницы, а вернее сказать, дочери. Их необычный, как из легенды, гость, отважный и бесприютный, мог, разумеется, рассчитывать в ее семье на доброе внимание. Но внимание, оказываемое ему Леной, было, пожалуй, чрезмерным. Федерико со своей всегдашней отчужденностью, с твердым, нетеплеющим взглядом своих синих, красивых глаз внушал Ольге Александровне робость: рядом с дочерью она предпочла бы видеть другого юношу, более понятного, что ли, пусть даже без легендарной биографии.
– Может быть, мы сегодня наконец все уедем… Ты, во всяком случае, Лена, ты не останешься! И я прошу тебя: надо быть каждую минуту готовой… ты же понимаешь!..
– Excusez-moi[24]24
Простите (фр.).
[Закрыть], – извинилась Ольга Александровна перед Федерико.
Она достала из сумочки платок, отерла уголки губ, потрогала машинально галстучек и, приготовившись молить и настаивать, вся сжавшись внутри, отворила дверь.
В первое мгновение она подумала, что опоздала: в вестибюле, где обычно с утра толпился народ и сидели вдоль стен ожидающие приема, не было ни души; на замусоренном полу громоздились сваленные зачем-то в кучу скамейки. Но вот из глубины, из какого-то кабинета донеслось стрекотание пишущей машинки, и у Ольги Александровны родилась надежда. Покуда стучала где-то пишущая машинка, а следовательно, покуда работала канцелярия, в мире сохранялась еще известная устойчивость.
…Лена и Федерико двинулись по тротуару, огибая обширную, мощенную булыжником, ровную, хоть шаром покати, площадь. Вдали в тени белокаменного, с приземистой аркадой торгового ряда стояла черная эмка и возле нее одиноко прохаживался красноармеец-шофер. Кто-то невидимый, но живой находился еще, быть может, на противоположной стороне площади в ателье «Светотень», как называлась эта фотомастерская; дверь в ателье, под квадратной, синей с золотом вывеской, была отворена и приперта снаружи табуреткой, чтобы не хлопала.
«Надо уже прощаться, – подумала Лена. – Потом, при всех, я не смогу…»
И она заговорила, подбирая самые изящные выражения, какие только знала по-французски:
– Нам осталось совсем мало… Мы расстаемся, мой друг!.. Надолго?.. Навсегда?.. Кто знает?
Она и сейчас словно бы исполняла некий драматический этюд на тему «Прощание». Но это не мешало ей быть искренней – искренней до слез, непрошенно поднимавшихся к глазам. И, слыша в своем голосе эти слезы, она в то же время невольно, будто со стороны, видела и себя, и все вокруг. «Как все необыкновенно: эта пустынная площадь, осень, ветер, война – и наше прощание! – подумала она. – Я и Федерико, и война!.. Как грустно и как необыкновенно!»
С немым вопросом она подняла глаза на своего спутника, ожидая услышать: «А надо ли нам разлучаться?» или, на худой конец: «Условимся, как нам не потерять друг друга». Но Федерико молчал, озирая площадь, поглядывая время от времени на небо.
Ветер завивал быстрые пылевые вихри, кружил желтые листья, сор, бумагу. Бумаги было почему-то особенно много: в воздухе носились разграфленные страницы, выдранные из конторских книг, клочки чьих-то писем. Наискосок, через всю площадь, пролетел газетный лист и, прибившись к уличной тумбе, облепил ее. Небо было беспокойное, бегущее, мчались, меняясь в очертаниях, сизые рваные тучки. И тени от них, порхавшие по мостовой, по стенам домов, наводили на мысль о тенях от самолетов.
– Моя тетушка сказала: уйдешь пешком, если не будет машины… Но я не могу оставить ее одну. Моя бедная тетушка!.. Федерико! – позвала Лена. – Ты не слушаешь меня?
Он повернулся к ней, увидел простенькое – девчонка как девчонка! – личико: каштановый загар на худых щечках, голубенькие, просящие, детские глаза – каждую мысль можно тут же в них прочитать, – увидел сносимые ветром на сторону, выгоревшие до бледной желтизны волосы и покачал головой с видом: «Беда мне с тобой». Теперь это было совсем не возбуждавшее грешных желаний, но единственное «свое», близкое ему здесь существо, не женщина, нет – девочка, младшая сестра.
– Твоя тетушка умная синьора, – сказал он. – Вам всем надо было давно смотаться… Чего вы ждете? Я видел фашизм близко. И тебе его видеть не обязательно.
– А ты знаешь – я его не боюсь. Я его… – она поискала французское слово, – я его презираю.
Но она, конечно, боялась – боялась до того, что у нее схватывало порой дыхание, как от холода. И вместе с тем она переживала томительно-любопытное, нетерпеливое чувство, точно она приблизилась к рубежу, за которым простиралось нечто необъятное, головокружительное, куда тянуло броситься, как с высоты. Впереди ничего еще не было изведано, ни счастья, называвшегося по-другому – любовью, ни несчастья, называвшегося разлукой, ни восторга подвига, манившего издалека, ни испытания лишениями, которых она тоже еще не знала. Впереди была вся ее, Лены Синельниковой, взрослая жизнь… И это странное, называющееся иначе талантом, свойство души: видеть, слушать, ощущать жизнь в ее необыкновенности, в ее богатстве, силе и разнообразии – обольщало Лену. Она вовсе не была мечтательницей, отворачивающейся от реальности, но реальность открывалась перед нею, как подмостки, на которых кипели земные страсти, – она видела себя там и Лауренсией, и Джульеттой. И она вглядывалась в свое будущее – эта маленькая, деревенская Ермолова, – переживая и страх, и соблазн, подобные страху и соблазну дебютантки.
Федерико вдруг засмеялся своим надрывным, как стариковский кашель, смехом.
– Я заметил, когда сдают город, бросают массу бумаги, рвут письма, книги, – проговорил он сквозь смех.
Лена через силу улыбалась, стараясь во всем соответствовать своему бывалому другу.
– Люди любят много писать, когда им ничто не грозит. Они сочиняют тогда целые библиотеки, – странно веселился Федерико. – На бумаге и трус может показать себя храбрецом, и полицейский ангелом. Но когда человеку дают пинка, ему помогают только ноги.
– Ты плохо говоришь о людях. Я удивляюсь! – сказала Лена. – И ты воюешь за людей…
Поглядывая снизу на него, она подумала, что ему идет даже обыкновенная солдатская гимнастерка, чуть тесная для его широко развернутых плеч, выпуклых мышц. Вообще он был хорош и сегодня, даже черно-небритый и взлохмаченный; нестриженые волосы, покрывавшие кольцами голову, делали его похожим на гомеровского героя, на Ахилла, – так, по крайней мере, показалось Лене.
– Я убивал фашистов, потому что не люблю их еще сильнее, – сказал Федерико серьезно.
– Нельзя верить, что фашисты тоже люди, – сказала Лена.
– Поэтому люди мне и не особенно нравятся, – сказал он.
Она опять с трудом улыбнулась непослушными, стянутыми губами. Внутренний озноб, как перед выступлением на сцене, пробирал ее.
– Федерико, ты тоже не можешь остаться здесь, – как бы между прочим проговорила Лена. – Что вы решили с камарадом Осенкой?
Он не ответил, пожал плечами.
– Вам лучше ехать вместе с нами… – Эта внушенная тайным желанием идея давно уже возникла у Лены. – Я уверена – тетя возьмет вас.
Он искоса посмотрел и неприятно, насмешливо осклабился.
Федерико и сам не знал еще твердо, что они с Осенкой предпримут, куда теперь, безоружные, пойдут. Эти обыватели Барановские – пани Ирена и пан Юзеф – побегут, конечно, с русскими женщинами, ну а им, двоим, ничего, видно, не останется, как вернуться в лес. И там снова добыть себе автоматы у каких-нибудь неосторожных Гансов – они двое будут продолжать свою одинокую охоту, что бы ни случилось, и до своего конца! Осенка – идеалист, на что-то еще надеялся: сегодня опять вот отправился к советскому начальнику просить о зачислении в воинскую часть; он, Федерико, рассчитывал, как всегда, только на себя и на «чет» и «нечет», повезет – не повезет!
– Работа для меня найдется и здесь, – сказал он.
– Работа? Какая? – Лена не поняла.
– А какую еще я умею делать? – спросил он.
– О, Федерико! – упавшим голосом влюбленно сказала она.
Конечно же, он опять уходил туда, откуда неожиданно, как и бывает на сцене, в первом акте, появился, – в свою потаенную, полную отчаянного риска жизнь – жизнь мстителя и героя. И бесполезно и оскорбительно было бы предлагать ему какую-то другую роль, что-нибудь мелкое, бытовое.
– Я понимаю тебя, да, да, понимаю!.. – Она отвернулась, чтобы он не видел ее слез. – Нет сейчас работы лучше твоей.
– Есть работа чище, но я уж выбрал себе эту, – сказал он. – Или она меня выбрала.
– Ой, что делается! – вскрикнула Лена по-русски.
И затопталась на месте, закружилась, стараясь обеими руками удержать на коленях юбку, вздувшуюся колоколом. Они уже обогнули площадь, и усилившийся ветер со всей своей яростью напал на них сзади, словно гнал отсюда.
– А еще есть у меня одно дело, меня Янек попросил, – сказал Федерико. – Мне ваш солдат, который лежал с ним, передал.
– Бедный камарад Янек! – борясь с ветром и то хватаясь за волосы, то нагибаясь, чтобы закрыть колени, выкрикнула она. – Он мог еще много жить…
– Янек поживет еще, ничего… Янек не все свои патроны расстрелял, – сказал Федерико.
Он откинулся назад и шел, словно бы опираясь на ветер, дувший в спину, черные кудри прямо-таки кипели на его голове.
– Но Янека уже похоронили! – придерживая волосы, крикнула Лена.
– Не совсем, не торопись, – Федерико, казалось, рассердился. – Янек будет еще убивать нацистов.
– Это ты будешь за него, – сказала Лена.
– Ты упряма и мало что понимаешь, как все женщины, – сказал Федерико.
Под аркадой торгового ряда, куда они вошли, было несколько тише. Лена приостановилась, достала из сумочки косынку, накинула на волосы, повязала под подбородком и повернулась к Федерико, спрашивая взглядом: идет ли ей косынка. Не поняв этого безмолвного вопроса, Федерико отвернулся… Красноармеец, дежуривший возле эмки, влез в свою машину и дал гудок, вызывая кого-то, – длинный, как сигнал воздушной тревоги. Федерико, высунувшись из-под арки, оглядел небо.
– Сегодня они будут бомбить, – сказал он. – Прежде чем войти в город, они обрабатывают его с воздуха. Даже если в городе нет войск.
– Но для чего? Для удовольствия? – сказала Лена.
– Чтобы их боялись – все, кто останется жив.
В небе по-прежнему мчались стаями тучки вперемежку с летучими озерцами бледной лазури; свет дня омрачился, солнце спряталось, и на камнях внизу побежала, быстро расширяясь, бесцветная тень. Лена замолчала, ее поразила мысль, раньше не задерживавшаяся у нее, что и ее может настигнуть немецкая бомба. И уже сегодня – не когда-нибудь, а сегодня – все для нее в один миг могло кончиться, и она никогда не станет актрисой, не сыграет ни Чайки, ни Джульетты, не увидит больше своих добрых теток, не встретится снова с Федерико, не узнает любви… Это было так неправдоподобно, что Лена словно бы замерла внутренне – все в ней застыло, примолкло… Бессознательно стремясь тут же, немедленно опровергнуть эту дикую нелепицу, она огляделась, поискала глазами. И взгляд ее остановился на входе в ателье «Светотень».
– Федерико, там открыто, – обрадовалась она. – Хочешь, мы снимемся? Вместе: ты и я? И останутся наши фото. Хочешь вместе?
Жизнь в реальной жизни и жизнь на фото были, конечно, не одно и то же. Но фото все же по-своему спорило, пусть и тихим голосом, – спорило с полным, с бесследным исчезновением, опровергало его.
– Идем! – Лена сразу повеселела. – Все знают нашего Федора Саввича… Его зовут у нас Рембрандтом. А он вовсе – Федор Саввич. Но он ужасно хорошо снимает. Идем же!
И Федерико не стал возражать, выдумка Лены даже понравилась ему, тем более что никаких фотографий у него сроду не водилось. Случалось, что девчонки дарили ему свои самые обворожительные изображения, но с чего бы он стал их хранить. А тут было нечто совсем другое, почти семейное.
Лена тронула его за руку и быстро пошла, побежала, торопясь к своему бессмертию. Фотография вообще сулила, в известной мере, бессмертие всем, кто пожелает, а ей с Федерико особенно повезло: местный «Рембрандт» был личностью знаменитой в городе – художником, работы которого выставлялись даже в столице. И именно он должен был соединить навечно их двоих.
2
Когда неделю назад Осенка в первый раз пришел к районному военкому, между ними состоялся такой разговор:
– Вы просите вернуть вам оружие и зачислить вас в Красную Армию. Что побуждает вас к этому? – спросил военком. Он был вежлив, внимателен и сух.
– Я коммунист, – очень тихо, точно стесняясь, сказал Осенка. – Я польский коммунист.
Военком поджал губы так, что на его бескровном лице осталась лишь тонкая горизонтальная черточка: ему не понравилась эта стеснительность. Но Осенка не мог иначе: он действительно испытывал странную неловкость, когда говорил: «Я коммунист», – казалось, это было то же самое, что сказать о себе: «я справедливый», «я бесстрашный», более высокого звания он не знал.
– Состоите в партийной организации? – спросил военком.
– Так… – Осенка тоже был в высшей степени сдержан, – состоял в партийной организации.
– Ваш партийный билет с вами? Прошу, – сказал военком бесцветным, шелестящим голосом.
Осенка помолчал; ему приходилось уже отвечать на вопросы о партбилете, и каждый раз он переживал чувство виноватости: у него не было партбилета. Ничем он не мог подтвердить и того, что ему, подпольщику, лишь не так давно вышедшему из подполья, просто не успели еще его выдать.
– Пшепрашам! Я могу предъявить засвядченне…
Очень медленно, что было у Осенки признаком волнения, а вернее сказать, тех больших усилий, которые требовались, чтобы сохранить самообладание, он достал из кармана гимнастерки аккуратный пакетик, сложенный из чистого листа бумаги, развернул и вынул из него свое удостоверение секретаря газеты в Перемышле.
– То ест официальна засвядченне, – сказал он.
Военком внимательно, и с лицевой стороны и с изнанки, оглядел ветхую, в пятнах, распадавшуюся на сгибах бумажку с полустертым текстом.
– Она что, в воде побывала? – спросил он, возвращая бумажку.
– В воде, так само, – сказал Осенка.
И бережно, как хрупкую драгоценность, вновь упрятал в чистый лист свое удостоверение.
– У вас есть какие-либо жалобы на довольствие? – сухо осведомился военком. – На квартирные условия?
– О, что вы? – Осенка повертел головой. – Приношу мою и моих товажышей щирую благодарность.
– Я сегодня же сделаю запрос в отношении вас… – сказал военком. – А пока отдыхайте.
– Нет, – сказал Осенка. – То не можно.
Он медленно встал – высокий, угловатый, худощавый; светлые прямые волосы, отросшие за месяцы странствий, упали ему на глаза, и он всей большой костистой пятерней отвел их за ухо.
– Я польский коммунист, – повторил он совсем тихо, – я тэраз не могу дожидать. Я интернационалист. Мой обовензэк… долг повелевает мне лично идти туда, где тэраз бой. Откладать не можно. Пшепрашам!
Это было неплохо сказано… Но комбриг Евгений Борисович Аристархов слишком много лет просидел на различных административных должностях, чтобы доверять словам, не подкрепленным документами. Он и сам, в неофициальных случаях, полушутя, полусерьезно называл себя бумажным червем, формалистом, порой подумывал даже, что чрезмерная приверженность к форме, именно она помешала ему сделать большую карьеру и в царской армии, и в Красной, в которой он верой и правдой прослужил с 18-го года. Но с другой стороны, это его непоколебимое служение установленному порядку, форме было также источником его профессионального удовлетворения, того душевного покоя, какой дает одно сознание точно исполненной службы. В данном случае у Евгения Борисовича не было особенной причины не доверять этому Войцеху Осенке из Польши, но и оснований для полного доверия у него тоже не было. А решающим обстоятельством являлось то, что и Осенка, и его спутники находились на попечении вышестоящих инстанций, и только эти инстанции могли удовлетворить или не удовлетворить их просьбу.
– Затрудняюсь, товарищ Осенка, что еще я мог бы посоветовать вам, – сказал военком. – Вот так.
Но и после этого «Вот так» его посетитель не удалился; держась прямо и только склонив слегка голову, он стоял перед столом в позе, выражавшей одновременно и подчиненность, и протест.
– Ваша семья осталась в Перемышле? – подождав, спросил Евгений Борисович. – Кто ваши родители?
– Ойтец мой был… листонощь… как это по-русски? – затруднился Осенка. – Носил листы… письма…
– Почтальон, – подсказал военком.
– Так, почтальон. Моя матка швейка.
– Кто у вас остался на территории, оккупированной противником?
– Одна она – моя родная матка. – И Осенка посмотрел куда-то мимо своего собеседника. – Мой ойтец мертвый с двадцатого года.
Военком тоже поднялся.
– Незамедлительно по получении ответа на мой запрос я извещу вас, – сказал он. – А пока отдыхайте. Ждите вызова.
Но, не подождав вызова, Осенка на другой же день опять пришел в военкомат и, терпеливо просидев в коридоре до сумерек, пока коридор не опустел, опять постучался в дверь военкома.
– Добры вечур! Не получен ли какой ответ? – были его первые слова. – Мы слушали сводку Совинформбюро – на всех фронтах идут бои. Дожидать нам не можно, товажыш военком, то будет дезертирство. Пшепрашам!
И у Евгения Борисовича не хватило духу сказать, что вовсе не обязательно являться к нему сюда ежедневно.
Осенка застал его за занятием, которому он, покончив с текущими, срочными делами, неукоснительно отдавался, – этим занятием была стратегия. Сейчас, как и каждый вечер, он наносил на свою большую, занимавшую половину стены карту Советского Союза военную обстановку – переставлял, взобравшись на табурет, черные и красные флажки; в руках у него была газета «Красная звезда» с последними сводками. Само собой разумеется, что это обозначение обстановки носило, к огорчению Евгения Борисовича, самый общий и запаздывающий характер.
Подав руку, Осенка помог военкому сойти с табуретки на пол. Отступив шаг-другой, чтобы охватить взглядом всю линию фронта от полуострова Рыбачий до Черного моря, военком некоторое время размышлял, поджав тонкие губы, потом проговорил:
– Есть основания предполагать, что на юге немецкое командование нанесет главный удар. Куда бы вы думали?.. Я полагаю, в направлении Таганрог – Ростов. Гитлера интересует Кавказ…
Чистенький, бумажно-бледный в своем потертом диагоналевом кителе, он не отрывал глаз от карты, заложив за спину руку с газетой, и вдруг всем легким телом повернулся к Осенке.
– Вчера было сообщение: наши войска оставили Полтаву. После Киева Полтава. – И строго, как бы делая выговор, продолжил: – Фронт против Германии со всеми ее сателлитами держим мы одни – мы, Советский Союз!
– То ест правда, – тихо сказал Осенка. – Потому мы, поляки, здесь, у вас.
Стоя перед картой, они поговорили в этот вечер еще о международной обстановке, о событиях, предшествовавших войне, о постыдно быстрой капитуляции перед фашизмом многих европейских правительств. А когда разговор вновь коснулся Польши, Осенка сказал, что вся вина за бедствия его родины также лежит на буржуазно-помещичьих довоенных правительствах: «Они предавали свой люд за класовэ, эгоистична интересы…»
Он не повышал голоса, не горячился, а как бы даже забывал, что его слушают, устремляя в пространство свои светлые глаза.
– Поляки не сдались, и Польша не сгинела, альбо нас всех возьмут мертвыми. – Это прозвучало у него, как обет. – Но то ест правда, Россия една воюет тэраз и за нашу свободу.
Словом, у него с Евгением Борисовичем обнаружилось полное согласие во взглядах. Но когда он заговорил о самом важном сейчас для него, о том, что и заставляло его приходить сюда: «Просимо у вас оружия, товажыш военком!» – Евгений Борисович остался непреклонным:
– Я направил запрос, надо подождать, порядок есть порядок. – И под конец не удержался: – Отдыхайте пока, товарищи! – А повторив это, он и сам почувствовал неловкость.
На следующий день с тем же вопросом, получен ли ответ, Осенка появился снова, и Евгений Борисович пригласил его к себе домой, в гости.
Жил он теперь одиноко: старший его сын служил на флоте, жена с младшим сыном и с матерью – тещей – уехали в начале войны к родственникам за Урал. И в темной передней их встретила мяуканьем скучавшая в одиночестве кошка; в квартире, однако, было прибрано и проветрено, и Евгений Борисович первым делом стал закрывать форточки. Занимая гостя, он показал ему свою библиотеку, составленную из книг по военному искусству, и, движимый симпатией, которую он уже испытывал к этому настойчивому поляку, снял со стены и дал подержать старую, в золоченых ножнах шпагу с наградной гравированной табличкой: «Начальнику штаба дивизии имени Желябова, военспецу товарищу Аристархову за преданную службу рабочему классу от командования фронта». Шпага была взята в какой-то помещичьей усадьбе, в далеком двадцатом году.
Они проговорили тогда допоздна. Извинившись за холостяцкую простоту угощения, Евгений Борисович поставил перед гостем графинчик с водкой и зажарил ему яичницу; сам он удовольствовался чаем с сухариками и овсяной кашей – он был на диете. А после ужина, убрав все со стола, он принес географический атлас, и они опять погрузились в рассуждения о ходе военных действий… Евгений Борисович поинтересовался обстановкой в оккупированной Польше, стал расспрашивать о партизанском сопротивлении и задал вопрос: не омрачают ли исторические воспоминания, как он выразился, отношение поляков к своему нынешнему естественному союзнику, к России.
– Так, – ответил Осенка. – Так… Но мы, коммунисты, открываем люду глаза на правду.
И медленным голосом с отрешенным выражением лица он сказал, что была Россия царская, была Россия революционно-демократическая и есть Россия Ленина, что была Польша шляхетская и есть Польша пролетарская.
Разговор перешел на историю Польши, и тут, с приятностью для Осенки, выяснилось, что хозяин достаточно с нею знаком: он называл имена Костюшки, Домбровского, Сераковского, вспоминал Краковское восстание, Галицийское восстание, Силезское восстание… Осенка слушал с благодарностью – легкие тени волнения блуждали по его светлоглазому славянскому лицу. А отвечая, он к польским именам вождей освободительных восстаний – этой никогда не прекращавшейся, полной отчаяния и отваги войны – добавил русские имена – Герцена, Огарева, Чернышевского, Потебни, служивших повстанцам и словом, и оружием.
В тот вечер он произвел на Евгения Борисовича не просто хорошее впечатление, – казалось, что за его столом, положив на скатерть крупные, костистые кисти рук, сидел кто-то из этих повстанцев, один из косиньеров Костюшки – такая подвижническая страсть угадывалась в молодом человеке из Перемышля.
Перед уходом в передней Осенка помедлил – он все ждал, не скажет ли хозяин что-либо утешительное по его личному безотложному делу. Но Евгений Борисович как бы и не догадывался даже об его нетерпении.
– Спасибо, что посидели со стариком. Домой-то доберетесь, запомнили дорогу? – только и сказал он на прощание.
Осенка спускался уже по лестнице, когда военком сверху, с площадки, крикнул:
– Фонарик у вас есть? Погодите, я дам своё…
И он сошел в подъезд, чтобы вручить фонарик. Он искренне сочувствовал молодому человеку, но ничего большего не мог, разумеется, для него сделать, не получив указаний.
На исходе очередного, четвертого, дня Осенка, придя в военкомат, не застал военкома: писарь – лысый сержант, перебиравший какие-то папки на полках шкафа, – сказал, что товарища комбрига вызвали на заседание в райком партии. И, прождав терпеливо в коридоре до полной темноты, Осенка так в этот раз и не поговорил с комбригом.
На пятый день он на всякий случай явился пораньше, и военком вышел к нему в коридор. Принять его Евгений Борисович не смог – был занят со своими немногими помощниками спешной работой – и попросил наведаться завтра; может быть, завтра будет уже ответ из армии.
– Завтра, завтра – не сегодня – любимая поговорка чиновников, – сказал он, и слабая усмешка тронула его бритое, дряблой лицо. – Я всего лишь чиновник, военный чиновник.







