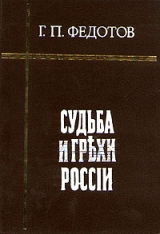
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 54 страниц)
Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н. Я. Марр отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и сестре их Лыбеди – с тождеством самих имен, и вероятным становится незапамятно древнее, «яфетическое» ее происхождение.
Но все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывался со старых насиженных мест с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кия?), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) наКиселевке, русский правительственный центр на Печерске и современный, всего более еврейский, город – Киев, с упадком Одессы, столицы русского еврейства, сливший старые островки и раздавшийся по плоскогорью.
Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко на мазепинском Никольском соборе, – увы, безжалостно изрешёченном ядрами гражданской вой-
==62
ны, – это барокко не лишено и благородства. На Подоле обступает рой почтенных воспоминаний: магистрат с магдебургскими вольностями, Академия Петра Могилы – бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда сквозь толщу Восточной Европы доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борются с ополячением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом возрождении XYII века: Малороссия осознает себя как мятежная Украина, окраина Польши.
Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подосадовать, когда оно облепило, точно слоем жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания о национальном пробуждении Украины-Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной великой эпохе киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славяно-варяжские терема золотое небо святой Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри – стоят, вплоть до самых куполов своих, – с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему – неповрежденная внутри, девственно чистая святая София.
Может быть, южно-русский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образцом русской идеи храма, достигнутым на Владимирском и Hoвгородском севере. Но в святой Софии – едва ли не единственный раз на русской земле– воплотилась идея греческая. Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символике, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно объемля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой святой Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия.
==63
Большинство киевских мозаик – как, впрочем, и римских – не представляют самых совершенных образцов византийского искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но в последние годы – под слоем известки – в Софийском соборе, в Спасе на Берестове – вскрыли ряд фресок-икон, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства – как в Santa Maria Antiqua или перед лицом энкаустических икон, словно недаром вывезенных с Синая в Киев как редчайшая драгоценность епископом Порфирием. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.
Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью – Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый туранской волной, он не сумел создать во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе святой Софии был дан ему вечный символ – не только ему, но и всей грядущей России.
О чем говорит этот символ?
Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.
В жизни России было немало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге – раствориться в романской, то есть латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не басурманство, а эллинство. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначащей случайностью.
Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды ни приносило славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской через восточно-греческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти – культа, культуры, – и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство – хочет оно этого или не хочет – не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции-Византии жи-
==64
вет Греция классическая, созревающая ко Христу, а ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву как первенцам и законным наследникам. Неизбежный для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, то есть латинское, посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духовная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности. Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий – то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции и больше нигде связываются в один узел все пути мира. Рим – ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре, и на закате его истории – и в Микенах, и в Византии – обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который подвесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.
==65
3 Г. П. Федотов. Том I
ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ИЗВИНЕНИЯ АВТОРА
Читатель: Опять! Как можно ставить такую бездарную тему? Вы возрождаете традиции толстых журналов 90-х годов. Неужели с вас мало возов бумаги, исписанных народниками и марксистами?
Автор: Вы могли бы прибавить к ним и Александра Блока. Не говорит ли вам это имя о том, что мы имеем дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего?
Читатель: Но откуда ваша уверенность в том, что после стольких почтенных предшественников вам удастся сказать новое слово?
Автор: Это не самомнение, просто счастливая позиция. Я хочу сказать: наше общее историческое место. Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество – видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Мы – пусть пигмеи – вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может быть, высота креста, на который поднята Россия... Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, .как целина, ждущая плуга. Что ни тема, то непочатые золотые россыпи.
Читатель: Гм, вот не подумал бы, читая весь этот вздор, который пишут о России люди, ущемленные революцией.
Автор: Да, ущемленные... Те, что не хотят видеть. Простите за несколько классических сентенций: истина открывается лишь бескорыстному созерцанию. Очищение от страстей – необходимое для нее условие. И прежде всего от духа злобы.
Читатель: Посмотрим, насколько вам это удастся. Мне это кажется даже чем-то бесчеловечным.
Автор: «Человек есть нечто, что должно быть преодолено». Еще одна цитата.
Читатель: Допустим, но все-таки ваша тема... Она уже потому мне представляется дикой, что революционная Россия изжила противоположение интеллигенции и наро-
==66
да. Правда, в значительной мере ценой уничтожения интеллигенции, Эта тема русской историей уже исчерпана.
Автор: Вот это именно мне и хотелось бы исследовать.
MORE SCHOLASTICO
Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не только «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, это слово, то есть понятие, обозначаемое им, существует лишь в нашем языке. Разумеется, если не говорить об intelligentia философов, которая для Данте, например, значила приблизительно то же, что «бесплотных умов естество». В наши дни европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но неудачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем.
Правильно определить вещь – значит почти разгадать ее природу. В этом схоластики были правы. Трудность – и немалая – в том, чтобы найти правильное определение. В нашем случае мы имеем дело с понятием историческим, то есть с таким, которое имеет долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно создано не потребностью научной классификации, а страстными – хотя идейными – велениями жизни. В этой жизни полны определенного и трагического смысла нелепые на Западе антитезы: «интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы должны исходить из бесспорного: существует (существовала) группа, именующая себя русской интеллигенцией и признаваемая за таковую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывавшейся над своеобразием своего положения в мире: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем истории «русской литературы», «русской общественной мысли», «русского самосознания» много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции в одном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция ав-тентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буддийской церкви, например, если будем игнорировать церковную литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется слепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое в чем он прислушается и к голосу противников, взор которых обострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не то, самое главное, что составляет природу вещи – ее essentia.
Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы
==67
сразу же убеждаемся, что он не способен подарить нам готового, «канонического» определения. Каждое поколение интеллигенции определяло себя по-своему, отрекаясь от своих предков и начиная – на десять лет – новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила она сама в вечной жажде самосожжения.
«Incende quod adorasti. Adora quod incendisti».
Завет святого Ремигия «сикамбру» (Хлодвигу) весьма сложными литературными путями дошел до «Дворянского гнезда», где в устах Михалевича стал исповедью идеалистов 40-х годов:
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
За идеалистами – «реалисты», за реалистами – «критически мыслящие личности» – «народники» тож, за народниками – марксисты, – это лишь один основной ряд братоубийственных могил. Но, отрицая друг друга, отрицая даже «интеллигенцию» как таковую (марксизм), братья-враги одинаково видели ее: живую историческую личность в ее скитальчестве от Новикова и Радищева до наших дней. Во всех «историях» русской интеллигенции мы встречаем одни и те же имена. Не согласные в определении понятия, канонические авторы согласны в его объеме. Из объема мы и должны исходить. Для исторического понятия объем не произволен, а дан. Признаки определения должны его исчерпать, не насилуя, как платье, сшитое по мерке. Попытаемся установить этот объем, ощупью, примеряя и исключая то, что не является русской интеллигенцией. Прежде всего ясно, что интеллигенция – категория не профессиональная. Это не «люди умственного труда» (intellectuels). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно и ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже профессоров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но имеющий свой неписаный кодекс – чести, нравственности, – свое призвание, свои обеты. Нечто вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классовой, феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как ин-
==68
теллигенция связана с классом работников умственного труда.
Что же, быть может, интеллигенция – избранный цвет этих работников, людей мысли по преимуществу? И история русской интеллигенции есть история русской мысли без различия направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, Победоносцева, Козлова, Федорова, Каткова – беря наудачу несколько имен в разных областях мысли.
Идея включить Феофана Затворника в историю русской интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудовищности. А между тем влияние этого писателя на народную жизнь было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из кумиров русской интеллигенции.
Попробуем сузиться. Может быть, еп.Феофан, Катков и Победоносцев не принадлежат к интеллигенции как писатели «реакционные», а интеллигенцию следует определять как идейный штаб русской революции? Враги по крайней мере единодушно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и считают возможным ее уничтожение – не мысли же русской вообще, в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была готова смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря уже о том, что очень значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут быть причислены к революционерам славянофилы? И еще: заметьте, с какой нежностью историки русской интеллигенции говорят о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи «Бородинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все прощают – и не только как временное падение, искупленное сторицею. Нет, при всем своем политическом пафосе русская интеллигенция проявляла иногда и бескорыстие, умела ценить героическую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Умела ценить идеализм как таковой. Да, но не всякий. И не всякого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофилов, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печерина, Вл. Соловьева, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева – как богословов, – уж конечно, не по пристрастию к католичеству.
Есть в истории русской интеллигенции основное русло – от Белинского через народников к революционерам наших дней. Думаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное место. Никто, в самом деле, столько не философствовал о призвании интеллигенции, как именно народники. В этот основной поток втекают разные ручьи, ничего общего с народничеством не имеющие, которые го-
==69
ворят о том, что интеллигенция могла бы идти и под другими знаменами, не переставая быть сама собой. Вдумаемся, что объединяет все эти имена: Чаадаева, Белинского, Герцена, Писарева, Короленко, – и мы получим ключ к определению русской интеллигенции.
У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику, и общественное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаемом к жизни как ее норма и канон. Эта «идея» не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба, рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью– землей. Афины против Геи – в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской трагедии, то есть трагедии русской интеллигенции.
Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Они не вымышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, подслушано у друзей, второе, отрицательное, – у врагов (Страхов). Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-истина и правда-справедливость (знаменитое определение Михайловского). Последняя является теоретически производной, но жизненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьма далек от подлинно философской ratio. К чистому познанию он предъявляет поистине минимальные требования. Чаще всего он берет готовую систему «истин» и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность замещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость: догмат, понимаемый рационалистически, святость – этически, с изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных основ религии. Догмат определяет характер поведения (святости), но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, освящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Такая система обыкновенно не способна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системою догм, и этой гибели идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а буквальная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся мучениками.
«Беспочвенность» вытекает уже из нашего понимания
==70
идейности, отмежевывая ее от других, органических форм идеализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной культуры, от национальной религии, от государства, от класса, от всех органически выросших социальных и духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лишь более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму, уже не совместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отрыв становится срывом, который грозит каждому поколению русской интеллигенции – не одним шестидесятникам. Срыв отчаяния, безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когда идея, висящая в воздухе, уже не поддерживает падающего, уже не питает, не греет и становится, видимо, для всех призраком.
Только беспочвенность как идеал (отрицательный) объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по-своему тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский и множество других. Все они почвенники – слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонтьеву войти в пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой – демоном, а не святым, – чем этим гуманнейшим русским людям; здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Вл. Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно «беспочвенной почве» вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности.
Так, примеряя одно за другим памятные имена русской культуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интеллигенции подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и раскрывая друг друга, они дают необходимое и достаточное определение: русская интеллигенция есть
==71
группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.
В дальнейшем мы делаем попытку в размышлении над общеизвестными процессами русской истории дать посильный ответ на вопросы: как возможна интеллигенция в указанном понимании, когда она возникла в России и может ли она пережить революцию?
История русской интеллигенции есть весьма драматическая история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог – и даже два.
ПРОЛОГ В КИЕВЕ
Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или с потопления Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для трагедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая связь. Принятие христианства варварским народом всегда есть акт крутой и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилась и германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов. У нас процесс истребления славянской веры, по-видимому, протекал даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитивнее германского. Призвание варягов – иначе, иноземное завоевание, кладущее начало русской государственности, – тоже не наш лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национально чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это не помешало пришельцам и на Западе, и у нас быстро раствориться в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственный характер варяжских экспедиций на Руси не столь резко выражен, подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начальной легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемных сторожей на службе городских республик.
Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли – по крайней мере на памяти истории – как сила чуждая против народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мнихи» Древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее интеллигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, а вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность... Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Они были учителями признанными, хотя и не всегда терпеливыми. При всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жестоких
==72
нравов церковный проповедник далек от сознания пропасти, отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой живет русская интеллигенция средины XIX века.
Киевская культура аристократична. Она не питается народным творчеством. Она излучается в массы от княжеских теремов и монастырей, и хотя рост ее в народной среде протекает страшно медленно, но органично и непрерывно. Конечно, это только прививка на грубом славянском дичке, но он весь перерождается под действием прививки. И эта органичность вполне понятна. Новое не ложится поверхностным слоем, «культурным лоском» поверх старого быта. Оно завоевывает прежде всего сердцевину народной жизни – его веру. Здесь нет сомнений и разлада. Суеверия, обвивающие веру, не разлагают ее. И вера освящает всю культуру, всю книжную мудрость, которая идет за ней.
Византинизация русской жизни, конечно, не закончилось в Киеве. Массы, быть может, лишь к XYII веку, органически в своем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий, нравственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и княжеские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой» цареградского двора. Так отголоски церемониала Константина Багрянородного докатились до черных курных изб Заочья и Заволжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, поражают нас на Русском Севере строгостью быта, аристократической утонченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» обхождения.
И все же именно в Киеве заложено зерно будущего трагического раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих пор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того, в нем всегда видели наше великое национальное преимущество, залог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду славянскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше коренное отличие в самом исходном пункте от латинского Запада. На первый взгляд, как будто славянский язык церкви, облегчая задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчужденной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но какою ценой? Ценой отрыва от классичес-кой традиции. Великолепный Киев XI—XII веков, восхищавший иноземцев своим блеском и нас изумляющий останками былой красоты, – Киев создавался на византийской почве. Это, в конце концов, греческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной культуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, философская, литературная традиция Греции отсутствует. Переводы, наводнявшие древнерусскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного:
==73
проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древний церкви осталась почти чуждой Руси. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (Yl—YIII), монах читал Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читал римских истори ков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключом – латынью, чтобы им отворились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура – задолго до Возрождения.
И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить как дар («а прочее приложится») научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но зато эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, рождался университет – в «золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, – ничего, кроме подвига печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, такой летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.
Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский язык – гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это ведь тоже потому, что на нем и только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры), находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).
Все это так. Но этот великолепный язык до XYIII века был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский, язык, несмотря на обилие иностранных терминов, лишен некоторых основных слов, без которых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостями» и «воззрениями» мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого. А за органичность Древней Руси – глубоким расколом петербургской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции.
==74
Монах и книжник Древней Руси был очень близок к народу – но, пожалуй, чересчур близок. Между ними не образовалось того напряжения, которое дается расстоянием и которое одно только способно вызывать движение культуры. Снисхождению учителя должна отвечать энергия восхождения – ученика. Идеал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и напрячь все духовные силы. Это как движение жидкости по трубам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда достигается непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по слову Данте: «Tutti tirati sone tutti tiranu» – «Все влекутся, и все влекут».
Русская интеллигенция конца XIX века столь же мало понимала это, как книжники и просветители Древней Руси. И как в начале русской письменности, так и в наши дни русская научная мысль питается преимущество переводами, упрощенными компиляциями, популярной брошюрой. Тысячелетний умственный сон не прошел даром. Отрекшись от классической традиции, мы не могли выработать своей, и на исходе веков – в крайней нужде и по старойленности – должны были хватать, красть (compilare) где и что попало, обкрадывать эту нищающую Европу, отрекаясь от всего заветного, в отчаянии перед собственной бедностью. Не хотели читать по-гречески – выучились по-немецки, вместо Платона и Эсхила набросились на Каутских и Леппертов. От киевских предков, которые, если верить М.Д. Приселкову, все воевали с греческим засильем, мы сохраняли ненависть к древним языкам и, лишив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его «вершками», засыхающей ботвой.








