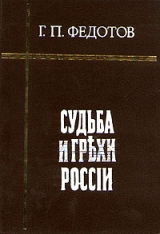
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 54 страниц)
==293
давно уже стал синонимом европейской демократии. В самом рождении своем социализм несет печать двойственности. Как отрицание буржуазии и революции, приведшей ее к власти, он с самого начала имел в себе черты авторитарного мировоззрения. Таков социализм Сен-Симона. Таков социализм всех утопий, многие из которых (Мор, Кампанелла) восходят к традициям абсолютизма. Таков социализм многих реакционеров XIX века, Родбертуса иРёскина – правда, лишенный актуального значения. Но исторически социализм сформировался как левый фланг революционного движения. Еще в 40-х годах социалисты сражались плечом к плечу с буржуазными демократами. Веяние Великой Революции колыхало красное знамя. Ставя ударение на равенстве, социалисты не отвергали и свободы. Далекие от отрицания революции, они лишь хотели сделать из нее последние выводы: равенство – экономическое; свобода – для всех. Это сглаживало антилиберальные шипы социализма, помогало его буржуазному перевоспитанию.
Что касается Маркса, то он стоит посредине между революционным и реакционным течениями социализма. Он, несомненно, глубоко ненавидел идейное содержание буржуазной революции: свободу, равенство и братство. Но столь же несомненно он принимал ее разрушительное дело. При всем теоретическом конструктивизме своего ума, Маркс не интересовался строительством жизни. Он не удосужился хотя бы намекнуть на то, как будет выглядеть осуществленный социализм. Разрушение – точнее, построение мощных машин для разрушения – было единственным смыслом его жизни. Поскольку ненависть к личности и свободе к нему доминирует, его психический тип приближается к типу реакционера. Да и в своих непринужденных личных оценках он всегда предпочитал деятелей реакции либералам. Его ученикам пришлось много потрудиться, чтобы отмыть черную краску с портрета Учителя.
Лассалеанцы духовно победили в лагере немецкого социализма и превратили партию социального переворота в партию социальной демократии. Германская партия, в свою очередь, на своих дрожжах подняла весь европейский социализм. В настоящее время он оказывается почти тождественным с европейской демократией. Исчезновение либеральных партий в Англии и Германии показывает, что социализм впитал в себя все содержание буржуазной демократии – без экономического либерализма, конечно, отвергнутого жизнью. Замечательно, что новейшие определения демократии – ее природы и ее идеи – странным образом отправляются не от власти народа, но от ценности личности. Но личность и ее свобода составляют метафизи-
==294
ческое основание либерализма. Это значит, что под демократией в настоящее время понимают либерализм, имя которого скомпрометировано устарелой экономической доктриной. Как ни странно сказать, но либерализм, социально окрашенный, составляет главное содержание и современного социализма. Вот почему либеральная буржуазия Европы охотно поддерживает социалистические правительства; ей при этом почти не приходится приносить жертв. Подобно тому, как буржуазия получила в наследство от дворянства сознание личного достоинства и общую культуру, так пролетариат делается наследником буржуазной культуры и свободы.
Однако это наследие буржуазии далеко не безвредно для социализма. Чего стоит одна прививка буржуазного миросозерцания! Это настоящая отрава, которая вошла в тело социализма – с самого его рождения. Если дворянство привило буржуазии дух Вольтера, то буржуазия пролетариату – догматический материализм. Отсюда вырастает мелкая и даже пошлая система жизненных и нравственных ценностей, которая воспитывает в рабочем, едва остывшем от революционного пыла, гедонизм мелкого буржуа. Материальный подъем рабочего класса составляет громадную заслугу социального движения XIX века. Однако оборотной стороной ее является выветривание социального идеала. По мере того как рабочий входит в мир интересов буржуазного общества, участвует в его управлении и защите, он все менее думает о его переустройстве. Все силы социализма в Германии направлены на защиту республики, в Англии – на управление мировой Империей в духе национального либерализма. Это великие и достойные задачи. Но во Франции уже социализм представляет просто отряд радикализма, занятого травлей кюре и борьбой за парламентские кресла. Гипертрофия политики замечается всюду: и это в то время, когда значение политических проблем во всем мире отходит назад перед проблемами экономическими. Демократический социализм сейчас нигде не имеет продуманной и глубокой социальной программы. Ему нечего противопоставить соблазнительным демагогическим лозунгам гитлеровцев и коммунистов.
Эта социальная немощь лишь отчасти объясняется «остепенением» старого социализма, пониманием всей трудности социальной проблемы. Отсутствие настойчивых исканий, постоянного упора в этой области свидетельствуют об общем буржуазном перерождении.
Социальный консерватизм старого социализма объясняет успехи коммунизма в рабочей среде Европы. Коммунизм один ставит социализм в порядок дня и обещает быстрое и легкое его завоевание. Как идеологическое явление,
==295
коммунизм не представляет ничего нового. Это уцелевший обломок левого социализма, повторяющего допотопный марксизм 40-х годов. Однако торжество его в России сообщает ему новую и опасную определенность. Оставим в стороне чисто русскую природу большевизма и вглядимся в его европейское лицо. Ленин стоит ближе всех к Марксу «Коммунистического манифеста». Но оставленную Марксом бессодержательную формулу диктатуры пролетариата он заполняет определенным содержанием: полицейским абсолютизмом рабочего государства. Тем самым черная краска снова густо ложится на красный портрет Маркса. От революционного фашизма коммунизм отделяет лишь классовая рабочая структура государства и – до времени или по видимости – вненациональный характер государства. Влияние Москвы в революционной Европе, подражательность западных учеников не сулит ничего доброго в случае переворота. После Ленина пролетарская революция в Европе означает политическую и духовную реакцию.
Так два социальных стана стоят друг против друга: черно-красное знамя социальной революции и бледно-розовое– социального порядка и свободы. Победа означает построение рабочей или внеклассовой деспотии с подавлением духовной культуры и медленным угасанием культуры вообще. Победа второго не обещает выхода из тупика. Не разрешившая экономической проблемы Европа идет от кризиса к кризису, к обнищанию и упадку. Но лишь в этом стане, хотя слабыми руками и устаревшим сознанием, готовы защищать свободу.
Где же выход? Где та сила, третья между двумя противниками, которая способна начать творческое возрождение? Которая означала бы не свободу против строительства и не революцию против свободы, а свободное строительство?
Из анализа разрушительных идей нашего времени уже вытекает структура творческой идеи-силы: она должна соединить в себе утверждение свободы и утверждение организации. Как возможно это, если организация покупается за счет свободы? Очевидно, путем самоограничения свободы. Но для того чтобы самоограничение свободы было действительно свободным актом, а не стыдливой формой насилия, в свободе должны быть определены разные уровни глубины, или разные степени онтологической реальности. Утверждая себя на последней глубине, в подлинной реальности своего бытия, свобода может и должна ограничить некоторые свои обнаружения: вовне, в быту, в жизненно-хозяйственном порядке. Во имя чего? Во имя уважения к свободе других людей, их жизни, их достоинству, их спасению. Экономический строй капиталистического общества уничтожает реальную свободу масс, свободу их духовной
==296
жизни, даже свободу их труда ради проблематической хозяйственной свободы немногих. Экономическая свобода приводит, в масштабе целого общества, к своему собственному отрицанию. Она и должна быть ограничена, подобно тому как неизбежно ограничивается, в процессе осложнения цивилизации, свобода внешнего быта: постройка жилищ, движения по улицам и дорогам, даже шумов и звуков. Теоретически это давно и всеми признано. Но жизнь требует не маленьких жертв, не фискальных и полицейских ограничений, а широкого и смелого плана социальной реформы. Подобно тому, как в наши дни строятся по плану новые города, города-сады, так же должен быть создан и осуществлен план нового общественного града. Но, чтобы с самого начала новый град не сделался гигантской тюрьмой, в основе его учредительной хартии должна быть положена неприкосновенность духовной свободы личности. И не только выражена в букве хартии, но и воплощена во всем стиле творимой культуры. Опасность действительно велика. Для огромного большинства человечества хозяйственная деятельность есть единственная форма культурной активности. Утрата хозяйственной свободы может повлечь за собой закрепощение и других, более глубоких сфер жизни. Нет государства более могущественного, нежели то, которое держит в своих руках источники материального существования. Большие духовные силы должны быть противопоставлены ему, чтобы защитить духовный мир человека. Под духовным миром мы понимаем не только глубину личной совести или мысли, по отношению к которым не властно никакое внешнее принуждение, но и социальную сферу духа – культуру, которая возможна лишь как свободная гармония личных творческих актов. Перед культурой, то есть перед выражением мысли и художественно-этической воли должно остановиться общество со своим организационным планом. Преступна самая идея организации культуры.
Между миром духовной культуры – сферой личной свободы – и миром хозяйственного и технического быта – сферой общественной организации – лежит промежуточная сфера политики. Политическая свобода не имеет той непосредственной ценности, как свобода культурная. Ее объем, то есть зависимость гражданина от государства, колеблется в зависимости от разных исторических необходимостей или случайностей. Права гражданина не подлежат столь точному и принципиальному определению, как права человека. Глубокая экономическая перестройка общества не может не повлечь за собой изменения всего политического строя. Трудовое общество, весьма вероятно, найдет для себя новые формы демократии, отличные от общества
==297
буржуазного. Это особая, сложная тема, которой не стоит затрагивать попутно. Однако вот что необходимо подчеркнуть со всею решительностью: не может быть свободы культуры там, где ничем не ограждены права гражданина. Самодержавное государство – все равно, монархия или демократия – не способно остановиться перед кругом духовной свободы. Прежде всего потому, что отсутствуют точные грани между политикой и культурой. Правительство, пользующееся монополией прессы или хотя бы цензурой политической печати, не замедлит распространить эту монополию или цензуру на научную, философскую, религиозную мысль. Опыт современных диктатур достаточно показателен. С другой стороны, нельзя безнаказанно унижать и самую природу политической активности. Но политика неотъемлема от социальной природы человека: она тесно сращена с социальной этикой. Политика – не только борьба за интересы, права или привилегии, но и за общественные идеалы. Отмирание политики для огромной массы человечества означает отмирание социального сознания вообще. Культуры, построенные на отрицании общегражданской политики, – царства Востока или Россия – обнаруживают огромные провалы в своей иерархии ценностей. Обидно, когда политические страсти отнимают слишком много духовной энергии. Но опыт учит, что умирание политических страстей постепенно ведет к угасанию и высших культурных энергий: к духовному застою и «органической» окаменелости.
Возвратимся на минуту к самой низшей – экономической – культурной сфере. Даже здесь полное, стопроцентное убийство свободы означает убийство самой хозяйственной жизни. Без творчества, то есть без некоторой свободы работника и организатора, не может быть ни технического прогресса, ни даже сохранения достигнутого уровня. Если опыт коммунизма имеет какое-нибудь значение для мира, не только для России, то именно как опытное доказательствоневозможности абсолютного огосударствления хозяйства. Государство-вампир, эксплуатирующее нищих рабов, – такова, думается, не только русская, но и мировая схема «интегрального» социализма. Свобода должна быть существенным ингредиентом в социализации производства. Государство не может быть единственным субъектом хозяйства. Да и вопрос еще: государство ли возьмет на себя задачу хозяйственной организации или другие органы общественности: синдикаты, кооперативы, муниципальные союзы? Этот вопрос, или комплекс вопросов, и составляет главное содержание социальной проблемы нашего времени. Не индивидуализм и не этатизм в хозяйстве, а неизвестное,
==298
искомое сочетание личных и общественных сил – такова тема истинного «социализма».
Градуация свободы в хозяйственной жизни, градуация ее во всей культуре, в соответствии с подлинной иерархией ценностей, – таково задание нового града, не новой утопии, а насущнейшего, практического дела современности.
Но осуществимо ли оно? Не является ли утопией сама вера в возможность разрешения современного социального конфликта? Мы этого не знаем. Даже если бы и знали (то есть предполагали) это, долг требует напряжения всех сил для предотвращения гибели. Но кто может сказать, что он знает неотвратимость рокового конца? Нынешнее положение Европы очень мрачно и, по-видимому, ухудшается с каждым годом. Но два социальных стана, на которые она распалась, стан свободы и стан организации, сохраняют приблизительное равновесие сил. Каждый из них защищает социальную идею большого силового напряжения. В мире не до конца иссякли идеалистические энергии. Горе в ихразделённости, в ложном (ибо слишком однородном) сочетании сил. Необходимо новое переключение сил, новая перегруппировка элементов. Такое переключение мировых сил возможно. Оно не раз происходило в истории, всякий раз сопровождая рождение новой великой идеи. Идея – огромная сила в истории – конечно, не всякая, не случайная, не соответствующая исторической необходимости или долженствованию. Рождение фашизма на наших глазах было последним историческим чудом идеологического порядка. Фашизм не связан ни с одним определенным классом, ни с одной из старых социальных сил. Но дав возможность кристаллизации большой исторической идеи, выразившей почти всеобщую потребность – идеи национальной организации, – он стал силой, высшей всех классов и самого государства. Старый социализм сам был примером власти идеи. Он не столько вырастал из классовой борьбы пролетариата, сколько сам создавал ее; более того, создал самый пролетариат как класс. Ослабление социализма в наше время, время его большого численного роста, связано именно с упадком его идейной напряженности. Силы, которые он вел за собой, за знаменем социальной организации, отливают от него в черно-красный стан фашизма.
Новая идея – свободного строительства, – которой жаждет погибающий мир, может оказаться бессильной и безжизненной, если ее принять рассудочно, как компромисс или синтез двух сил. Ненавидящие друг друга силы не примут компромисса. Миром управляют страсти, а не рассудочные соображения. И невозможен искусственный синтез противоборствующих органических сил, как невоз-
==299
можен, например, духовный синтез Франции и Германии. Но идея свободного строительства или вольного строя может явиться не отвлеченной, а органической, поскольку она рождается из целостной религиозной глубины. Не в создании новой религии – бессмысленное начинание! —и не в ожидании ее откровения – надежда на реализацию идеи. Эта религия существует. Она вечна. В христианстве – и только в нем – утверждается одновременно абсолютная ценность личности и абсолютная ценность соборного соединения личностей. Это достаточно выяснено русской богословской школой. Именно в ней показаны и возможности социального приложения конкретной идеи Церкви. Правда, мы знаем также, что эти драгоценные социальные выводы до сих пор не были сделаны. Из последней духовной свободы не вытекала ни свобода культуры, ни свобода гражданственности. Да и положительная социальная активность Церкви сильно упала за последние века. Однако именно теперь Церковь начинает выходить из векового социального «паралича». Это факт бесспорный для всякого, даже антицерковного наблюдателя мировой жизни. И – факт еще более значительный: новая общественная активность христианских Церквей не имеет никакого привкуса реакции, как в XIX или XVIII веках. В недрах христианства рождается новое социальное сознание. Всего ярче оно в англиканстве и некоторых течениях кальвинистического протестантизма. Особенно сильные новые течения в христианской молодежи всех исповеданий. Молодежь – это завтрашний день истории. Если судить по ее настроениям о завтрашнем дне, то три силы борются за господство в мире: фашизм, коммунизм и социальное христианство, Социальное беспокойство живет и в католичестве, живет и в православии. Пусть православная молодежь русской эмиграции соблазняется фашизмом. В самом православии заложено всего более основ для свободной общественности, хотя исторические условия чрезвычайно затрудняют ее актуализацию. Малое облачко на горизонте. Но– такое облачко несло когда-то для Илии обетование благодатных гроз, пролившихся дождями над измученной от засухи землей.
Когда христианство явит себя миру как сила общественная, его малое, но крепкое верой ядро снедается центром притяжения и кристаллизации всех живых в мире и творческих сил. Произойдет великая перегруппировка. В первую очередь призваны к положительному творчеству социалистические силы, ныне лавирующие бездейственно между либерализмом и коммунизмом. Зарождение религиозных групп в социализме – явление очень значительное и новое. Еще более значительно то, что религиозные группы в социализме проявляют всего более социальной (в
==300
отличие от политической) активности. Это указывает направление исторической магистрали. Среди буржуазии, особенно христианской, найдутся группы, способные поставить общественное или национальное спасение выше классовых интересов. Интеллигенция по природе и социальной чуткости своей должна идти за мощной и творческой идеей. Новая, третья социальная сила, подобно фашизму, не может быть классовой, но всенародной. И, подобно социализму, она не может быть только национальной. Для христианской совести, как и для современного хозяйства, земной шар уже стал единым живым телом.
Будет ли так, мы не знаем. И это хорошо, что мы не знаем, что будущее скрыто от нас. Человечество всегда может погибнуть. И погибнуть оно может на разных путях: в коммунизме, в фашизме или в буржуазном разложении. Но спастись оно может только в христианстве.
==301
ТРАГЕДИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ СВЯТОСТИ
Когда мы вдумываемся в трагическую судьбу древнерусской культуры – и прежде всего русской Церкви, – для нас трагедия эта воплощается в двойном и взаимно связанном расколе конца XVII века: раскола раскольничьих стрелецких бунтов, и не было более ожесточенных врагов его дела, чем последователи «старой веры». Петр продолжал в государстве и быте реформу, начатую Никоном в Церкви. Реформа Никона была скромна и совершенно ортодоксальна, реформа Петра, ломала все устои древней жизни. Но приемы своего проведения, по своей насильственности реформа Никона уже предвещала революцию Петра. И в обоих случаях эта насильственность, принимавшая характер жестокого гонения была до известной степени вынужденной. Оправданием ей может служить склероз русской жизни, окостенелость ее, которая не допускала органического обновления. Старина не хотела обновляться, ее приходилось ломать – ради сохранения бытия самой России. Роковые последствия этой церковно-государственной революции слишком известны, слишком болят еще в нас, чтобы на них стоило останавливаться. В религии – конец византийской «симфонии» Церкви и государства, ведомственное включение Церкви в государство, порабощение епископата, принижение духовенства, утрата Церковью надолго своего национального лица, при переходе водительства к малороссам с их католизирующими, отчасти протестантскими тенденциями. Наиболее страшное – полная секуляризация культуры, отпад влиятельной части интеллигенции от Церкви и даже от христианства. На противоположном полюсе, в народных глубинах, – горячая, но темная религиозность, плодящая изуверские секты, в отрыве от Церкви засыхающая, безблагодатная, не творческая, но все же мощная рядом с видимой слабостью господствующей Церкви.
Возвращаясь к исходному моменту кризиса, мы стоим перед склерозом XVII века, требующим объяснения. Теория «бытового исповедничества», усматривающая в нем самую природу русской религиозности, может служить лишь к оправданию старообрядческого раскола, но не удовлетворяет того, кто умеет различить в древней Руси богатое цве-
==302
тение духовной жизни. Окостенелость XVII века в основном стволе русской культуры – несомненно, явление упадническое, а не первичное. Вещественным выражением ее может служить сухость московской иконописи XVII века (до немецких влияний), немощное завершение могучей русской живописи XV – XVI веков. Политическому и религиозному кризису XVII века должен был предшествовать иной кризис, который обновил цветение русской культуры. И этот кризис – мы знаем, когда и как он развивался и чем закончился. Он тщательно, хотя, быть может, и недостаточно изучался историками русской культуры. Но он никогда не был оценен во всем его значении и во всех последствиях. Это кризис начала XVI века, известный под именем борьбы«осифлян» и «заволжцев». От духовного кровопускания, которое русская Церковь претерпела в княжение Василия III, она никогда не могла оправиться совершенно. Но, чтобы уяснить себе весь смысл этого явления, надо поставить его в связь с основной линией развития духовной жизни в Древней Руси.
2.
Многие думают, что духовная жизнь есть нечто неподвижно пребывающее в глубине изменчивого потока истории. Историк, даже историк Церкви, редко заглядывает в эту глубину. Сложная композиция его картины сплетается из взаимодействия духовных начал с мирскими, Церкви с государством, обществом, культурой. За вопросами права, организации, культуры едва брезжит духовная жизнь, не требующая объяснений, но ничего и не объясняющая, – неизменная предпосылка христианской общественности. Живая святость находит себе место в популярной агиологической легенде, но не в научной истории. Почему? Неужели невозможно освоить легенду и научному исследованию усмотреть за литературной схемой живое и, следовательно, развивающееся явление, разглядеть под нимбом конкретные личные и национальные черты. Эта работа для русской Церкви – еще в зачатке, но сделанного достаточно, чтобы поставить главные вехи: чтобы в соборе русских угодников различить поколения учеников, несущих и обогащающих греческую традицию духовной жизни. Развернутый во времени ряд этот показывает не одно преемство традиции, но и вновь загорающиеся очаги, моменты подъема, стояния и упадка, наконец роковое раздвоение – бифуркацию XVI века. Схематически это развитие духовной жизни в Древней Руси отмечают следующие
==303
имена: Феодосии Печерский – Сергий Радонежский – Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. В эту линию, разумеется, включаются лишь носители духовной жизни в узком смысле слова: подвижники-аскеты, иноки и пустынножители, чин преподобных. Вне его остаются не только святители, но и многочисленные святые миряне, столь характерные для древнерусской святости. Но как ни существенна мирянская святость для русского типа православия, она все же никогда не являлась центральной, сама питаясь духовной энергией, истекающей из монастыря или пустыни. С другой стороны, она обнаруживает гораздо большую статичность. Трудно усмотреть следы развития в облике святого князя Древней Руси, а русский юродивый, «блаженный» сохранился в своих основных национальных чертах до наших дней. Динамичным, развивающимся в истории и определяющим историю – как ни странно это может показаться на первый взгляд – остается наиболее отрешенный от мира и истории, наиболее обращенный к вечности тип святости: лик преподобных.
3.
С Феодосием и Антонием Печерским греческий идеал монашества впервые вступает на русскую землю. У святого Антония не было и не могло быть русских учителей. Он учился в Греции, на Афоне, как и Феодосии заимствовал из Константинополя Студийский устав. Влияние греческих житий в биографии св. Феодосия, составленной Нестором (житие св. Антония не дошло до нас), несомненно. Шахматов и Абрамович вскрыли всю мозаику его литературных заимствований, не нарушающую жизненной правдивости его иконописного портрета. Греческое и русское здесь легко наслаивается друг на друга, и притом так, что выделение национальных черт не является невозможным.
Несомненно, что для преп. Феодосия, в изображении Нестора (таким он остался навсегда в памяти поколений), идеальным прототипом было палестинское монашество, как оно отразилось в житиях св. Евфимия Велтского, св. СаввыОсвященного и других подвижников V-VI веков. Не египетское, не сирийское, а именно палестинское. Это означает прежде всего, что православная Русь избрала не радикальный, а средний путь подвига. Сурова жизнь великих палестинцев, как и жизнь самого Феодосия, но по сравнению с бытом отшельников Египта и Сирии она должна показаться умеренной, человечной, культурной. Св. Феодосии не увлекался ни крайностями аскезы, ни сладостью уеди-
==304
ненного созерцания. Из подземной пещеры, излюбленной Антонием, монастырь при нем выходит на свет Божий, расширяется в многократных перестройках, закладываются каменные стены великолепной обители, уже наделенной селами и крестьянами. Пещеры остаются для великопостного затвора, но мир предъявляет свои права. В монастыре создается больница, в монастырь стекается народ, идут князья и бояре, сам Феодосии – частый гость в княжеском тереме. Характерно, что первые подвижники Руси не искали себе иных мест, как окраины стольных городов. В воздействии на мир они нашли для себя возмещение пустынного безмолвия. Учительство Феодосия, его кроткое, но властное вмешательство в дела княжеские, в отстаивании правды, вблюдении гражданского мира, чрезвычайно ярко изображаются Нестором, который подчеркивает национальное служение святого. Характерно, что не Антоний, а именно Феодосии делается создателем Киево-Печерской лавры, учителем аскезы, учителем всей православной Руси. Образ Антония рядом с ним очерчивается чрезвычайно бледно. Древность даже не сохранила нам жития его, если оно когда-нибудь существовало. Самая канонизация его совершилась во времена позднейшие сравнительно с Феодосием, который был канонизирован уже в 1108 году, через 34 года после кончины. Антоний тяготился человеческим общением, «не терпя всякого мятежа», не пожелал взять на себя игуменского бремени и, когда число братьев достигло 15-ти, оставил их и затворился в новой (Антониевой пещере). По-видимому, он не руководил духовной жизнью своих учеников и подражателей (кроме первого небольшого ядра), и в следующем поколении образ его потускнел в памяти печерских агиографов. Здесь Киевская Русь совершила сознательный выбор между двумя путями монашеского служения.
Можно попытаться проникнуть и дальше в этот «царский» идеал мерности – в основе, греческий (meipios св. Саввы) – в поисках более личных черт святости Феодосия. Мы увидим образ обаятельной простоты, смирения, кротости. В его смирении есть момент некоторого юродства – во всяком случае, момент социального уничтожения. Таков его отроческий подвиг опрощения, сельский труд со своими рабами, таково его многолетнее просвирничество, таковы его «худые ризы», все время останавливающие внимание биографа и современников: в теремах и курского посадника, и киевского князя, – «худые ризы», которые для него делаются иногда желанным источником унижения. Это личное в нем и в то же время самое русское: таков господствующий идеал во все века русской жизни.
Наряду с этим едва ли можно признать у преп. Феодо-
==305
сия выдающийся административный талант. Он тщательно стремился пересадить на русскую почву Студийский устав. Но в Киевском патерике, отражающем предания XII века, мы уже не видим строгого общежития. Не видим и в самом Феодосии игуменской строгости. Известен рассказ о беглом, который убегал, всякий раз встречая прощение святого игумена. Строгость проявляет Феодосии лишь к своеволию келаря в тех случаях, где хозяйственный расчет убивает послушание и веру.
О качестве духовной жизни Феодосия мы знаем очень мало. Не слышим ни о каких видениях (кроме бесовских) – ни о каких внешних выражениях, которые позволяли бы заключить о мистической или же просто о созерцательной его настроенности. Много говорится о его молитве (и великопостном пребывании в затворе), но аскеза преобладает в нем над созерцательными формами духовной жизни. Это вполне соответствует и тому церковно-социальному служению, которое взял на себя преподобный. Таковой и осталась религиозность Древней (Киевской) Руси, даже в самых высоких выражениях. Все русские иноки хранят на себе печать св. Феодосия, несут фамильные его черты, сквозь которые проступает далекий палестинский облик Саввы Освященного. Здесь, в этой точке, происходит смыкание русского подвижничества с восточной традицией, здесь ответвляется русская ветвь от вселенской Лозы Христовой.
4.
Татарский погром Руси, как известно, тяжко отразился на духовной жизни. Видимым свидетельством этого является полувековой, если не более, разрыв в преемстве иноческой святости. На время лик святых князей как бы вытесняет в русской Церкви лик преподобных. Лишь В XIV веке, со второй его четверти, русская земля приходит в себя от погрома. Начинается новое монашеское движение. Почти одновременно и независимо друг от друга зажигаются новые очаги духовной жизни: на Валааме и в Нижнем Новгороде, на Кубенском озере и, наконец, в ближайшем соседстве с Москвой, в обители преп. Сергия. Для нас все это новое аскетическое движение покрывается именем св. Сергия. Большинство из его современников были его «собеседниками», испытали на себе его духовное влияние. Его прямые ученики являлись игуменами и строителями многочисленных монастырей: подмосковных, белозерских, вологодских.Духовная генеалогия русских подвижников XV века почти неизбежно приводит к преп. Сергию как к








