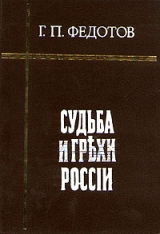
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 54 страниц)
ТЯЖБА О РОССИИ
==109
семьи и идеала целомудрия со стороны коммунистической партии загубит детей. Мы слышали об ужасающих фактах разврата в школе, и литература отразила юный порок. С этим, по-видимому, теперь покончено. Разврат детей оказался накипью революционных лет, подобно хулиганству рабочей молодежи и детской беспризорности. Сейчас нельзя уже обобщать этих мрачных явлений. Беспризорные дети перемерли в лагерях смерти. Хулиганство сублимировалось в танцевальный запой. Школы подтянулись и дисциплинировались. Власть поддерживает моногамную семью, борется с абортами, с половой распущенностью. Нет, с этой стороны русскому народу не грозит гибель. Еще не истощены физические резервы расы. Она размножается с поразительной и даже опасной для народного хозяйства быстротой.
На этом физическом здоровье и крепости строится, правда, очень элементарное, но уже нравственное воспитание. Порядок, аккуратность, выполнение долга, уважение к старшим, мораль обязанностей, а не прав – таково содержание нового пореволюционного нравственного кодекса. Нового в нем очень мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось как буржуазноеи что является общечеловеческим. В значительной мере реставрировано десятословие. Правда, по-прежнему с приматом социального, с принесением лица в жертву обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый круг, пока еще плохо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, семьи. И тот коллектив, которому призвана служить личность, уже не узкий коллектив рабочего класса – или даже партии, а нации, родины, отечества, которые объявлены священными. Марксизм – правда, не упраздненный, но истолкованный – не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребенок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой – пусть вместе с Горьким – становятся воспитателями народа. Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает собственную свою историю. Он перестает чувствовать себя голым зачинателем новой жизни. Будущее связывается с прошлым. В удушенную рационализмом, технически
==110 Г. П. Федотов
ориентированную душу вторгаются влияния и образы иного мира, полнозвучного и всечеловечного, со всем богатством этических и даже религиозных эмоций. Этот мир уже не под запретом. Вечное заглядывает в глаза, через прошлое стучится в настоящее. Советский звереныш становится человеком.
Эти образы новой России, собранные из документов, из книг, с чужих слов подтверждаются опытно и, так сказать, зрительно, когда мы случайно сталкиваемся с советской молодежью – студентом, инженером, ученым, – приезжающей за границу. Грубоватые, внешне малокультурные, они почти всегда производят симпатичное впечатление. От них веет здоровьем и силой, и притом не злой, а сдержанной, скорее скромной, хотя и уверенной в себе силой. Разве такие бывают глаза у провокаторов и убийц? Когда мы глядим на них, нам не страшно за Россию. Мы готовы верить в ее будущее.
3
Как примирить непримиримое? Как согласовать эти два портрета Советской России, которые оба зарисованы множеством надежных свидетелей? Простейший выход из апории – принять один и отвергнуть другой. Для большинства из нас вопрос решается не исследованием, а верой. Изначальное «да» или «нет» современной России создает в нас могущественную апперцепцию, которая перемалывает впечатления жизни. К сожалению, это правило относится, почти без исключения, к молодежи, которая ради немедленного действия избавляет себя от труда мысли. Здесь вопрос ставится так: с Солоневичами или с возвращенцами? Между этими слепыми, или ослепленными, флангами эмиграция все более раскалывается пополам.
Каков же выход для зрячих? Для тех, кто не хочет брести в потемках? Нужно изощрять критическое восприятие жизни. Нужно учиться интерпретировать источники. Исследователь современной России поневоле становится историком. Да и на самом деле, она труднее поддается пониманию, чем многие древние, канувшие в Лету культуры.
Было бы слишком легко отделаться от проблемы, ук-
ТЯЖБА О РОССИИ
==111
рывшись за необозримую сложность жизни. В России есть все (как и в любой стране). Цельного образа построить нельзя. Можно лишь копить факты и наблюдения. Такой эклектизм не пригоден даже для истории, чем же он может помочь в лабиринте жизненных противоречий? Мы хотим найти ориентировочные вехи в хаосе явлений, отметить существенное, усмотреть общие контуры и направление событий...
Попробуем наметить некоторые из этих возможных вех. Начнем с внешнего – так сказать, территориального. Быт Солоневичей (или Чернавиных) зарисован в каторжном лагере. Героический быт имеет своей территорией вузы, студии, учебные мастерские молодежи. В концлагерях, по грубым подсчетам, томится (или томилось) до трех миллионов человек. Может быть, столько же бодро и весело думают строить новую жизнь. Одни начинают свою карьеру, другие, по незадачливости или случайности, ее окончили, – сброшены с быстро мчащегося поезда. Те, что в вагоне, не обращают внимания на исчезнувших спутников. Они слишком заняты разглядыванием волнующих новизною пейзажей. Завтра, может быть, придет и их черед. Но сегодня они веселые путешественники, строители и патриоты социалистической родины.
Быт лагерей и вузов понять нетрудно. Но 6 миллионов еще не Россия. С кем же страна: со строителями или с мучениками? Вот на что нелегко дать ответ.
Конечно, Солоневич прав, когда говорит, что в концлагере он видел в сгущенном виде то же, что происходит во всей России. Колхоз и фабрика тоже места принудительного,крепостного труда. ГПУ, которому принадлежат лагеря, хозяйничает и над всей страной. Повсюду мучают людей, расстреливают без суда... Но ведь так же повсюду, а не только в вузах, люди учатся и работают с увлечением, строят, а не только халтурят, и даже веселятся. Люди сживаются со всем: с нищетой, с недоеданием, даже с перспективой насильственной смерти. Вуз и концлагерь только фокусы, только центры лучеиспусканий, откуда снопы белых и черных лучей прорезают всю Россию. Лучи скрещиваются, переплетаются, картина ни белая, ни черная, а очень пестрая...
Попробуем идти дальше и спросим себя, где, в какой
==112 Г. П. Федотов
среде преобладают концлагерные и где – вузовские цвета. Во всех профессиях есть удачники, талантливые и сильные люди, которые овладели нелегким искусством приспособляться к настроениям власти. Они искренне любят свое дело и легко соединяют личную карьеру с заботой о благе страны. Таких людей, вероятно, много в армии, в авиации, среди инженеров, ученых, художников. Вузовский тип рас ширяется, охватывая – конечно, не всю, – но значительную часть советской интеллигенции. Режим каторги вне лагерей всего полнее осуществляется для трудящейся бед ноты деревни и города. Колхозник и чернорабочий всего более придавлены государством рабочих и крестьян и всего более деморализованы им.
Не забудем осложняющих поправок. И в колхозах, и на заводе, как и в концлагере, есть своя аристократия, свои удачники: стахановцы, ударники, активисты. Строить карьеру можно начиная с самых низших ступеней. Стахановцам должны быть присущи социальный оптимизм и веселая мораль господ. С другой стороны, повсюду так легко оступиться и упасть. Сколько людей, в разгаре головокружительной карьеры, останавливаются в холодном поту, чувствуя, что незримая рука приближается к горлу. Не сегодня – завтра позовут «с вещами».
Можно было бы сказать, пожалуй, что вуз и каторга в России приобретают значение классовых дифференциаций. Господа жизни, вновь созданные революцией, с одной стороны, – а с другой – порабощенные массы. Тогда свет и тени распределялись бы ярко, как в древнем рабовладельческом обществе. Внизу эргастерий с прикованными рабами. Наверху триклиний, гдеПетроний принимает своих утонченных гостей. Или, поближе к русской действительности, крепостная девичья и гостиная сороковых годов. Но эти параллели грешат двумя неточностями: во-первых, в современной России культурный уровень разных классов несравненно однороднее, чем в любом историческом обществе. Во-вторых, классовые различия еще неустойчивы. Лично завоеванное положение легко гибнет. Неравенство – и притом вопиющее – не приобрело стабильного характера. Бедность еще не унизительна, и богатство не дает прав на уважение.
Возможно ли подойти к интересующей нас дифферен-
ТЯЖБА О РОССИИ
==113
циации с количественным критерием? Кого больше: счастливых или угнетенных? У нас нет никаких данных для ответа, кроме самых априорных. Несчастных всегда больше, чем счастливых, аристократия, отбор – по самому понятию – есть меньшинство. Однако это меньшинство может быть весьма значительным, а главное, при его активности и повышенной культурности именно оно представляет современную Россию и определяет ее судьбу. Так, конечно, и в прошлом, не крепостная необозримая масса, а тонкий слой дворянства и интеллигенции творил историю России. Однако до какой-то черты. До 1917 года.
Не забудем и «болото» – обывателя. Зощенковского героя – того, который не организует, не душит, но и не чувствует себя на каторге: изворачивается в нелегкой борьбе за жизнь и хочет кое-как скрасить свое существование. Таких, вероятно, большинство. Социалистическому обществу не удалось избежать своего мещанства. Оно выполняет даже положительную морально-санитарную роль. Не участвуя в гражданской войне и лишь пассивно в бесчеловечном строительстве, эта вялая, рыхлая масса смягчает, как подушка, жестокость сильных и ненависть слабых. Здесь находит свое последнее убежище жалость. Эта бытовая бескостная масса связана, одной стороной, с господами, другой – с рабами. Без нее общество – всякое общество – раскололось бы на враждующие классы. Схематические изображения современной России слишком часто забывают о значении этой аморфной нейтральной среды.
4
До сих пор мы пытались, ощупью, установить если не классовое, то психологически-бытовое расслоение России. Не забыли ли мы по дороге о нашей теме, – о морали? Разве символические категории вуза и концлагеря покрывают нравственные категории добра и зла? Конечно, нет, и здесь-то и начинается самая болезненная часть исследования.
В нашей условной классификации «концлагерь» включает в себя и палачей, и жертв. Нам трудно, невыносимо покрыть одной моральной категорией чекиста и терзаемую им жертву. К тому же русская интеллигенция всегда была
==114 Г. П. Федотов
склонна идеализировать добродетели угнетенных. Но мы знаем – знали всегда, и современная Россия дает нам новые, ужасные подтверждения тому, – что рабство развращает. Есть степень насилия, которая, при отсутствии героического или святого сопротивления, уничтожает личность человека, превращает его в лохмотья, лоскутья человека. Конечно, совершенно разный стиль гнусности – палача и жертвы. Пусть безмерно более тяжка ответственность первого, но Иуда-то получается из жертвы. А также тот низ кий мститель, который убивает детей за грехи отца... Вот почему в наших надеждах на моральное возрождение России не будем рассчитывать на миллионы сталинских рабов. Поскольку мученичество их не вольное и не просвет ленное, поскольку у них, или у большинства их, нет Бога в сердце и христианской силы прощения – их страдания искажают и губят в них все человеческое и оставляют гряду щей России тяжелое наследие цинизма и злобы. Поскольку... Но к этому мы вернемся.
Обращаемся к верхнему, чистому этажу русской жизни. В нем-то так ли уж все чисто? И прежде всего, так ли однороден этот слой, который мы окрестили «вузовским». Ведь из предыдущих схем наших ясно, что он включает не только энтузиастов-юношей, но и преуспевающих карьеристов, суровых господ жизни... следовательно, и палачей? Без палачей не обойтись и в красном, чистом углу России. Вообще, чтобы что-нибудь понять в ней и что-нибудь простить ей, надо раз навсегда отказаться от требований пол ной чистоты. Но с этой оговоркой, не насильственно ли, не произвольно ли мы объединяем в понятие единого слоя юношу-студента и маститого героя гражданской войны, переменившего дюжину специальностей – прошедшего, весьма возможно, и через Чека, чтобы кончить свою жизнь краскомом, директором завода и даже директором вуза? Нет, не произвольно, ибо он сам, этот юноша, не отгораживается от господ жизни, он живет с ними общей жизнью, вдохновляется примером их подвигов, ставя их себе в образец. Но и как изолировать себя от их общества, когда они повсюду занимают первые места? Знает ли юноша, сколько крови на руке знатного товарища, которую он пожимает? Знает, конечно, но это его не смущает. Знает ли он о миллионах, томящихся без всякой вины в концлаге-
ТЯЖБА О РОССИИ
==115
рях? Знает, – весьма возможно, не одобряет, но не очень расстраивается. Вернее, кровь и жестокость окружающей жизни не мешают ему наслаждаться своей молодостью, сознанием своей силы и радостью «творческого» (он преувеличенно подчеркивает; творческого) труда. Счастлив он, если ему самому, выросшему не в годы гражданской войны, не довелось проливать кровь. Но если он чуть– чуть постарше и участвовал в строительстве первой пятилетки (1930 год!), то без крови вряд ли обошлось. Эта кровь его не мучит. Едва ли он вспоминает о ней. Советская литература дает нам множество примеров того, с какою легкостью переступает современный человек через кровь. Не будем торопиться причислять его к чекистам. У него такой честный и открытый вид. Он вовсе не жесток и полон самых благих намерений: по отношению к родине, к народу, своему призванию. Не жесток, но, конечно, жёсток – в России это высшая похвала. Его можно, не обижая его, назвать толстокожим. У него мозоли не только на руках, но и на сердце. Да и как иначе он мог бы выжить и уцелеть в это жестокое время, родиться в котором он считает величайшим счастьем: С точки зрения вечной христианской и старой русской морали, у него почти нет того, что называется совестью. Вернее, она у него весьма рудиментарна. Признаем это безбоязненно, и пусть это не мешает нам любоваться его мужеством, его жизнерадостностью, его жертвенностью.
Содержание велений совести – или ее требовательность – так часто менялись во времени. В средневековье – в самые христианские столетия нашей культуры – жизнь человека ценилась очень дешево. Отправляясь в дорогу, каждый брал с собою меч или нож, чтобы обороняться от лихих людей. За такое, почти невольное, бытовое убийство совесть не упрекала... Не упрекает она и в наше время офицера и солдата, «исполняющих свой долг» на войне. Или, вернее, редко упрекает. Скажут, одно дело война, другое – революция. Не будем наивничать. Мы сами живем здесь, среди изгнанников, в большинстве – участников гражданской войны. Чувствуют ли они угрызения совести за пролитую русскую кровь? Так вот, юноши в России смотрят точно так же на кровь «белогвардейцев» или «контрреволю-
==116 Г. П. Федотов
ционеров», как здесь смотрят на кровь большевиков. Она не отягощает совести.
И здесь и там, да и не только у нас, русских, – у всего послевоенного мира совесть не та, что была в блаженные годы начала века. И наших современников – не зрителей, а участников истории – справедливо мерить меркою не XX, а, скажем, XVII века. Тогда и юный строитель Советской России перестанет нам казаться нравственным чудовищем, и мы поймем, как он может иметь такие невинные, спокойные глаза.
Поймем и простим – ему, но не строю, который делает бесчеловечие (в России, как и в Германии) законом жизни. Пожалуй, труднее простить другое: ту неизбежную и по вседневную ложь, которая кажется нам несовместимой с мужеством и героизмом. Но и здесь, проклиная строй, покоящийся на основной лжи, постараемся вдуматься в психологию социально-неизбежной лжи.
Каждое общество существует на известном цементе социальной лжи, называть ли ее условностью, приличием или лицемерием (cant). В старой монархии лесть была неизбежной формой обхождения при дворе. Ломоносов, Державин не были подлецами, когда писали свои хвалебные оды. Благо родные люди употребляли формулы (в Московской Руси, на пример), которые нам кажутся несовместимыми с человеческим достоинством, какими, может быть, потомкам покажутся и наши формы вежливости. Культ вождей в современной диктатуре гнусен, но для участников его он не отличается от монархической верноподданности. В Англии республиканцы по убеждениям участвуют на каждом шагу в монархических манифестациях, а люди, не очень твердые в вере, подписывают 39 статей англиканской церкви. В России с такой же легкостью голосуют все предлагаемые резолюции, не смущаясь содержанием. Открытый протест невозможен и, вероятно, кажется донкихотским, несоциальным поступком. Но и в России – мы знаем это – проводят различие между добрым товарищем и подлецом. Есть подхалимство, которого не прощают. Есть предательство, которое исключает негодяя из личного дружеского общения. Понятия добра и зла существуют, хотя и сдвинуты сравнительно с христианской моралью. Делать карьеру интригой и пронырством, подставлять ножку направо и налево соперникам, вы-
ТЯЖБА О РОССИИ
==117
служиваться, пуская пыль в глаза, особенно промышлять доносами, конечно, и в России мерзко, отвратительно, хотя обеспечивает нередко (как в доброе старое время Молчалиным) легкий, если и не очень прочный, успех. Честные работники, образующие советский актив, живут в одной среде с проходимцами и провокаторами. Они ими облеплены весьма густо. Режим диктатуры, особенно на ее идеологическом ущербе, чрезвычайно благоприятен для культуры подлости. Но грани между честным и подлым активом, слава Богу, не стерлись. Подлецы, время от времени, разоблачаются, – конечно, не все. Самые ловкие пролезают наверх, к подножию трона. Есть слои, или прослойки, по самой злосчастной природе их наиболее обезоруженные перед спросом на халтуру и подлость. Увы, к таким принадлежит профессия литераторов, которая невольно заслоняет для нас всю остальную интеллигенцию в России. Но можно быть уверенным: там, в России, видят границы, которых не смеет переступить человек, имеющий право на уважение. И, как бы ни отличались их границы от границ старой или христианской морали, и мы не можем отказать в уважении тем, кто, живя среди необыкновенных соблазнов, соблюдает скромный, неписаный, но принятый для себя закон.
7
И это все? Все, что мы имеем сказать в защиту России? Этим слоем толстокожих оптимистов и строителей исчерпывается все лучшее, чем жива Россия? Признаюсь, при всем уважении к этой породе, мне бесконечно больно за Россию, когда я поддаюсь малодушию видеть в них ее подлинную элиту. Эти серые герои, без Бога и без жалости к человеку, с большим вкусом к жизни и труду, – как много в них общего с молодежью Запада и Америки и как мало – со старой и древней Россией, у которой не было ни одного из их достоинств, но зато сколько им непонятного духовного благородства. Ловишь себя на сомнении: да полно, Россия ли это? Один ли язык русский и территория составляют духовное лицо России? Ведь тогда, пожалуй, и обитатели Элладского королевства тоже граждане Древней, вечной Греции.
==118 Г. П. Федотов
От чекистов и рабов, от строителей и мещан хочется предпринять последнее, необыкновенно трудное «путешествие в глубь ночи», окутывающей Россию. Есть еще одна категория людей, которых мы не опросили в нашей анкете и которые не могли бы дать нам никакого ответа. Ибо это категория молчащих. В них-то и таится сейчас последняя надежда России. Говоря о молчащих, надо пояснить, кого, какую категорию молчальников мы имеем в виду. Ибо молчит, как мы сказали вначале, вся страна, за исключением строителей и подхалимов. Но у молчания есть разная глубина, разная значительность. Я бы сказал, у молчания есть разный язык. Об одном молчании мы знаем, что за ним скрывается. Мы знаем, что такое молчание ненависти или скуки. И тем и другим – а это, может быть, огромное большинство в России, – в сущности, нечего сказать. Одним нужны некоторые эффектные жесты – размозжить голову, например, – другим нужны некоторые полезные вещи – жилплощадь и кровати с шишечками. Да, в сущности, эти категории молчащих находят своих адвокатов и бытописателей. Одна в Солоневичах,другая в Зощенко. Но есть молчание, значение которого для нас неведомо. Мы знаем только, что оно существует и что звук его (звук тишины) на весах вечного бытия России перевешивает весь гром оркестра одной шестой.
Где можно подслушать это молчание? Начну с простейших примеров. Когда мы с негодованием просматриваем списки подписей под очередным иудиным письмом, всегда ли мы обращаем внимание на то, чьих подписей здесь недостает? Мы поражены, видя пропечатанным позор людей, которых привыкла любить и уважать «вся Россия». Поражены, и больше не хотим ничего знать. Ну а те, кто не подписались, кто промолчали? Так ли их уж мало? И что означает их молчание? Оно означает если не прямую опасность для жизни и свободы, то, во всяком случае, для карьеры. Не подписавшийся человек не может рассчитывать на ответственные места; на водительство в той настоящей стройке, в которой ему, совершенно бескорыстно, наверное, хочется принять участие. Не подписавшийся вычеркивает себя из списка активных, уходит в полуподполье, жертвует драгоценными годами быстро утекающей жизни, которую он мог бы отдать целиком любимому де-
ТЯЖБА О РОССИИ
==119
лу, России. Он, может быть, губит свое призвание, свою жизнь, чтобы не совершить этого иудина жеста. А мы не замечаем, сколько самоотвержения погребено в пустом месте, между столбцами газетного листа. На каждое из имен популярных строителей новой культуры можно назвать не одно имя, нам известное, человека, который мог бы быть в первых рядах, а кончает свою жизнь в потемках библиотеки или в канцелярии советского учреждения. Мы знаем философов, ученых, которые не пишут книг, талантливых писателей, которые вдруг умолкли. Преклонимся перед жертвой, которая скрывается за их молчанием, и не будем интерпретировать его в духе культурной контрреволюции.
Среди благородных молчальников есть, конечно, немало людей старых традиций, которые органически не смогли принять новую жизнь и замкнулись в кругу воспоминаний. Это доживающие себя. Их значение исчерпывается поддержанием внешнего культурного преемства между поколениями, что само по себе тоже немаловажно. Но мы знаем среди людей этого круга и таких, для которых опыт грозовых лет не прошел даром. Он очистил и высветлил их культурное и творческое себялюбие, открыл им источники не подозреваемой раньше духовности. Они все простили и ничего не хотят для себя. Им не жаль даже старого, и они живут, поскольку в них сохранилась искра социального служения, лишь верой в воскресение России. Качество новой, открывшейся им духовности нам не ясно – оно, вероятно, различно у разных людей, но будем уверены, что под чудовищным прессом революции эта сдержанная, недоступная слову духовность нагнетается до давления, о котором мы, говорящие и болтающие, не имеем понятия.
Одни ли старики молчат в России? Среди онемевших писателей есть люди совсем молодые, иной традиции, люди Октября, для которых пришла пора задуматься над смыслом жизни. Чудом дошедшие до нас «письма оттуда» рисуют очень молодую культурную среду, которая живет вечными вопросами духа. Может быть, это и не молчальники в полном смысле слова. Может быть, эти юноши, каждый в своей специальности, математике или теории искусства, пишут книги, как-то выражают себя. Но не до конца. Или говорят за четырьмя стенами, в тесном кругу друзей. Чем дальше идут годы с их охлаждением револю-
==120 Г. П. Федотов
ционного и вообще социального энтузиазма, тем больше число молодых и на все 100% советских людей, которые ставят себе вечные и такие русские вопросы: зачем жить? что делать? Эти вопросы, может быть, измучат юношу, у которого так мало сил и средств для ответа, доведут его до самоубийства. Но они свидетельствуют о проснувшейся совести. Да и ответы кому-нибудь да откроются. Не свойствен русскому человеку скептицизм. Самое замечательное то, что эти вопросы, в робкой и часто рабьей маскировке, просачиваются в литературу. Иначе быть не может. Не может вся литература великого народа исчерпываться поверхностным социальным заказом. Нужно обладать тонким слухом и свободой от предвзятых идей («паразитов»), что бы подслушать по этому радио голос молчащей России. С большой чуткостью и изощренным литературным слухом у нас несет эту службу Г. В. Адамович: радиотелеграфист, который ловит в океане голос России.
Есть среди молчальников одна категория, самая много численная и лучше других известная: это люди верующие, «церковники», которые и платили, и платят за исповедание (тоже, в сущности, молчаливое) своей веры годами, десятилетиями тюрьмы, ссылки, каторги. Признание их известного социального значения следует видеть в самом факте сохранения властью остатков культа. Но не будем преувеличивать внешнее, социальное значение этого факта. Наблюдатели России последних лет – большинство, иностранцев и русских беженцев оттуда – игнорируют религиозную жизнь. Очевидно, она настолько сжалась, стала уделом такого меньшинства, и притом молчащаго, что поверхностный наблюдатель проходит мимо, не замечая самого явления. Да и как увидеть духовную жизнь, не на ходящую выражения в слове, ничем не воплощенную социально. Ибо открытый культ может быть интерпретирован по-разному, и чаще всего интерпретируется живучестью бытовых традиций в старом, уходящем из жизни поколении.
Но мы можем быть уверены: не бытовые традиции де лают людей мучениками и дают им такую силу духа на каторге и в тюрьме, о которой изредка доходят до нас скудные свидетельства. Христианство в России снова стало той героической верой, какой оно было в Римской империи, в младенческие годы Церкви. Сколько вековой ветоши долж-
ТЯЖБА О РОССИИ
==121
но было сгореть в очистительном огне, как обновилось и просияло вечное!
Их мало, этих избранников, но нельзя поверить, чтобы такая вера, такое горение не имели своего лучеиспускания. Там, где горят эти потаенные огни, там смягчается злоба, расплавляется скука, по-новому освещается созидательная работа и даже – бывало и это – кое-где опускаются руки палача.
Та жизнь духа, которая связана с Церковью, не ограничена никаким культурным или классовым кругом. В этом ее значение если не для настоящего, – то для будущего России. И, конечно, центральный вопрос духовного воскресения России в том, найдут ли утоление новые смутные духовные запросы молодой России в вечном источнике, питавшем доныне духовную жизнь народа.
* * *
Здесь, в эмиграции, в наших расчетах на русское национальное возрождение, мы делаем ставку на один из двух полюсов русского общества: на рабов или на строителей. Первая ставка – на ненависть и разрушение, вторая – на примирение и созидательный труд. Этот выбор, который политически неизбежен, делает вся эмиграция. Он лежит, психологически и морально, в основе нашего разделения на пораженцев и оборонцев, которое уже начинает поглощать все наши политические группировки. По мере того как призрак войны из темных предчувствий вступает в ясный свет исторического дня, выбор становится все неизбежнее. Родина зовет. И выбор простой и ясный. Политику не на кого больше ставить, как на один из двух основных типов русской жизни. Но когда мы углубляемся мыслью в будущее и от завтрашнего дня переходим ко дню послезавтрашнему, когда гадаем о духовном облике России, тогда вспомним о третьем: о бессильных ныне и скрывающихся по пещерам и ущельям» советской жизни, о тех, голос которых не доходит до нас, но которых, поистине, не только Россия, но и «весь мир недостоин»; и на них, неизвестных, с полным сознанием риска поставим свою ставку: ставку Паскаля, ставку веры, – ставку, без которой не для кого и незачем жить.
==122
00.htm – glava09
ЗАЩИТА РОССИИ
Эмигранты всех времен и народов боролись с оружием в руках против своей родины. Афиняне и спартанцы, гвельфы и гибеллины, французы Великой революции и русские за XIX и XX столетие. Плутарх или Иловайский прославили для нас со школьной скамьи имена великих изменников: Фемистокла, Павзания, Кориолана. У нас князь Курбский и Герцен не колебались идти с врагами России. Мы, кстати, только теперь, в изгнании, вполне оценили значение Курбского, и Герцена для русской национальной чести. Курбский и митрополит Филипп – эмигрант и святой – одни спасают достоинство России в век Ивана Грозного. Нравственный смысл измены, – хотя и трагический – заключается в том, что родина не является высшей святыней: что она должна подчиниться правде, то есть Богу. Западная Церковь, начиная с блаженного Августина, учила о допустимости для христиан принимать участие лишь в справедливой войне. Тем самым суверенитет отечества лишается своей абсолютности. Отсюда один шаг до возможности и даже обязанности бороться против не праведного, беззаконного и тиранического отечества. В средние века, в эпоху христианской культуры, в этом не могло быть сомнений.
Почему же теперь для нас, и христиан, революционеров, измена сталинской России ощущается не только как политическая ошибка, но и как моральный грех? Просто ли это наша дурная русская привычка морализировать политику и употреблять слово «подлец» в смысле английского «достопочтенный джентльмен»? Я думаю, что дело сложнее и что в нас говорит опыт нового чувства России, выношенного в боли и муках последних десятилетий. Это чувство я определил бы, за отсутствием другого слова, как чувство хрупкости России.








