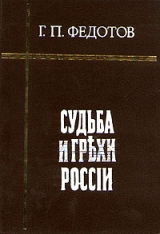
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 54 страниц)
РЕВОЛЮЦИЯ ИДЕТ
Нижеследующие фрагментарные очерки не задаются целью воссоздать облик старой императорской России. Это всего лишь история ее болезни – схематическая до крайности. Из многих линий декадентства автор выбрал линиюcoциaльную лишь потому, что она прямее всего приводит к теме революции. Русская революция развивалась и победила как революция социальная. Но даже в этих рамках многое существенное не затронуло: например, экономическое развитие. Самые отношения между общественными классами становятся понятны лишь на фоне духовной жизни общества. Эта основная тема русской истории, которой автор касался в другой связи, здесь лишь просвечивается сквозь социальный узор, сама его освещая.
В настоящей полупублицистической работе честолюбием автора было создать схему, совершенно не зависимую от дореволюционных публицистических направлений русской мысли. Эта задача может быть разрешена лишь приблизительно, но, по убеждению автора, лишь полная свобода от дореволюционных традиций обеспечивает жизненность всякой дореволюционной национальной конструкции.
Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания. По отношению к этой основной задаче пересмотр традиции является, выражаясь моральным языком, актом покаяния. Ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающаяся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня. Все это хилые потуги пересудов уже совершившегося Божия суда.
Если для русской молодежи в России основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление надорванной связи поколений, то здесь, за рубежом, это же восстановление связи достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре.
Лишь совершивший эту суровую работу – прежде всего в самом себе – может надеяться войти небесполезным работником в трудовую мастерскую новой России.
==127
1. КОГДА ЗАШАТАЛАСЬ ИМПЕРИЯ?
Две силы держали и строили русскую Империю: одна пассивная —неисчерпаемая выносливость и верность родных масс, другая активная – военное мужество и государственное сознание дворянства. Теперь всякому ясно, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Со времени европеизации высших слоев русского общества дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и невинного как дикарь Руссо; народ смотрел на господ как на вероотступников и полунемцев. Было бы преувеличением говорить о взаимной ненависти, но можно говорить о презрении, рождающемся из непонимания. Отдельные примеры патриархальных отношений к крестьянам в иных помещичьих семьях, сохранивших православный быт, не опровергают основного факта. Он засвидетельствован Пушкиным для дней Екатерины, Толстым для Двенадцатого года и середины прошлого столетия. Единственной скрепой нации была идеяцаря – религиозная для одних, национальная для других. Нетрудно видеть, что дворянская империя и мужицкое царство – совершенно, разные идеи. Монархизм русского дворянства, наследственный, кровный, даже религиозно окрашенный, был очень близок к легитимизму французского дворянства или прусского юнкерства. В основе его лежала идея рыцарской верности государю-сеньору, верности данной присяге, своему, дворянскому слову. Эта личная, почти феодальная связь углублялась патриотическим сознанием, видевшим в государстве средоточие национальной жизни, воплощение отечества. Идея национального служения государю была привита нам с Петра. Идея дворянской, личной верности выковывалась в изменнических гвардейских переворотах XVIII века. В век Екатерины дворянское монархическое чувство сложилось окончательно и в существенных чертах своих жило до революции. Двopянcтвo нaшe мoгло обожать государя ,но не позволяло унижать себя. Оно уже не могло кланяться царю в ноги, как его предки в старой Москве, или лезть под стол в местнических спорах. Оно восприняло западные начала личной чести и личной верности, хотя и в сословно-корпоративных формах.
Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или полити-ческой идеей. Он был помазанником Божиим, земным Богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или свей чести. Перед царем, как перед Богом, нет унижения. Пытаясь свести царя
==128
на землю, очеловечить его в своем воображении, народ пользовался образом сказки. Царь Берендей, царь Додон приобретал то бармы и венец московского государя XVII века, то ленту через плечо и аксельбанты. Что касается государственного смысла Империи, то он едва ли доходил до народного сознания. Poccия с Петра перестала быть понятной русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее внешних врагов, которые были ясны и конкретны для него в Московском царстве. Выветривание государственного сознания продолжалось беспрерывно в народных массах за два века Империи. Россия такова, какой хочет ее царь. Это было подчинение по доверию, а не по убеждению, что не мешало ему быть безусловным и неограниченным. «Поляк ли бунтует» или «наш батюшка велел взять дань с китайцев чаем», народ готов лить свою кровь, не считая, не спрашивая объяснений. Но он льет ее «за веру и царя». Отечество здесь на последнем месте. Для дворянства оно на первом. У него и народа в обиходе даже разные имена для верховного носителя власти. Одни называют его государем, другие – царем. «Государь» – «prince», «seigneur». Это старое московское слово переводимо на иностранные языки. «Царь» – непереводимо, ибо мистически связано с русской религиозной идеей.
Соединение мужицкого царя с дворянским государем создавало из петербургской императорской власти абсолютизм, небывалый в истории. Неограниченный государь Западной Европы на самом деле был ограничен личными и корпоративными правами, еще более – правовым чувством аристократии. Mосковский царь(как все деспоты Востока) был ограничен религиозными верованиями и бытовым укладом нapoднoй жизни.Петербургские самодержанцы могли, опираясь на народ, подавлять дворянство и, опираясь на дворянство, разрушать быт, оскорблять нравственное чувство народа. Религиозная концепция власти, в связи с невидимостью, нереальностью для народа ее носителей, сообщала им полную неуязвимость. Вся ненависть за поругание национальной правды направлялась на господ, на министров, останавливаясь у порога даже Екатерининского дворца.
Если на практике императорская власть обнаруживала большую мягкость сравнительно со своими юридическими возможностями, то это потому, что, по своему воспитанию и культуре,государь был первым дворянином Империи и должен был разделять европейские понятия о приличиях и благовоспитанности, свойственные своему классу. Однако значение народной почвы самодержавия сказывалось всякий раз, когда дворянство пыталось, или только мечтало, перевести свои бытовые и гражданские
==129
привилегии на язык политический. Против дворянского конституционализма царь всегда мог апеллировать к народу. Народ, по первому слову, готов был растерзать царских недругов, в которых видел и своих вековых насильников. В этой обcтaнoвкe, при двойственности самой природы императорской власти, становится понятной ее органическая неспособность к самоограничению. Конституция в России была величайшей утопией.
В оболочке петербургской Империи Московское царство было, выражаясь термином Шпенглера, «псевдоморфозной». Раскрытие ее приводило само по себе к крушению построенного на ней здания государственности. Другими словами, русская государственность могла – следовательно, должна была – погибнуть от просвещения.
В просвещении был весь смысл Империи как новой формы власти. Рождение Империи в муках петровской революции предопределило ее идею властного и насильственного насаждения западной культуры на Руси. Без опаснойпрививки чужой культуры, и при этом в героических дозах, старая московская государственность стояла перед неизбежной гибелью. Речь шла прежде всего о технике и формах народного хозяйства. Но разве мыслима техника без науки,а новые формы хозяйства без новых хозяйствующих классов? Восемнадцатый век шел без раздумья и колебаний по европейской дорожке. (Только с новыми хозяйствующими классами дело обстояло слабо.) Социальная пугачевщина, с одной стороны, и политический либерализм Новикова и Радищева, с другой, отмечают конец просвещенного абсолютизма в России. Отныне и до конца Империя, за исключением немногих лет, стоит на противоестественной для нее – но не удивительной для последних поколений – позиции охранения. То, что охраняется,– не вековые основы народной жизни, а известный этап их разрушения. В консервативный догмат возводится выдохшийся, мумифицированный остов петровской революции. В этом вечная слабость русского консерватизма – его подлинная беспочвенность. Консерватизм прекрасно понимал лишь одно: опасность просвещения для крепости Империи. Трудно даже сказать, какое просвещение было опаснее: православно-национальное славянофилов или космополитическое и безбожное западников. И то и другое разоблачало основную ложь, поддерживающую всю систему, – ложь, которую можно было бы наглядно выразить так: московский православный царь в мундире гвардейского офицера или петербургский гвардейский офицер, мечтающий быть московским царем.
Для всякого проницательного политика было ясно: когда сознание этого противоречия проникнет в тугие мужиц-
==130
кие головы, рухнет все здание величайшей в мире Империи, построенной на искусно прикрываемой лжи. Другими словами, задача власти, как справедливо формулировали ее Леонтьев и Победоносцев, – заморозить Россию, ее заживогниющее тело, оттянуть, елико возможно, неизбежный процесс разложения и смерти.
Но задолго до того, как раскрытие основной лжи расшатало крестьянский устой Империи, зашаталось дворянство. Народ был еще как мягкая глина в руках ваятелей, а творчество ваятелей уже иссякало. В военном и государственномотношении Россия достигла своего зенита при Екатерине, в культурном – при Александре. Потемкин, Суворов, Пушкин, Захаров означают предельные вершины русской славы. Большего не могла дать дворянская Россия. Культурный расцвет запоздал вполне нормально на одно поколение. Но если остановиться на военной истории александровского времени, то сквозь весь блеск его всемирных триумфов нетрудно видеть, что подвиги его сынов уступают орлам Екатерины. Слишком ясно, что не военный перевес обеспечил победу над Наполеоном. Государственные люди и полководцы екатерининской эпохи казались титанами для современников Александра. О новом поколении достаточно сказать, что оно ничего не уступило из старых лавров.
Если окинуть взглядом войны, которые Россия вела в XIX и XX столетиях, то линия упадка обозначится с поразительной четкостью. После турецкой войны 1827-1830 годов Россия уже не знает побед. Все серьезные столкновения неизменно оканчивались для нее катастрофой. Даже турецкая воина,1877-1878 годов по своим жертвам и ничтожности политических результатов воспринималась современниками как поражение. Эта военная слабость маскировалась непрерывным ростом Империи. В XIX веке приобретается Кавказ, Туркестан, перед катастрофой 1904 года – Манчжурия. Перед самой гибелью Империи она утверждается в Монголии и северной Персии. Экспансия идет, не встречая серьезного сопротивления. «Дряхлый Восток» не противник и ослабленной России. Да и слишком велик накопленный за полтысячелетия капитал, чтобы промотать его за одно-два поколения. Сила инерции, присущая самой массе исполинского тела России, замедляет упадок.
Откуда эта неизбежность военных неудач России? Ее живая сила – «святая серая скотинка» генерала Драгомирова – сохраняет почти до конца пассивный героизм, совершенно беспримерный. Севастополь, Плевна тому свидетели. Только в Манчжурии впервые дала трещину солдатская верность. Откуда же поражения? Говорят о технической отсталости, о злоупотреблениях в организации армии (интендантство!). Все это верно. Но почему же в век
==131
Петра, Екатерины, даже в веке Александра русская армия не страдала от технической отсталости? Титанические усилия Петра и прогрессивная инерция его преемников завалили на время техническую пропасть между Россией и Западом. Недостаток технических средств заменялся с избытком количеством и качеством живой силы. Сама Европа в XVII веке жила спокойным темпом промышленной работы; весь XIX и начало XX – непрерывная хозяйственно-техническая революция. Чтобы сохранить дистанцию, от России требовалось непрерывное и нечеловеческое напряжение. Достаточно сопоставить идиллию николаевской – гоголевской России с .промышленной горячкой не только Англии 30-40-х годов, но и Франции июльской монархии, чтобы получить головокружение от развертывающейся пропасти. Результатом был Севастополь.
Проблема технической отсталости России сводится к двум основным: слабости западного просвещения, отмериваемого с опаской и с оглядкой чайными ложками, и слабости торгово-промышленного класса, оттесняемого всюду дворянством. Первая возвращает нас к основному пороку власти, вторая – к истории правящего класса.
К этим двум источникам приводит нас и другой урок Крымской войны. Он вскрывает не одну отсталость, но и нечто худшее: коррупцию «тыла». Здесь дала трещину созданная Сперанским бюрократия. Бюрократия была, с одной стороны, формой самодержавной власти, с другой, по личному составу, «инобытием» того же русского дворянства. К дворянству надлежит обратить и первый вопрос об ответственности. До Александра II из числа сил, работавших по разложению Империи, должна быть исключена революционная интеллигенция, по всем известной причине: она ещё не существовала. Без нее происходило разложение николаевской России. Из всех классов русского общества только одно дворянство являлось носителем государственной идеи и государственной власти. Ни в одном из других классов, живущих еще в старом московском быту, мы не видим симптомов разложения. Недуг поразил прежде всего тот класс, который и был мозгом и волей страны, который полтора века, вместе со своим дворянским государством, строил судьбу России.
2. ДВОРЯНСТВО
История русского дворянства еще не написана. Может ли она быть написана когда-нибудь удовлетворительно?
Живая семейная память самых старых русских фамилий не восходит дальше XVIII века. Петровская реформа,
==132
как мокрой губкой, стерла родовые воспоминания. Кажется, что вместе с европейской одеждой русский дворянин впервые родился на свет. Забыты века, в течение которых этот класс складывался и воспитывался в старой Москве на деле государевом. Родившись в XV веке, широко пополнившись в XVI за счет пришлых, бродячих, даже преступных элементов общества (татар и казаков), поместный служилый класс выявил в опричнине свои социальные притязания, свою плебейскую мстительность против старого боярства, oтбунтoвaл в Cмутное время и, выйдя из него победителем, выдвинулся на первое место в государстве Романовых. Закрепощение крестьян было его экономическим завоеванием. НоМосква XVII века, в отличие от петровской России, еще не была узкосословным государством. Служилый класс правил страной не один: духовенство и купечество – земская Русь – имели ещёголос на земских соборах, а первое из них и в царском совете.
Хотелось бы представить себе русского помещика XVII столетия в его бытовой обстановке, в его отношении к крестьянам. До сих пор историки не собрали материала для этого социального портрета. Быть может, самое поразительное – это трудность представить себе московского профессионального воина с военными традициями, с оружием в руках. И эта трудность сама по себе говорит о многом. Русское военное сословие не обнаруживает никаких черт рыцарства. Рыцарство, в общем смысле феодальной этики и быта, свойственно не одному католическому Западу. Его знали и арабско-турецкий ислам, и старая Япония. Вот этих-то самых общих черт профессионально-военного класса – высоко развитого чувства личной чести, независимости и увлечения боевым делом – мы не видим в московском служилом классе. Несомненно, военное дело было для него «службой>>, а не правом. Служба, как и «тягло», есть нечто такое, от чего можно уклониться, быть в «нетех». Рыцарство не знает «нетчиков»: оно выбрасывает беспощадно из своей среды – в клир, в монастырь – всех, лишенных военной доблести. Есть люди, которые объясняют слабость военного сознания московской Руси духом православия. Достаточно указать на православную Киевскую Русь, создавшую свое княжеское рыцарство, чтобы отвести.эту ссылку. По-видимому, самая принудительность, государственное закрепощение военного дела как службы парализовали развитие рыцарского сознания. Китай и Древний Египет – какпоздний Рим и Византия – тоже его не знают.
В XVIII веке дворянство стоит одно у трона. Оно оттесняет купечество и духовенство далеко вниз к черным, податным сословиям, к крепостному мужику. Оно одно восприняло дух Петровской реформы: западное просвещение и
==133
новый имперский патриотизм. У европейского дворянства оно нашло наконец то, чего ему недоставало: кодекс чести, «chevalerie», и идеал военной доблести. Русское офицерство жило ими до дней великой войны, все более одинокое со своими «средневековыми» пережитками среди мирного, «цивилизованного» общества. Европейски воспитанные офицеры сделали русскую армиюнепобедимой. Вооруженный помещик в Москве умел отсиживаться за стенами крепостей или трудиться, проливая более пота, чем крови, в обороне страны от азиатов. При преемниках Петра русские били пруссаков, французов – лучшие европейские армии. Россия создает и первоклассных военных гениев. Золотой век дворянства – дворянской царицы Екатерины – есть вместе с тем вершина русской государственной мощи.
Золотой век дворянства принес ему и дары Пандоры: указ о вольностях. Ещё свежа была память о том роковом дне, когда раздоры в среде шляхетства и его политическая неорганизованность помешали ему закрепить в правовых формах его участие в государственной власти. Оно продолжало влиять на судьбу Империи путем цареубийств и дворцовых заговоров. И благодарное самодержавие освободило его не только от власти, но и от службы. Дворянин остается государем над своими рабами, перестав нести – сознавать на своих плечах – тяжесть Империи. Начинается процесс обезгосударствления, «дезэтатизации» дворянства, по своим роковым последствиям для государствааналогичный процессу секуляризации культуры – для Церкви. Его скрашивает пышный расцвет дворянской культуры: александровские годы, век поэтов и меценатов, денди и политических мечтателей. Конечно, дворянство еще служит, еще воюет, но из чтения Пушкина, как и Вигеля, выносишь впечатление, что оно больше всего наслаждается жизнью. Эта утонченная праздная среда оказалась великолепным питомником для экзотических плодов культуры. Но самая их экзотичность внушает тревогу. Именно отрыв части дворянства – как раз наиболее культурной – от государственного дела усиливает заложенную в духе Петровской реформы беспочвенность его культуры.
Политическое мировоззрение декабристов, конечно, питается не столько впечатлениями русской жизни, сколько западный либерализмом. Их героическая фаланга в Пруссии строила бы вместе со Штейном национальное государство.В России они не нашли себе места, или им не нашлось места. Трагизм России был в том, что «лишними людьми» в ней оказались не только слабые. Дворянство начинает становиться поставщиком лишних людей... Лишь небольшая часть их поглощается впоследствии революционным движением. Основной слой оседает в усадьбах, опре-
==134
деляя своим упадочным бытом упадочные настроения русского XIX века.
Конечно, о николаевской России нельзя судить по Гоголю. Но бытописатели дворянской России – Григорович, Тургенев, Гoнчapoв, Писемский – оставили нам недвусмысленную картину вырождающегося быта. Она скрашивается еще неизжитой' жизнерадостностью, буйством физических сил. Охота, любовь, лукулловские пиры и неистощимые выдумки на развлечения – заслоняют иппократово лицо недуга. Но что за этим? Дворянин, который, дослужившись до первого, корнетского чина, выходит в отставку, чтобы гоняться за зайцами и дурить всю свою жизнь, становится типичным явлением. Если бы он, по крайней мере, переменил службу на хозяйство! Но хозяйство всегда было слабым местом русского дворянства. Хозяйство, то есть неумелые затеи, окончательно разоряют помещика, который может существовать лишь за счёт дарового труда рабов. Исключения были. Но все экономическое развитие XIX века – быстрая ликвидация дворянского землевладения после освобождения – говорит о малой жизненности помещичьего хозяйства. Дворянин, переставший быть политической силой, не делается и силой хозяйственной. Он до конца, до дней революции, не перестает давать русской культуре людей, имена которых служат ее украшением. Но он же отравляет эту культуру своим смертельным недугом, имя которому «атония».
Самое поразительное, что эта дворянская «атония» принималась многими за выражение русского духа, Обломов – за национального героя. Наши классики—бытописатели дворянства – искали положительных, сильных героев среди иностранцев, не находя их вокруг себя. Только Мельников и Лесков запечатлели подлинно русские и героические образы, найдя их в нетронутых дворянской культурой слоях народа. Лесков—этот кроткий и склонный к идиллии писатель– становится жестоким, когда подходит к дворянскому быту. Самый могучий отпрыск дворянского ствола в русской литературе, Толстой, произнес самый беспощадный суд над породившей его культурой и подрубил под корень вековое дерево.
Дворянская культура не могла пережить крестьянского освобождения. Хозяйственный упадок разорил почву, на которой некогда произрастали пышные цветы: усадьбы-дворцы с домашними театрами и итальянскими картинами, тонкий язык, воспитанный на галлицизмах, общение с передовыми умами Запада. Безостановочное продвижение разночинцев завершило «разрушение эстетики», гибель философии, порчу языка и, главное, искусства жизни. В России перестают веселиться, разучиваются танцевать, забывают самое сладостное
==135
из искусств – любовь. Наступает время желчевиков и поджигателей. С каждым поколением дворянство неудержимо падает, скудея материально и духовно. Последние зарисовки дворянскими беллетристами – Буниным, Ал. Толстым—своего класса показывают уже труп.
В смерти дворянства нет ничего страшного. В Европе XIX века дворянство представляет тоже скорее упадочный, хотя и не сдающийся класс. Беда России в том, что умирающий класс не оставил после себя наследника. Его культурное знамя подхватили разночинцы, его государственной службы передать было некому. Поразительно: чем более хирело благородное сословие, тем заботливее опекало его государство, стремясь подпереть себя гнилой опорой. С Александра III дворянская идея переживает осенний ренессанс. Всякий недоучка и лодырь может управлять волостями в качестве земского начальника, с более громкой фамилией – целыми губерниями. Несомненно, что в этой запоздалой попытке оживления трупа самодержавие расточило весь свой моральный капитал, которым оно обладало еще на нашей памяти в сознании народных масс.
Но политическая пора дворянства ушла давно и безвозвратно. Отодвинутое монархией от участия во власти в начале XIX века, оно с тех пор утратило все политические традиции лучшей своей поры. Теперь, когда понадобилась его служба, оно могло принести государству лишь опыт псарни и сенной. Среди всеобщей абулии неврастеническое покрикивание капризного барина сходило за проявление сильного характера. Во дворце тосковали по сильным людям не меньше, чем тосковали по ним героини русских романов. Барановы, Зеленые и Думбадзе были в государственном масштабе тем же, чем босяки Горького в литературе: допингом для усталых душ.
Дворянство как класс умирало. Это не значит, что оно растворилось бесследно. Напротив, его влияние в русской жизни было и оставалось громадным. Дворянство, сходя со сцены, функционально претворилось в те силы, которые поделили между собой его былое государственное и культурное дело. Эти силы, призванные сменить его были: бюрократия, армия, интеллигенция.
3. БЮРОКРАТИЯ
Русская бюрократия – это новый служилый класс, который создает империя, пытаясь заменить им слишком вольное, охладевшее к службе дворянство.
==136
В XVI веке смена княжеского боярства худородным поместным классом приняла характер насильственной революции, поколебавшей самые устои Московского царства. В XIX веке реформа была проведена так бережно, что дворянство сперва и не заметило ее последствий. Дворянство сохранило все командные посты в новой организации и думало, что система управления не изменилась. В известном смысле, конечно, бюрократия была “инобытием“ дворянства: новой, упорядоченной формой его службы. Но дух системы изменился радикально: ее создатель, Сперанский, стоит на пороге новой, бюрократической России, глубоко отличной от России XVIII века.
Пусть Петр составил табель о рангах, – только Сперанскому удалось положить табель о рангах в основу политической структуры России. XVIII век не знал бюрократии: плодил еще московских дьяков и подьячих, старое «крапивное семя», строчителей кляузных бумаг, побирушек и «ябедников», сообщающих провинциальному административному быту XVIII века столь архаическойдопетровский стиль. Над этой армией старых приказных, переодетых в новые мундиры, всюду царит вельможа, роскошный и своевольный барин, который на службу склонен смотреть как на жалованную вотчину. XVIII век – век временщиков и фаворитов – налагает на провинциальную Россию причудливые черты позднего европейского феодализма. Перед нами словно последние дни княжеских сеньорий – дни Фронды, феодальное лето святого Мартина, в канун политической смерти французского дворянства. Мемуары александровского времени еще отражают этот быт. Пленные французы 12-го года всерьез принимали саратовскую вотчину князей Голицыных за вассальное княжество. Порода и связи – помимо талантов – почти исключительноопределяет служебную карьеру. Каждый вельможа поднимает за собой целый клан родственников, клиентов, прихлебателей. Карьеры создаются фантастически быстро, но столь же быстро иобрываются, в peзультате катастрофы.
Попович Сперанский положил конец этому дворянскому раздолью. Он действительно сумел всю Россию уловить, уложить в тончайшую сеть табели о рангах, дисциплинировал, заставил работать новый правящий класс. Служба уравнивала дворянина с разночинцем. Россия знала мужиков, умиравших членами Государственного Совета. Привилегии дворянина сохранились и здесь. Его подъем по четырнадцати классическим ступеням лестницы напоминал иногда взлет балерины; разночинец вползал с упорством и медленностью улитки. Но не дворянин, а разночинец сообщал свой дух системе.
Начиная с николаевского времени, русская литература разрабатывает новую, неистощимую тему: судьба малень-
==137
кого чиновника, его подлостей, его добродетелей, его страданий. Явный признак перерождения социальной ткани. Дворянская усадьба Тургенева, Григоровича, Гончарова, социально бездейственная, «лишняя», хотя и утонченная, и канцелярия, которая открывает свои двери не только для жалких Акакиев Акакиевичей, но и для сильных, кипящих рабочей энергией честолюбцев («Тысяча душ»).
Сперанский создал, как известно свою административную систему с наполеоновских образцов. Чтобы привести ее в действие, чтобы впрячь в оглобли даровитую, но беспорядочнуюрусскую натуру, понадобились немцы, много немцев. Недаром два русских бюpoкpaтичecкиx царствования – Николая 1 и Александра II – были эпохой балтийского засилья. И все же нельзя отрицать, что эта система получила некоторый национальный оттенок. Николаевский чиновник, как и бессрочный николаевский солдат, в конце концов умел вложить в эту чужую немецкую форму труда и службы капельку сердца, теплоту русского патриотического чувства. Николаевская эпоха знала не одних взяточников и черствых карьеристов, но и неподкупных праведников, честно заработавших свою пряжку за тридцатипятилетнюю «бессрочную» службу. Те, кто знавал в своей молодости старых служак николаевского времени, поймут, что я хочу сказать. Два или три праведника спасают Гоморру. Спасали они и николаевскую Россию вплоть до Севастополя. Не только спасали, но и окружили ее память легендой, живым, творимым мифом. Николай 1, столь ненавистный– и справедливо ненавистный – русской интеллигенции, был последним популярным русским царем. О нем, как о Петре Великом, народное воображение создало множество историй, анекдотов, часть которых отложилась у Лескова и которые жили в патриархальной России до порога XX века. Носителем этой живой легенды был николаевский ветеран, старый служака, вложивший в канцелярскую службу свой идеал служения.
Следует ли удивляться тому, что праведников было так мало? Древней Руси, по-видимому, всегда был чужд образ честного судьи. В отличие от всех народов, ни одного из царей своих народ русский не понимал как царя правосудного. Народные пословицы, сказки ярко и беззлобно отразили неправду московских приказов, воеводских изб. Народ веками свыкся с двумя истинами: нет греха в том, чтобы воровать казенное добро, а судья на то и судья, чтобы судил несправедливо. Удивляться надо тому, насколько удалось Сперанскому оздоровить это крапивное болото прививкой европейского идеала долга. Главный порок николаевской системы не в этом. Болезнь заключалась в оскудении творчества, в иссякании источников политическо-
==138
го вдохновения. Огромная, прекрасно слаженная машина работала, по-видимому, исключительно для собственного самосохранения; ее холостой ход напоминает беличий труд большевистских ведомств. Царь, изолировавший себя от дворянства и общественных влияний, был бессилен указать великой России достойные ее пути: увязил ее в провинциальном миргородском болоте.








