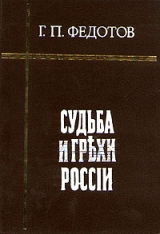
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 54 страниц)
ПИСЬМА О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
==177
руководить собой этому крепкому «отбору», хотя редко его уважает. Без этого жестко-волевого типа создание Империи и даже государства Московского было бы немыслимо.
Заговорив о Московском государстве, мы даем ключ к разгадке второго типа русскости. Это московский человек, каким его выковала тяжелая историческая судьба. Два или три века мяли суровые руки славянское тесто, били, лома ли, обламывали непокорную стихию и выковали форму необычайно стойкую. Петровская Империя прикрыла сверху европейской культурой Московское царство, но держаться она могла все-таки лишь на московском человеке. К этому типу принадлежат все классы, мало затронутые петербургской культурой. Все духовенство и купечество, все хозяйственное крестьянство («Хорь» у Тургенева), поскольку оно не подтачивается снизу духом бродяжничества или странничества. Его мы узнаем, наконец, и в большой русской литературе, хотя здесь он явно оттеснен новыми духовными образованиями. Всего лучше отражает его почвенная литература – Аксаков, Лесков, Мельников, Мамин-Сибиряк. И, конечно, Толстой, который сам цели ком не укладывается в московский тип, но все же из него вырастает, его любит и подчас идеализирует. Каратаев, Кутузов, Левин-помещик – все это москвичи, как и капитан Миронов и Максим Максимович – пережившие петровский переворот московские служилые люди. Николаевский служака, которому так не повезло в обличительной литера туре, представляет последний слой московской формации. Мы встречаем его и на верхах культуры: Посошков, Болотов (мемуарист), семья Аксаковых, Забелин, Ключевский и Менделеев, Суриков и Мусоргский – берем имена наудачу – все это настоящие москвичи. Здесь источник русской дворянческой силы, которая, однако же, как и все слишком национальное («истинно русское»), не лишена узости. Узость Толстого и Мусоргского может принимать даже трагические формы.
5
Таковы два полярных типа русскости, борьба которых главным образом обусловила драматизм XIX века. В них
==178 Г. П. Федотов
можно видеть выражение основного дуализма, присущего русской душе. Но это лишь последнее во времени, исторически обусловленное выражение этого дуализма. В культурных напластованиях русской души это ее московский слой и тот последний, «интеллигентский», который рождается с 30-х годов прошлого века. Но этот исторический подход к проблеме русской души сам по себе уже указывает на необходимость выйти за пределы установленного на ми дуализма. Между Москвой и интеллигенцией лежит Империя. Да и не с Москвы началась Россия. Где же среди нас русский человек Киево-Новгородской Руси?
Когда мы, вслед за Достоевским и ориентируясь на Пушкина, повторяем, что русский человек универсален и что в этом его главное национальное призвание, мы, в сущности, говорим об Империи. Ни московскому человеку, ни настоящему интеллигенту не свойственна универсальность. Но Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев. Их отличает прежде всего, свобода и широта духа – отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее. Легенда о том, что русский человек необыкновенно способен к иностранным языкам, создана именно об этой имперской, дворянской формации. Простой русский человек – москвич, как и интеллигент – удивительно бездарен к иностранным языкам, как и вообще не способен входить в чужую среду, акклиматизироваться на чужбине. Русский европеец был дома везде.
За два века своего существования он нам знаком в двух воплощениях – скитальца и строителя. Противоречие между всей шкалой оценок старой русской и новой западной жизни рождает скептицизм, поверхностность или преждевременную усталость. Начиная с петиметров XVIII века, «душою принадлежащих короне французской», через Онегиных, Рудиных и Райских – цепь лишних людей проходит через русскую литературу. Еще недавно в них принято было видеть основное течение русской жизни. Это колоссальное недоразумение, род историко-литературной
ПИСЬМА О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
==179
аберрации. Мы знаем и другой тип русского европейца – того, который не потерял силы характера московского человека, связи с родиной, а иногда и веры отцов. Именно эти люди строили Империю, воевали и законодательство вали, насаждали просвещение. Это подлинные «птенцы гнезда Петрова», хотя справедливость требует признать, что родились они на свет еще до Петра. Их генеалогия начинается с боярина Матвеева, Ордина-Нащокина – быть может, даже с Курбского. Их кульминация падает на век Александра. Тогда они занимали почти все правительственные посты, и между властью и культурой не было разрыва. Пушкин, «певец империи и свободы», был послед ним великим выражением этого имперского типа. Но он не исчез вполне и после николаевского разрыва между монархией и культурой. В эпоху великих реформ, на короткое время, европейцы опять стали у власти. Мы еще видели «последних могикан» в Сенате, в Государственном Совете, при двух последних императорах, когда, оттесненные от власти и влияния, они хранили свой богатый опыт, свою политическую мудрость, – увы, уже ненужную для вырождающейся династии. Но ниже, в управлении и суде, во всех либеральных профессиях, в земстве и, конечно, прежде всего в Университете, европейцы выносили главным образом всю тяжесть мучительной в России культурной работы. Почти всегда они уходили от политики, чтобы сохранить свои силы для единственно возможного дела. Отсюда их непопулярность в стране, живущей в течение поколений испарениями гражданской войны. Но в каждом городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвижников – где школа или научное общество, где культурное хозяйство или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о благородном человеке. Это они не давали России застыть и замерзнуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский европеец ее строил. Но, в сущности, как мы сказали, творческий или трудовой тип европейца вырастал сам на московском корню. Пусть в жизни ему приходилось всего больше бороться с косностью и ленью москвичей, у него с ними была общность нравственного идела,была общая любовь к родной стране и к ее «душе». История Ключевского и русская му-
==180 Г. П. Федотов
зыка были его связью с Москвой. Там, где это выветривалось, европеец превращался в перекати-поле, теряя способность к созидательной работе. При иных условиях он мог превратиться в интеллигента – это верхний, дворянский исток интеллигенции, весьма отличный от демократического. Но пока он стоял на трудовом посту, он был верен России и ее московскому завету служения. Как раз в начале XX века – с особой силой после первой революции 1905 года – русский европеец, человек культуры начал стремительно разрастаться за счет интеллигенции. Могло казаться, что ему принадлежит будущее. Судьба сулила иное...
6
Что в русском человеке отнести на долю «удельно-вечевой» Руси? Сознавая всю произвольность и даже фантастичность дальнейшего анализа, решимся все-таки сказать: ту сторону русской натуры, которую мы называем ее «широтой», ее вольность, ее бунтарство – не идейное или сектантское бунтарство, – а органическую нелюбовь ко всякой законченности формы. Русское сердце и поныне откликается на древнюю русскую летопись, на «Слово о полку Игореве». Можно смело сказать, что не суровые строители земли, не государственные люди, а князья-витязи, Мстиславы Удалые, викинг Святослав, новгородская вольница – говорят всего непосредственнее русскому национальному чувству. Москве не удалось, как известно, до конца дисциплинировать славянскую вольницу. Она вылилась в казачестве, в бунтах, в XIX веке она находит себе исход в кутежах и разгуле, в фантастическом прожигании жизни, безалаберности и артистизме русской натуры. В цыганской песне и пляске эта сторона русской души получает наиболее адекватное выражение. Если порою русский разгул бывает, тяжел и мрачен – тут сказались и татарская кровь, и московский гнет, – то часто он весел, щедр, великодушен. Таков разгул Пушкина, соединявшего европеизм с русской вольной волей. Много талантливых русских людей стало жертвой своей натуры (Ап. Григорьев), но до сих пор эта черта, если она хоть сколько-нибудь умерена дисциплиной и
ПИСЬМА О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
==181
культурой, неотъемлема от русского гения. «Люблю пьяных», – как-то против воли вырвалось у Толстого.
Мрачность и детскость и здесь поляризуют русскую вольность. И в детской резвости, в юношеской щедрости, в искрящемся веселье – русская душа, быть может, всего привлекательнее. Нельзя забывать лишь одного. Эта веселость мимолетна, безотчетная радость не способна удовлетворить русского человека надолго. Кончает он всегда серьезно, трагически. Если не остепенится вовремя (по-московски), кончает гибелью – или клобуком...
Возможно ли заглянуть еще глубже в русскую душу, за Киев и Новгород, за грани истории? Снимая, как с луковицы, слой за слоем культурно-исторические пласты, найдем ли мы в русском человеке основное, неразложимое ядро? Может быть, вопрос поставлен неправильно. Национальная душа не дана в истории. Этническая психея служит лишь сырым материалом для нее, да и психей этих множество: славяне, фины, тюрки – все отложились в русской душе. Нация не дерево и не животное, которое в семени несет все свои возможности. Нацию лучше сравнить с музыкальным или поэтическим произведеньем, в котором первые такты или строки вовсе не обязательно выражают главную тему. Эта тема иногда раскрывается лишь в конце. Может быть, XIX век более национален в этом смысле (как откровение слова), чем Киев или Москва. Нисколько не предполагая, чтобы в славянском язычестве была заложена идея русскости(где здесь отличие восточных славян от южных, то есть русских от болгар и сербов?), стоит все же всматриваться в эту таинственную глубь. Мы лучше всех культурных народов сохранили природные, дохристианские основы народ ной души. На дне величайших созданий русского слова открывается нечто общее с примитивом народного фольклора. Тютчев, Толстой и Розанов как бы дистиллируют, перегоняя в приборах высокого духовного напряжения, первобытную материю русского язычества.
Где искать ключа к нему? В этой статье мы не можем идти дальше намеков, первых ступеней, ведущих в подземные галереи русской души. Недавно В. В. Вейдле («Совр. зап.» № 64)1 пытался нащупать – правильно, по-моему, – эту русскую стихию в родном начале. Русский славянин и
1 Ср. также мой опыт «Стихи духовные». YMCA-Press, 1935.
==182 Г. П.
в XIX веке еще не оторвался вполне от матери-земли. Его сращенность с природой делает трудным и странным личное существование. Природа для него не пейзаж, не обстановка быта и, уж конечно, не объект завоевания. Он погружен в нее, как в материнское лоно, ощущает ее всем своим существом, без нее засыхает, не может жить. Он не осознал еще ужаса ее безжалостной красоты, ужаса смерти, потому что в нем нечему умирать. Все то, что в человеке есть ценного и высокого, – это общее, родное, неистребимое. А личное не стоит бессмертия. Моральный закон личности, ее право на свою совесть, на свое самоопределение просто не существует перед законом жизни. В нравственной сфере это создает этику мира, коллектива, круговой поруки. В искусстве – громадную чувственную силу восприятия и внушения (от Геи-земли), при большой слабости формы, личного творческого замысла. В познании, разумеется, – иррационализм и вера в интуицию. В труде и общественной жизни – недоверие к плану, системе, организации и т.д., и т.д. Славянофильский идеал – при всем своем сознательном христианстве – весьма сильно пропитан этими языческими переживаниями славянской психеи. Зато и в народном быте она нам дана уже сущностью православия. На самом деле она ничего общего с христианством не имеет и уводит нас скорее далеко на Восток. Еще шаг, и мы уже в Индии с ее окончательным провалом личности.
Но можно спросить себя: где же в этой исторически– слоевой схеме русской души ее христианский, православный слой? Но все дело в том, что и этот слой не один, и есть столько же типов русского христианства, сколько исторических типов русского человека, а может быть, и еще больше. Если каждый народ по-своему переживает христианство, то и каждый культурный слой народа имеет свой ключ к христианству или, по крайней мере, свои оттенки. Впрочем, в русской душе не приходится говорить об оттенках: все противоречия ее встают в необычайной обостренности. Попробуйте выразить одной формулой религиозность преп. Сергия и прот. Аввакума, митр. Филарета и Достоевского. А что, если прибавить сюда православный фольклор и религию Толстого? Есть мнение, широко распространенное, что русский на род отличается от других народов Европы особой силой
==183
своей религиозности. На самом деле это впечатление объясняется тем, что XIX век застает Россию и Европу на разных актах религиозно-исторической драмы. В России – в народных слоях ее – средневековье удержалось до середины XIX века. Европа XIV—XV столетий представляла бы более близкую аналогию императорской России. Но зато и крушение русского средневековья особенно бурно и разрушительно. В отношении к религии масс и интеллигенции сейчас уже нет заметной разницы между Россией и Европой.
Такова наша схема. Грубая и недостаточная, как и все схема вообще. Ее можно усовершенствовать, развивая в деталях. Но тогда, пожалуй, лес исчезнет за деревьями. Думается, что для поставленной нами цели – для определения предпосылок пореволюционной культуры, историческая схема русского человека плодотворнее, экономичнее «онтологических» или «феноменологических» схем. Ее достоинство, по крайней мере, в том, что она не грешит всегда соблазнительным монизмом.
7
Теперь мы можем подойти к ответу на основной вопрос: что, какие исторические пласты в русском человеке разрушены революцией, какие переживут ее? Ответ, в сущности, ясен из предыдущего. Истребление старого, культурного слоя и уничтожение источников, его питавших, должно было снять в духовном строении русского общества два самых верхних его слоя. Имперский человек и интеллигент погибли вместе с «буржуазией», то есть с верхним этажом старого общества. Что касается имперского типа, человека универсальной культуры, то остатки его еще сохраняются в рядах «спецов». С некоторого времени власть спохватилась, что истребление высшего культурного слоя наносит непоправимый урон технике. За оставшимися стариками стали уха живать. Но в них ценили именно узких специалистов: как выразился один неглупый человек, заколачивали гвозди золотыми часами. Их широкая культура, никому не нужная, даже оскорбительная для нового правящего слоя, доживает в пределах чрезвычайно малых кружков и даже семейств. Но-
==184 Г. П.
вый образованный класс дает исключительно спецов, лишенных часто самых элементарных основ общей культуры (даже грамотности). С другой стороны, никогда, со времен Московского царства, Россия не была отгорожена от Европы такой высокой стеной. Эта стена создана не только цензурой и запретом свободного выезда, но и необычайным национальным самомнением, прямым презрением к буржуазной, «догнивающей» Европе. В этом существенная разница между полуграмотной, технической интеллигенцией Петра и такой же интеллигенцией Сталина... Сталинская повернулась спиной к Европе и, следовательно, добровольно пресекла линию русского «универсального» человека.
Сложнее была судьба интеллигенции в узком смысле слова. Прежде всего этот класс, во всей ярости своего необычайного типа, не дожил даже до революции. После 1905 года он быстро разлагался, сливаясь с «культурным» слоем. Он не мог пережить крушения политической мистики, профанированной жалким русским конституционализмом; новая блестящая религиозно-философская культура русского ренессанса XX века, лишенная всякого этического пафоса, деморализовала его своими соблазнами. Война вовлекла его в поток нового для него национального сознания. В 1917 году революционный энтузиазм интеллигенции был подогретым блюдом. Его корни были неглубоки, и объем этой социальной группы – единственный, на которую могло вполне опереться Временное правительство, – очень сжался. Октябрьский переворот ударил по ней всей своей тяжестью. Принципиальные, непримиримые – они никак не могли принять торжествующего насилия. Неудивительно, что в борьбе с ним они истекали кровью. Уцелевшие были выброшены в эмиграцию, заполнили советские тюрьмы и концлагеря. Немногие сумели приспособиться к условиям советской службы и, превратившись в спецов, утратили постепенно всякое орденское обличие. Мельница звериного быта молола неумолимо. С волками жить – по-волчьи выть. Кто не мог приспособиться, выбрасывался из жизни. Новая интеллигенция, приходящая на смену, органически предана советскому строю, чувствует свою кровную связь с народом и с правящим классом, а потому даже в оппозиционности своей – скажем даже, предвосхищая будущее, даже в революционной борьбе с властью – не мо-
==185
жет переродиться в тот беспочвенно-идейный, максималистический и эсхатологический тип – не говоря уж об орде не, – который мы называем русской интеллигенцией.
Однако этот погибший тип не остался вовсе без преемника. Сектантство и духовное странничество не умерли в народе, как об этом свидетельствует настойчиво безбожная пресса. Революция вызвала к жизни даже новые сектантские – почти всегда эсхатологические – образования. С другой стороны, часть старой интеллигенции нашла свою духовную почву в Церкви. Здесь последние остатки разбитого ордена могли утолить свою духовную жажду из того источника, который тайно и породил ее. В Церкви они сохранили, конечно, свои психологические черты: беспокойство и максимализм, жажду целостной, святой жизни. Здесь они оказались на одной почве с народным странничеством. Нужно помнить, что духовные границы между Церковью и сектантством после революции пролегают иначе, чем прежде. Гонения сблизили, психологически, разные исповедания. То, что осталось от старого ордена, – есть фермент для брожения всей религиозной массы. Но пока эта сила совершенно выброшена из культурного строительства или добровольно ушла из него. Для сегодняшнего дня русской культуры можно считать интеллигентский тип совершенно вымершим.
Остается московский человек с его непреодоленными, в нем живущими предками. Народные массы, из которых продуцируется в советской школе новый человек, до самого последнего времени жили в московском быте и сознании. Самая радикальная идеологическая катастрофа не в силах пересоздать душевного склада. В интернационалисте, марксисте и т.д.– кто бы он ни был – нетрудно узнать деревенского и рабочего парня, каким мы помним его в начале века. Как ни парадоксально это звучит, но homo Europaeo-Americanus оказывается ближе к старой Москве, чем к недавнему Петербургу. Парадокс разрешается очень просто. Homo Europaeo-Americanus менее всего является наследником великого богатства европейской культуры. Придя в Европу в период ее варваризации, он усвоил последнее, чрезвычайно суженное содержание ее цивилизации – спортивно-технически военный быт. Технический и спортивный дикарь нашего времени – продукт распада
==186
очень старых культур и в то же время приобщения к цивилизации новых варваров. Москвичу, благополучно отсидевшемуся в русской деревне от двухвековой имперской куль туры, не нужно делать над собой никакого нравственного насилия, чтобы идти в ногу с европейцами, проклявшими как раз последние века своей культуры. Удивительнее может показаться легкость религиозного отречения. Но это особая, очень трудная тема. В остальном московского парня нужно было только размять, встряхнуть хорошенько, погонять на корде, чтобы сбить с него старую лень и мешковатость. То, что делала с новобранцем старая казарма, то делают теперь партия и комсомол: тренируют увальней и превращают их в дисциплинированных солдат. Для дисциплины – особенно военной – московский человек дает необыкновенно пригодный материал. Из него строилась старая, императорская армия, лучшая в мире, быть может, по качеству своей «живой силы». Вековая привычка к повиновению, слабое развитие личного сознания, потребности к свободе и легкость жизни в коллективе, «в службе и в тягле» – вот что роднит советского человека со старой Москвой. Москва была не бедна социальными энергиями – скорее наоборот, они заглушали в ней все личное: недаром государственное хозяйство Москвы носило полусоциалистический характер. Теперь Сталин и сознательно строит свою власть на преемстве от русских царей и атаманов. Царь-Пугачев... Перенесение столицы назад в Москву есть акт символический. Революция не погубила русского национального типа, но страшно обеднила и искалечила его.
Русская вольница, конечно, неистребима. Жила она в царской Москве, живет и в сталинской. Она прошумела бунтом первых лет революции, она кричит о себе разгулом, все время подрывающим основы коммунистической дисциплины, она живет в беззаветной удали русских летчиков, полярных исследователей. Все то, чем красна сейчас русская жизнь и русское искусство, напоминает о героических веках русского прошлого. Русская вольность – не то что свобода, но она спасает лицо современной России от всеобщего и однообразного клейма рабства. Натуры сильные ищут и находят выход своим силам. Наличие этих сил может давать надежду – сейчас еще далекую – на освобождение.
Но сохранились ли самые глубокие – славянско-языче-
==187
ские пласты русской души? Этого мы не знаем. Могучий процесс рационализации убивает безжалостно все подсознательно-стихийное, засыпает все глубокие колодцы, делает русского человека поверхностным и прозрачным. Но до конца ли? Нет ли таких медвежьих углов, где еще живут старые поверия, не порвалась древняя связь с землей? Ведь сохранилось же знахарство и шаманство – о чем нам время от времени сообщает советская этнография. Почему же не сохраниться более смутным и тонким комплексам родовой пантеистической душевности? Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром пишет Пришвин, – кто-то дол жен сочувственно читать его. Но не знаем, достаточно ли это сохранившееся, чтобы по-прежнему питать большую русскую литературу. Ибо в этом вся значительность этого темного, русского пятна. Исчезнет оно, и русская литература, может быть, навсегда утратит свои подземные ключи, свою глубину. Лишенная чувства формы, она никогда не сможет стать чем-либо, подобным латинскому и французскому гению – культурой законченного совершенства. Ее путь другой. Даже духовная глубина Достоевского приоткрывает карамазовскую и шатовскую глубину – земли...
К сожалению, наш вопрос остается без ответа. И на этом безответном вопросе мы должны поставить точку – или многоточие – в предварительных поисках пореволюционного человека как основы будущей русской культуры.
==188








