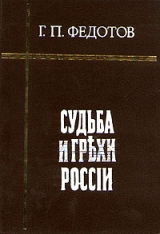
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 54 страниц)
Но, может быть, в этой точке рождается новая интеллигенция, с новым отрывом от народа, переменившаяся с ним ролями: народ отрывается от исторической почвы, интеллигенция хранит религиозное сознание? Да, это правда, что отныне религиозное и национальное сознание России может строиться только в работе этой новой церковной интеллигенции: не на этнографических пережитках, а на идее-символе. Но, по самой природе Церкви, она не может стать отрешенной. Если мы и видим сейчас среди новообращенных увлечение аскетической Фиваидой, слабость общественного и культурного сознания, то все это болезни старой интеллигентской души: новый вывих, который должен быть исцелен органической жизнью церковного тела. Церковь слишком связана с живой исторической плотью народа, с его историей и бытом. Она не может жить лишь отрешенным мистическим подвигом, и ничто не чуждо ей в такой степени, как романтика прошлого.
Да и неверно, разумеется, что православие в народе умерло. Оно парализовано в массах, но живо в личностях. В Церкви живут сейчас все классы русского общества. Только в ней в наши дни и можно встретить подлинно всенародное единение.
Две России стоят друг против друга. Социально они перемешаны обе: в обеих верхи и низы, темная масса и интеллигенция. Если хотите определить их, то следует прежде всего отбросить политические мерки. Россия живет сейчас
==100
с аполитическим сознанием. Никто не думает в ней о реставрации, мало кто думает о демократии. Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство – хозяйственными злобами дня. Меньшинство почти целиком сейчас в Церкви. Большинство – в организациях правящей партии, но и в неорганизованных массах ее врагов. Россия православная – против России-Америки (тоже провидение Блока). Революция провела в народном сознании глубокую трещину, которая, вероятно, не зарастет и в ряде поколений. Эта трещина та самая, что прорубил Петр, только проходит она теперь иначе, не по классовым линиям, а сверху донизу рассекает народное тело. Классовое образование интеллигенции отныне в самом деле невозможно.
Обе России национальны. Революция самым фактом своей победы и обороны от белых и европейских армий развила в себе мощное национальное чувство. Ему не хватает исторической перспективы, но сама революция, ставшая историей, дает эту недостающую традицию. Принимая в свои святцы декабристов, народовольцев, революционная Россия, отправляясь от них, -приобщается и к дворянско-интеллигентской культуре. Это пока лишь задание, но оно будет выполнено. А за приятием дворянской культуры неизбежно ее преодоление. Народ пойдет путем интеллигенции – хотя бы опаздывая на столетие – через Толстого в Церковь. Раз исцелен дух страны, он будет животворить и тело.
Церковная Россия живет традицией Древней Руси. Ей трудно принять Петра – особенно трудно теперь, когда ее не поддерживает созданная Петром государственность. Однако ей это столь же необходимо, как революционной России – приобщиться к православной культуре. Лишь в этом слиянии залог подлинно национального творчества. Конечно, это слияние необычайно трудно и может ставиться лишь как предельная задача. На пути к ней стоят различные проекты решений, различные «идеологии», которыми будет жить Россия XX века. Но думается, что одна черта должна резко отличать их от большинства идеологий дореволюционной России: они будут соединять в себе элементы древнерусской и новой, петровской, культуры, в разных сочетаниях и разных стилях. По существу и правде, не может быть и спора о том, кому принадлежит гегемония. Но гегемон должен не забывать об изначальном ущербе, который сделал неизбежным многовековой раскол: не презирать золотых сосудов Египта и прекрасных хананеянок, уже готовых обрезать свои волосы.
==101
НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ
Настоящая работа задумана как опыт комментария к лирическому циклу Блока, носящему это имя, – комментария неполного, отнюдь не формального, а только тематического. Впрочем, тематический момент в творчестве Блока бесспорно первенствует. Все оно может быть воспринято как движение нескольких основных символов (быть может, даже символа), притом перерастающих план искусства. Символы Блока коренятся в самой глубине его личности, своим развертыванием определяют его жизнь и даже смерть. Они имеют для него трагическое значение.
Впрочем, не только для него. Некоторые из них имеют такое значение и для всех нас. Таков прежде всего символ России.
Национальное самосознание есть непрерывно раскрывающийся духовный акт, смысл которого, говоря словами В. Соловьева, есть постижение в судьбе и духе народа того, «что Бог думает о нем в вечности». Мы всегда неполно и отрывочно созерцаем отдельные стороны этой таинственной личности. Самые устойчивые национальные характеристики приходится пересматривать, перестраивать, потому что мы имеем дело с подвижным объектом, с меняющимся образом. Самосознание народа непосредственно совпадает с его актуализацией. Новый подвиг, новая жертва – и новый грех – влекут за собой новую установку национального сознания. В этой опознающей работе участвуют, по следам исторического деятеля, проясняя его часто слепую интуицию, философ, историк и поэт. Но поэт и здесь нередко оказывается предвестником. Ему дано упреждать не только историческую мысль, но и самый исторический опыт.
Стало трюизмом утверждать, что поэт Блок был пророком революции, но все еще нельзя без волнения читать среди юношеских «Стихов о Прекрасной Даме»:
Мой конец предначертаний близок,
И война и пожар впереди.
Или:
==102
Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.
В его стихах была не только «роковая о гибели весть» – гибели мира старого. В них жило предчувствие и новой России: точнее, творящих ее стихий. Мы, пережившие революцию, имеем в ней огромный опыт для нового осознания России. Завершающаяся революция, конечно, выводит нас далеко из мира Блока, застигнутого и испепеленного пожаром. Но до осмысления всего нового опыта еще далеко. Лава извержения еще не застыла. Наша мысль не в силах еще претворить новой жизни. Даже опыт Блока воспринят и уяснен нами не до конца, хотя он уже не современен: новые поколения смотрят на него как на давно преодоленную ступень. Мы считаем, что для нового национального сознания небесполезно подвести итоги этому уже забываемому опыту поэта.
Тем самым я хочу сказать, что мы подходим к нашей задаче не бескорыстно и не эстетически. Мы хотим обогатить через Блока наше знание о России. Мы выбираем за отправной пункт «На поле Куликовом», потому что это произведение центрально (даже по времени – 1908): в нем сходятся концы и начала Блока, «Ante lucern» (1898) и «Скифы» (1918). Скажем заранее, последней целью нашей работы должно быть понимание «Скифов», последнего слова Блока о России. Ключ к ним – «На поле Куликовом». Вместе с тем Куликовский цикл, взятый сам по себе, весьма загадочен. Он прямо требует комментария. Но, раскрыв его смысл, мы непосредственно получаем и разгадку «Скифов».
1
Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь степной, наш путь – в тоске
безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
==103
И ханской сабли сталь.
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови! Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!
Уже этот первый листок лирического пятилистника волнует противоречивостью образов. Где мы? На берегах северной речки или в южных степях? Грусть реки и стогов, скудность глины указывают на великорусский север, близкий и родной поэту. Но кобылица его мнет ковыль! И почему она «степная» (дважды)? Символ степи здесь очень значителен, так как повторяется до пяти раз. Конечно, степь, где «грустят стога», совсем не та степь, где растет ковыль. В первом случае степь взята вместо лугов, но взята умышленно, предваряя основную тему: тоска-печаль северного поля вливается в тоску-страсть южных степей. Эта безбрежная тоска – «твоя, о Русь!», и вместе с тем она «пронзает грудь стрелой татарской воли». Тоска Руси – татарская тоска. Поэт мчится на бой с татарской ратью, неся в груди татарскую тоску по древней, степной воле. Вот основное противоречие, определяющее весь сдвиг образов. С ним связано и другое. Степная воля лирически звучит по– разному. Сначала это радостное упоение: «Я не боюсь... Домчимся. Озарим». И вдруг ужас: «Останови!.. Испуганные тучи... плачь, сердце, плачь!..» Итак, вся пьеса проходит в трех вариациях основной темы степной тоски. Первая вариация: печаль и верность («жена», «долгий путь»). Вторая – страсть; третья – отчаяние. Переломы падают на вторую и пятую строфы. «Стрела татарской воли» вторгается совершенно неожиданно, разрушая печальную верность «долгого пути». Но ужас отчаяния подготовляется ужасом вечной битвы: «Покой нам только снится сквозь кровь и пыль». Выражаясь языком этики, можно сказать, что преступление (измена) менее мотивировано, чем наказание.
Часто говорят, что в лирике романтического поэта, каков Блок, нельзя искать строгой четкости образов. Нельзя требовать соблюдения идеологического тождества. Это, конечно, верно. Но верно и то, что сдвиги смыслового значения образа у Блока неслучайны: они отмечают смену эмоциональных тонов, ряд шагов, образующих определенный путь, развитие темы. Вот почему мы считаем себя вправе
==104
подвергнуть этот лирический отрывок такому придирчивому анализу. В результате анализа он не распался на куски, а обнаружил свой подлинный смысл. Смысл этот и есть настоящая тема всего пентаптиха. Последующие пьесы развивают отдельные темы, уже содержащиеся здесь: вторая и третья – тему верности, четвертая – страстного отчаяния.
Легкие и чистые хореи – как песни детства – объединяют вторую и третью пьесы, уже самой формой своей изолируя их от стремительных, отрывистых ямбов первой и томящих, безвольных амфибрахиев четвертой. Тема верности строга и проста. Ночь перед битвой. Как в летописи, слушают голос земли. Не радостное ожидание боя, не мысль о победе – жертвенная обреченность «сказания о граде Китеже», «Не вернуться, не взглянуть назад...», «Светлый стяг над нашими полками не взыграет больше никогда». И эта покорная жертва смиренна: «Я не первый воин, не последний». Погибнуть, раствориться в жертве народной. Ее молитвенный обряд, церковный, всенародный, – единственная чаемая награда. Робка и скромна личная нота в заключительном призыве к светлой жене – «помянуть за раннею обедней мила друга».
От смирения и жертвенной верности к радости любви услышанной, к восторгу неземных видений. В третьем стихотворении отходят вдаль грозовые голоса битвы, становясь лишь предвестниками таинственной встречи. «В темном поле были мы с Тобою». Только двое, я и Ты. Русь, «жена моя» первой пьесы, «светлая жена» (с маленькой буквы), земной образ иной, Светлой, здесь отступает перед Ней, безымянной, называемой Ты. Светлое видение оставляет на щите друга свой «нерукотворный лик», который будет его эгидой перед «черной тучей орды»: «Светел навсегда»!
Навсегда?
Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли,
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали.
Срыв после мистического подъема головокружительно резок:
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою.
Куда мне лететь за тобой!
Я слушаю рокоты сечи
И трубные клики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.
==105
Русь далеко. Кругом татарская степь. Вчерашний воин белого стяга бесцельно рыщет во власти темной, вражьей стихии.
Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...
В бесцельной борьбе с собой, он еще не изменник, он находит силы молить исчезнувшую:
Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!
Но он забывает ее лицо, он сомневается в ее природе. Он пишет ее с маленькой буквы. Кто она, небожительница или смертная? Заключительная пьеса не разрешает противоречия; она отодвигает его решение в будущее. Сдержанное спокойствие почти классических ямбов лишь приглушило остроту напряженности. Мы возвращаемся к исходному положению:
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла...
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. Молись!
Молись о том, чтобы быть верным, быть «светлым навсегда», чтобы сделать последний выбор. И, однако, после пережитого опыта, мы менее всего уверены в том, каков этот выбор. Не в смирении, не в жертвенной готовности встречает поэт «начало высоких и мятежных дней». Мятежных? Разве смерть за святое знамя – дело мятежа, хотя бы и высокого? Упоение битвы манит. «Не может сердце жить покоем». Но мы уже знаем это: «Покой нам только снится... Покоя нет». Это воет степная тоска, страстный ветер над ковылевым простором. Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. Это против него бросает он свое последнее заклятие: «Молись!» Но до конца остается темным: когда настанет час последней битвы, которая для Блока была не поэтической фикцией, а реальным ожиданием всей жизни, в чьем он будет стане, в русском или татарском?
2
Ставя так вопрос, мы, может быть, ставим его неправильно. Мы уже видели, что для Блока «путь татарской воли» есть путь Руси. Измена Руси была бы невозможна без
==106
изменчивости ее собственного образа. Самый мотив измены нами не вымышлен, не вложен насильственно в лирический цикл Куликова поля («темные мысли», «дикие страсти»). Но все же мы провели глубокий разрез там, где у поэта едва намеченные рубцы. Он пожелал скрыть свою измену в игре меняющегося лица Руси. Но не пожелал скрыть до конца. Сама тема Куликова поля требует беспощадного разделения двух стихий («биться с татарвою»). Блок сознавал и эту неизбежность, и личную для себя невозможность бесповоротного выбора. Отсюда неразрешенность конфликта. Для нас же встает задача: выяснить, как возникло и какой смысл имеет в поэзии Блока раздвоение лица России.
Тема России у Блока начинает звучать с особой силой в последний период его творчества. Но уже третья пьеса Куликовского цикла прямо говорит нам – предполагая, что мы этого не знаем, – что Россия-родина для Блока есть одно из воплощений Той, о которой он пел сначала под псевдонимом Прекрасной Дамы. Это заставляет неизбежно связывать тему России с основною – в сущности, единственной —темой Блока. Но, говоря об общеизвестном, можно быть кратким.
Поэзия Блока растет и крепнет в разложении единого образа, озарившего его юность. Он идет путями творческих падений, обогащающей нищеты. Его талант вскормлен и вспоен кровью погибающей личности. МноголикостьПрекрасной Дамы не просто ряд икон, воплощений, но ряд измен. В дни безбурных восторгов его гложет предчувствие, и с поразительной четкостью он предрекает собственную судьбу:
Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
О, как паду – и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!(1)
Уже здесь его грядущая измена оправдывается многоликостью Ее, как бы Ее обманом.
В роковой год (1902) «Свершений» (Ст. о Пр. Д. IV), когда демонические соблазны начинают искушать поэта, он высказывает вслух свое подозрение:
В тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма...—
________________________
1 Датировано 1 июня 1901 г., с. Шахматове.
==107
и готов уже видеть во лжи и обмане природу вечной женственности:
Я люблю эту ложь, этот блеск,
Твой манящий девичий наряд...
Как ты лжива и как ты бела!
Мне же по сердцу белая ложь...
Белая – запомним эпитет – это все та же, о которой он только что пел:
Белая Ты, в глубинах несмутима...
Всегда в часы холодных раздумий, в часы «возмездий» поэт определяет свой жизненный путь как путь измен:
Ты пред вечностью полон измен, —
и видит свой жребий отмеченным в круге безысходных повторений: «любить Ее на небе и изменить ей на земле».
Конечно, эта онтологическая измена определяет и указанный выше закон его поэзии: постепенные сдвиги образов, меняющих свой смысл.
Мы, разумеется, не будем следить за всеми масками, в каких является Прекрасная Дама. Нас интересует лишь образ России. Его значение, поистине особое, не сравнимое с другими. Слово «маска» всего менее к нему приложимо.Средневековая дама, Снежная дева, Коломбина, Незнакомка – все они носят печать призрачности, воздушной грезы. Поэт сознательно отдается их обману, лишь проводя в их чертах неизменный лик. Потому руки его неизбежно обнимают пустоту, а душа опалена «языками преисподнего огня». К России, родине он возвращается, ища спасения от обманов, как в подлинной правде. Россия – и только Россия – есть действительное воплощение Девы, то есть живая плоть, а не романтическая мечта. Прикасаясь к родной земле, поэт перестает быть романтиком, в жажде подлинной, верной земной любви. Не потому, чтобы его «обольстил» образ России, а потому, что без России он больше не в силах жить.
Он готов принять ее такой, какова она есть, родной ему в святом и грешном, чтобы, приобщившись к ее могучей жизни, исцелить в ней свое больное «я».
Но до этого возвращения к родине какой долгий, мучительный путь!
Долгие годы память германской крови боролась в поэте с памятью родины. Он чувствует себя «потомком северного скальда»; его тянет в романское средневековье, в мир скандинавских саг. Рейн, Гейне, Сольвейг, Ночная фиалка, ко-
==108
роли, рыцари и дамы – вот мир, в котором живет поэт, который сливается для него даже с землей петербургских окраин («Ночная Фиалка») и с петербургским взморьем (тема «Кораблей»). Но уже русские мотивы, сперва робко и отдаленно, прозревают эту сложную музыку.
В «Стихах о Прекрасной Даме» (1901—1902), даже в «Ante lucern» (1898—1900), столь отрешенных и бескровных, есть некоторый конкретный фон: земной пейзаж. Небесная лазурь и пояс зорь – обычное место действия или даже действующее Лицо. Там, в небесах, разыгрывается подлинная драма, в борьбе света, тьмы и облаков. Но и земля служит подножием небесного театра. Линии пейзажа даны скупо, как на иконе, но они конкретны, они безошибочно характеризуют родной поэту русский, подмосковный ландшафт: «Роща у оврага, зеленый холм... Море клевера... Белая церковь вдали... Камыши, осока... Кругом далекая равнина, да толпы обгорелых пней».
Они повторяются, эти намеки, и белая церковь, и клевер, и камыши, свидетельствуя о памяти родной, не пригрезившейся земли. Есть одна деталь, которая, как мы знаем из книги Бекетовой, характерна именно для шахматовскогопейзажа:
Там над горой твоей высокой
Зубчатый простирался лес.
Этот образ, прочно связанный с закатным видением Девы, расширяется до космического значения: «зубчатой земли».
Над русской землей поднимается русское небо, в огнях зари горят небесные терема Царевны, с узорной резьбой коньков, с крыльцом, «словно паперть», под углом гул колокольных звонков. Войди в «узорчатую дверь» и увидишь «узорную скатерть»; в углу образа и красные лампадки. Здесь царица смотрит заставки, «буквы из красной позолоты», царевна кормит белых голубей, и облик ее рисуется чертами русской сказочной красоты: «молодая, с золотою косою, месяц и звезды в косах». Поэт сам тогда чувствует себя героем русской сказки:
Входи, мой царевич, приветный...
Мой любимый, мой князь, мой жених.
Изредка терем царевны расширяется в сказочную страну, в преображенную Русь, где в вечер под вербную субботу идут боярышни, где царю и боярам снятся заморские гости. Почти всюду на неясном бытовом фоне этой фантастической Руси – икона, свеча, лампада, кроткая поэзия церковного обряда.
Весь этот мир образов совершенно лишен плотности,
==109
тяжести, характерной для условно-национального русского стиля. Из каких впечатлений строится этот мир? Мы видели отражения русского искусства (деревянное зодчество Севера, книжная миниатюра), русской сказки, песни, духовного стиха и церковного обряда. Этот мир, построенный из тех же элементов, как и живописная Русь, открытая Васнецовым, Билибиным, Нестеровым на рубеже XX века. Русь Блока еще более воздушна, бесплотна, ирреальна. Ее идея – девическая чистота и мужская верность. Это святая, «белая» Русь. За лазурью неба, за алыми золями .именно белый цвет особенно дорог поэту (см. выше: «Белая Ты»).
Прилетали белые птицы...
И плескались белые перья...
Белая рука, белый, белогрудый конь, белые цветы и даже белые слова... Тот же смысл имеет первоначально образ снегов:
Отошла я в снега без возврата, —
прежде чем обернуться синей метелью и заворожить поэта недобрым колдовством. Для Блока «Прекрасной Дамы» белый цвет столь же характерен, как синий романтический цвет для поэта «Снежной Маски» и «Незнакомки».
Как ни слабо намечен у раннего Блока русский пейзаж и образ сказочной Руси, но, сжившись с ними, нельзя не почувствовать между ними некоторого противоречия. Среднерусский московский пейзаж Блока слишком спокоен, реален, цветущ для пригрезившегося рая и для томящейся по нем души. С годами Блок сознает это и навсегда отказывается от «зеленого пира» земли. В одном из стихотворений второго тома, в кольцовских хореях, поэт убедительно показывает, почему для него невозможно кольцовское наивно-радостное упоение родной природой:
Не мани меня ты, воля,
Не зови в поля!
Но здесь дана уже сложная мотивация. С обычным для Блока сдвигом образов и эмоциональных тонов поэт делает здесь два, в сущности, противоположных признания. Языческое слияние с родной землей для него невозможно потому, что он получил религиозное посвящение от «белой руки» (это в прошлом), но оно невозможно и потому, что он живет, в настоящем, с опустошенной, нищей душой.
Мы понимаем, почему шахматовские поля и рощи не вернутся в стихах поэта, но не вернутся и розовые сказочные образы «Белой Руси». Но об этом позже. Сейчас же необходимо указать, что в русские темы певца Прекрасной
==110
Дамы врезывается еще один, всего более волнующий нас мотив: чувство исторического рока. Поэт переживает его в прошлом родины, перед васнецовским Гамаюном, который
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых.
Он читает этот рок и в грядущем, по каким-то ему одному ведомым знамениям времени. Мы уже видели примеры его исторического ясновидения. Особенно поразительно известное стихотворения «Все ли спокойно в народе?» с его страшным призраком «народного смирителя» («Распутья», 1902—1904).
Заканчивая этот анализ, подчеркиваем, что образ Руси у раннего Блока слагается из трех элементов: в него входит среднерусский, подмосковный пейзаж, религиозно-сказочное восприятие древнерусской культуры (Белая Русь) и прозрение русских исторических судеб, всегда трагических. Все это только намечено, очерчено бледно, как и вообще русские темы тонут в массе иных, по большей части отвлеченных тем, вдохновляющих певца Прекрасной Дамы.
3
Когда совершилось неизбежное – «Ты в поля отошла без возврата» (или «в снега»), – поэт очнулся на земле. Но это не твердая, цветущая земля, а наиболее зыбкая, наиболее фантастическая, ирреальная из земных стихий, сродни облакам и туманам, – болота, «пузыри земли». По его признанию, он не может «говорить без волненья» об этих пузырях земли, читая о них в «Макбете». Тема болот чрезвычайно характерна для всех наших символистов: она отвечает общему для них ощущению жизни как таинственного тления. В этом символе заключена порочность и вместе беззащитность, обреченность, тоска по нежной смерти. Каждый по-своему переживает эту волнующую тему. У Блока пузыри земли пережиты наиболее чисто и даже религиозно. Не здесь, не в тлене плоти таились его демонические искушения. Как это ни странно, в недвижной тишине болот поэт видит образ вечности и верности, нетления сквозь вечный тлен:
Полюби эту вечность болот...
Этот куст, без нетления, тощ.
==111
Опускаясь так глубоко на дно земли, он еще видит над собой «алую ленту» зорь своей подруги и клянется ей в верности:
Я с тобой – навсегда, не уйду никогда
И осеннюю волю отдам.
Здесь спасение от страстей, от дикой воли, в смиренной покорности.
Мне болотная схима – желанный покой.
Но, конечно, поэт обманывает себя, видя «ласку подруги» в «старине озаренных болот». Там он оказывается совсем в другом обществе – «тварей весенних», «болотных чертенят», «болотных попиков». Детски трогательные, смиренные твари, но, разумеется, некрещеные, разумеется, «нежить, немочь вод». И поэт спускается в эти низы тварного мира, лишенные сознания добра и зла.
Душа моя рада
Всякому гаду,
Всякому зверю
И о всякой вере.
Поэт сливается с этим миром в забвении, в утрате своей личности:
Я, как ты, дитя дубрав,
Лик мой так же стерт...
Мы – забытые следы
Чьей-то глубины.
Это уже не смирение только, не унижение, а уничтожение «я», отказ от бессмертия. Запомним эту черту: готовность к онтологическому отречению от своей личности, безмерность в нисхождении, – она характерна и для некоторых моментов в отношении Блока к России.
Из этих болот она и возникает – новая, уже не сказочная Русь Блока. Как ни зыбка болотная почва, это все же почва, земля. Поэт реально соприкоснулся с ней, реально пережил землю – мы знаем где: в болотных окрестностях Петербурга во время своих уединенных скитаний, о которых он рассказал нам в «Ночной Фиалке». В Шахматове цветущая земля почти не останавливала его взоров, прикованных к небесным пейзажам. В Петербурге он впервые полюбил землю, отдался стихии болот, ища потерять в них свое разлюбленное «я». Петербургские болота открыли для него аскетическую красоту северной России и ее религиоз-
==112
ную идею. «Болотная схима» принимает конкретные формы, и из болот возникает монастырь:
Я живу в отдаленном скиту...
Болота отвердевают в северно-русский пейзаж, может быть воспринятый не без влияния Нестерова, и на этой скудной и нищей земле происходит первая встреча Блока с Христом. В стихотворении «Вот Он – Христос – в цепях и розах» неприятной фальшью звучит начало: здесь есть привкус розенкрейцерства, религиозное ощущение Андрея Белого, Блок почему-то дорожит этим символом розы, когда решается говорить о Христе: таков Христос «Двенадцати». Но дальше образ Христа развивается в полном единстве с «окладом убогой природы».
Единый, Светлый, немного грустный —
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.
И все так близко, и так далеко,
Что, стоя рядом, постичь нельзя
И не постигнешь синего Ока,
Пока не станешь сам, как стезя...
Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак.
«Глухой овраг», «истоптанна стезя» повторяют тему болотного смирения, и нищий Христос выступает на фоне нищей Руси почти как символ небытия.
Но это смиренное небытие недостижимо. Покой болот сменяется тоской осеннего безвременья, уничтожение – распятием. Алые грозди рябины в ржавой листве – как капли крови. Он сам, поэт, вознесен на крест над свинцовой рябью осенних рек «пред ликом родины суровой». И видит:
...по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.
В глазах такие же надежды,
И то же рубище на Нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.
Христос теряет последние знаки божественности, превращаясь в двойника поэта. Уничтоженный лик становится жалким и распятие безнадежным. Блок мог религиозно пережить лишь Сына Человеческого, соблазненный идеей своего с ним единосущия. Он и сам знает, что его Христос – «не воскресший».
==113
Не забудем этих как бы невзначай брошенных слов: «пред ликом родины». Они говорят о том, что и осенняя тоска земли, и образ Христа для поэта слились в нераздельное ощущение родины. Ее лик становится все более четким, и наступает момент, когда он наконец уже не просвечивает сквозь северный пейзаж, а одевается в него. Есть разница между живым ощущением родины, которое всегда было свойственно Блоку, и отношение к ней как к живому лицу. Отныне уже не небесная Подруга и не Христос принимают его песни, а живая родина, Русь, Россия.
Как характерно для Блока, что рождение этой новой его любви связано с новым – для морального суда – падением. Северная аскетическая Русь обращается к поэту новым ликом: кровь рябин, песня дождя и ветра вдруг начинают звучать для него не крестной мукой, а хмельным разгулом:
Разгулялась осень в мокрых долах, —
Обнажила кладбища земли.
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.
Вот оно, мое веселье, пляшет...
Навстречу этому призыву «осенней воли» откликается безумная, хмельная душа поэта, и он торжественно и несколько декларативно совершает свой выход в Русь: «Выхожу я в путь...»
Буду слушать голос Руси пьяной...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!
Впервые Русь, родина – «ты», живая, хотя совсем не святая – мать ли, жена ли, любовница? – с которой поэт связывает себя вечным, на этот раз нерушимым обетом:
Твой простор навеки полюблю...
Много раз еще изменит свой облик Русь, но поэт уже никогда не изменит ей.
4
Мы по необходимости изолируем тему России у Блока и отказываемся показать жизнь образа России в общем лирическом потоке его творчества. Задача эта и невыполнима в точности и строгом смысле впредь до установления хронологической сетки его «Трудов и дней». Впрочем, хронология здесь не имеет решающего значения. Несомненно,
==114
что первые звуки России раздались еще тогда, когда поэт был пленником «Снежных Масок» и «Незнакомок». Долго еще продолжается перебой последних «арф и скрипок» и новых песен родины. Но что из того, что «Песни Родины» и «Возмездия» одновременны? Тематически








