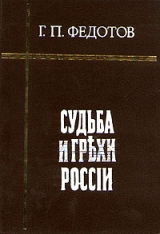
Текст книги "Судьба и грехи России"
Автор книги: Георгий Федотов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 54 страниц)
б) Церковь и Россия
Россия без креста, Россия – географическое место борьбы религий и сект, – ни один православный человек не примирится с этим. То, что кажется нормальным в самой ненормальной из цивилизаций, – вавилонское смешение языков – для нас нестерпимое уродство, тяжелый недуг вырождения. Мы жаждем целостного единства жизни и творчества. Нас мучит мечта о всенародном действии, о внехрамовой литургии, которая творится царственным священством христианской нации. Мы видим ангела русской Церкви в разодранных ризах, безутешного о погибшей красоте, и спасение остатков не примирит нас с отступничеством избранного народа.
Послереволюционная Россия – отяжелевшая, грубая, вся в алчности земного хлеба и в гордости земного могущества – Россия тракторов и пушек не может быть страной великой культуры. Сейчас бессмысленны мечты о перевале за исполинский хребет XIX века. Русский XIX век надолго останется непревзойденной вершиной нашего классицизма. Толстой, Достоевский, даже Пушкин были голосом христианского тысячелетия. За их личной гениальностью стоял углубленный и просветленный христианством гений народа. Так ощутима крестьянская (=христи-
==281
анская!) деревня за графом-мужиком Толстым и монастырь за грешным Достоевским. Не в занятии сельскохозяйственным трудом и не в близости к земле-природе смысл народничества как религиозной категории. Смысл его в народном массиве, хранящем память о древней правде и красоте. Европа этот массив давно разрушила, и крестьянин обернулся в ней «аграрием». В России он разрушен с революцией. Теперь у нас нет «народа», как нет интеллигенции. Остались «хлеборобы», «работники земли и леса», забывшие все начисто, tabula rasa для сельскохозяйственной арифметики.
Где, откуда на этой убогой земле подняться национальному гению? Не заменит его и изощренность мастерства, искушенность культурной традиции, чем живет Запад; Россия порвала все традиции, кроме традиции презрения к мастерству.
В России есть лишь один центр для духовного собирания народа. Есть сердце России, и пока оно не перестало биться, нельзя говорить о смерти нации. В Церкви, сжавшейся, сдавленной в темной подземной темнице, сохранились огромные, еще небывалые духовные силы. Они ждут своей актуализации. Придет пора, когда эта актуализация предстанет для них не в личном подвижничестве, а во всенародном служении. Это будет началом воскресения России.
Потеря «христианского народа» имеет и свое положительное значение. Благочестивая старушка перестает быть идеальной представительницей православного мирянства. Вместе с ней отпадает и бесхитростная установка на темноту. Христианство снова становится – как в Киеве и в Москве, как в Византии и в Риме – религией духовной аристократии. Творящие культуру слои освящают ее в купели мистерий, и оттуда воды ее текут до самой глубины народной жизни. Восстанавливается истинная иерархия духовного творчества нации. Вместе с прекращением рокового разрыва между «духовной жизнью» и «духовной культурой» создаются предпосылки для оцерковления культуры.
Оцерковление культуры – это наша христианская утопия, которую мы противополагаем всевозможным утопиям современности. Все остальные утопии реализуются в ней.
Оцерковление для нас – не подчинение внешнему авторитету Церкви. Оно есть осуществление религиозно-культурного единства, при котором Церковь не противостоит культуре, но творит ее в своих недрах. Это понятие не отрицательно-ограничивающее, но творчески-положительное. Его предпосылкой является не только признание миром религиозной правды Церкви, но и пробуждение в Церкви творчески-культурных сил. В этой утопии находят свое
==282
утоление и тоска художника по едином монументальном стиле, не мыслимом вне религиозной цельности, и тоска ученого по синтезе рассыпающейся груды наукообразных конструкций. Лишь в этой утопии вавилонская башня культуры становится храмом, оправдывающим свое священное имя (Bab-El). Купол святой Софии, как земное небо, спускается на исполинские столпы вселенского храма. А вокруг Храма уже видны очертания нового града – христианской общественности.
Два недуга, которыми больно человечество – иные думают, смертельно, – ненависть классов и ненависть наций – принципиально разрешимы лишь на почве христианства. Не , капитализм, то есть анархия личного произвола, и не коммунизм, то есть деспотия общества, а искомое и трудноопределимое равновесие личных и коллективных хозяйственных воль. Кто же будет арбитром между личностью и государством? Нельзя сомневаться, что одним из существенных факторов решения социального вопроса является психологическая установка – на личность и общество одновременно. Но лишь в христианстве возможно парадоксальное равенство: часть = целому. И лишь в православии – о, конечно, в возможности– даны предпосылки соборной общественности. Достоевский был прав, говоря, что Церковь – это наш русский социализм, – прав в смысле предвидения грядущего. Тщетно многие обращаются к современной России за решением социальной проблемы: для этого в ней отсутствуют и материальные, и моральные предпосылки. Но невозможное сегодня отодвигается в будущее. Из обломков коммунистической и капиталистической стройки медленно воздвигнутся стены христианского града.
Современное язычество с его самодовлением национальных культур делает невозможным сожительство и сотрудничество народов. Война в христианстве – по крайней мере война между христианскими народами – всегда остается делом грешным и постыдным. В нашу историческую эпоху – на другой день после мировой войны раздался явственно голос христианских Церквей о давно утраченном единстве. Но католичество, в самом имени своем несущее обетование единства, не может осуществить единства в свободе. Православие оказывается и здесь центральным материком христианского мира. Между ним и протестантизмом уже устанавливается единство если не веры, то любви. Православие уже не хочет уступать протестантизму духовной свободы, но показывает ему возможность духовной общественности. Проблема соединения Церквей необычайно трудна, но сближение Церквей, практическое единение христианства становится в порядок дня.
За расколами христианского мира встает во всей своей
==283
остроте великий спор между Востоком и Западом. Восток, начавший на наших глазах эпопею своих освободительных революций, скоро вступит в эру завоевательной экспансии. Россия, его ближайшая соседка, Россия, насыщенная восточными влияниями, становится призванной посредницей между Азией и Европой. Она имеет все основания смотреть с сочувствием на освободительное движение великих древних народов. Она может обильно и без вреда для себя черпать в сокровищнице их культуры. Но Она не предаст христианства и духовного первородства эллинства, которым она усыновлена. Если христианству, освобожденному от позорной связи с колониальными злодеяниями белой расы, суждено вырваться из роковых границ греко-римского мира, То православие, конечно, всего ближе миру Востока, Византия так много впитала в себя этого Востока, задолго до вторичной ориентализации Московского царства. Древняя славянская мечта об Индии – мечта русских былин и сказок – осуществится не в виде новой, третьей по счету Индийской империи, а в виде новой индийской Церкви, в которой воскреснет почти угасшее христианство ап. Фомы. В свете нового возрождения – возрождения Востока, – не мечтой, а точным историческим фактом становится центральное положение России в мире. В наше время неслыханных исторических унижений, пред лицом национального отступничества России, снова раздаются голоса о ее христианском призвании. Мессианская идея – ветхозаветно-реакционная – не имеет права на бытие в христианстве. В православии особенно раскрывается идея христианского призвания всех народов и их соборного единства, исключающего подчинение: и Риму, и Царьграду, и Москве. Но остается объективная истина особой тяжести служения, возложенного на Россию, и – в прошлом – щедрости ее даров. Нельзя только забывать об отступничестве России и вытекающей из него утрате харизм. Лишь через длительное очищение, через суровую аскезу смирения (мессианство – гордыня) лежит путь к земле обетованной. Лишь с этим условием чаемая нами утопия перестает быть мечтательной и вредной.
И в самой смелой из утопий нельзя забывать об иерархии состояний, о годах духовного роста. Оцерковление культуры, к которому мы стремимся, многие именуют православной теократией. В понятии теократии на первый план выдвигается идея христианского государства или христианской власти. И вот здесь необходимо сказать со всей решительностью и силой: да, государство подлежит оцерковлению, но государство есть последнее, что подлежит ему. Из всех культурных сфер государство столь тяжко насыщено грехом, столь несомненно несет на себе
==284
печать основателя Каина, что реальная христианизация его встречает наибольшие трудности. Мнимая же или словесно символическая его христианизация ощущается современной христианской совестью – более чуткой, чем совесть предков – как невыносимое лицемерие. Нет более страшной мысли, чем та, что Христос, распинаемый в России большевиками, будет распинаться в ней православным царем. Дело не в том, что христианская теократия предполагает невозможное состояние безгрешности. Но она, во всяком случае, предполагает такую иерархию ценностей, при которой все земное подчиняется Царству Божию. Совершенно ясно, что душа человека, его мысль, его творчество, его трудовая жизнь должны прежде получить помазание Церкви – лишь тогда будет благословен и его меч, которого он не может обнажить в порядке природном без страсти и злобы.
Но в плане утопии, в которой нет счета ни поколениям, ни векам, можно мыслить – и должно мыслить – христианскую Россию, Россию правды и свободы, которая достойна быть увенчана православным венцом. Незачем думать, что этим венцом может быть лишь царская корона. Если грядущая Россия будет страной народовластия, то она найдет церковные формы его освящения. Как древний Израиль, как православный Новгород, Россия может осуществить народную теократию. Всенародность государственного служения раскроет себя как выражение церковной соборности. Весь народ будет увенчан и помазан в лице своих вождей и судий. Но здесь порог, у которого останавливается и самая смелая из утопий.
==285
СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС И СВОБОДА
Социальный вопрос сохраняет для нас все ту же остроту, какую он имел для XIX века. Для современного общества это загадка сфинкса, не разрешить которой значит погибнуть. Однако со времени войны постановка его совершенно изменилась. Это изменение так значительно, что человек, социальное сознание которого воспитано в обстановке начала XX века, рискует ничего не понять в социальной современности. Во всяком случае, ему надо переучиваться с азов.
Прежде всего, социализм (берем это слово в его самом широком значении) утратил весь привкус утопичности и максимализма, который превращал его в «музыку будущего». Социализм есть самый практический, очередной и неотложный вопрос современности. В эру социализма мы уже вступили, не заметив этого, как не сразу замечает путник в горах надвинувшегося на него облака. В самом деле, момент «социальной революции», грань, отделяющая буржуазное общество от пролетарского, в сознании социалистов совпадал с «завоеванием» ими политической власти. Этот момент давно уже позади нас – с тех пор, как социалисты управляют или управляли государствами половины Европы. Правда, их появление у власти почти ни в чем не отразилось на экономическом строе. Но это уже связано с огромными трудностями социального преобразования общества – трудностями, впервые открывшимися для самих социалистов. По крайней мере в одном величайшем государстве Европы, где правят люди, свободные от этических и разумных предпосылок, социализм осуществляется всерьез вот уже четырнадцатый год, и не один десяток миллионов людей пал жертвой этого социального эксперимента.
Вторая особенность современного социального вопроса – в том, что он по содержанию своему уже не совпадает с вопросом рабочим. Все общество в целом страдает от потрясений разладившегося хозяйственного механизма. Есть общественные группы, которые оказались беззащитнее перед кризисом, чем пролетариат. Благодаря мощи своих
==286
политических и экономических организаций, рабочий класс во многих странах застраховал себя от безработицы государственной помощью. Пролетариат уже перестал быть последним из обездоленных. Но широкие слои интеллигенции, ремесленников и крестьянства совершенно беспомощны перед бедой. И наконец, «молнии разят самые высокие вершины». Каждый биржевой крах влечет за собою ряд самоубийств среди вчерашних властителей мира. В Америке уже открываются убежища для разорившихся миллионеров. В современных экономических бурях никто не может почитать себя в безопасности.
Если для рабочего класса социализм по-прежнему может представляться делом справедливости и пафос равенства (ненависть к неравенству) определяет его классовую борьбу, то для интеллигенции и других слоев, вовлеченных в социальное движение, дело идет не о равенстве и даже не о справедливости – а о существовании. Поскольку движение получает объективную идеологическую санкцию, оно находит ее не в классовом интересе, но и не в этическом требовании, а в государственной необходимости. И в этом третья существенная черта нового «социализма». Так условимся называть в дальнейшем антибуржуазные движения нашего времени, враждебные пролетарскому социализму: фашизм, национальный социализм и прочее.
Старый социализм мог глубоко скрывать свое этическое жало – отчасти из целомудрия, отчасти по недомыслию или желчности темперамента. Его гуманитарная основа сохранялась даже в марксизме. В извращенно-отрицательных реакциях – ненависти и злобы – догорал зажженный гуманистами 30-х годов костер сострадания и ненавидящей любви. Революционный социализм вырастает из тех же слоев сердца, что «Бедные люди» Достоевского или «Отверженные» Гюго. Его упадочная линия развития ведет через сострадание – справедливость – интерес. Но до наших дней приток интеллигенции в социалистические партии был бы немыслим, если бы в социализме не сохранялся – пусть самый слабый – запах выдыхающейся эссенции романтических 30-х годов.
Новый социализм начисто свободен не только от романтизма, но и от морализма вообще. Отправляясь не от защиты угнетенных, а от сохранения общества в целом, он проникнут пафосом не справедливости, а организации. Современное общество кажется ему не то что корыстным, тираническим, жестоким, но прежде всего плохо организованным. От анархии буржуазного общества он обращается не к идеальной анархии будущего, а к порядку и мощи реального, национального государства. Это государство давно уже крепнет вместе с упадком либерализма. Война сделала
==287
его на время почти всемогущим. Свобода, жизнь всех граждан, хозяйственный строк, представлявшийся мистически неприкосновенным, оказались на годы в неограниченной власти государства. Воспоминание о днях этого героического деспотизма вдохновляет ныне, в эпоху буржуазного бессилия, перед лицом все новых грозных кризисов. Война дала почувствовать мощь организации и обаяние мощи. Пафос борьбы и победы, державший в напряжении сотни миллионов людей, действительно оказывается выражением воли к мощи: Wille zur Macht. Само по себе начало организации как порядка может быть упоительно для прусского чиновника или для голландского лавочника. Но не ему, не этому началу консервативного порядка вдохновить выкормленное кровью поколение. Лишь в соединении с соблазном мощи организация увлекает новых революционеров. Новый социальный идеал оказывается родственным идеалу техническому, как .бы социальной транскрипцией техники: социальным конструктивизмом. Новый человек хочет строить новый город из огромных глыб человеческих масс, и государство представляется для его сожженной совести, для его оскудевшего разума единственным и притом безграничным источником энергии. Оно должно поставить на службу себе все силы и способности человека, сковать все классы цепью социального долга и разрешить, наконец, проблему разумного хозяйства и всеобщей обеспеченности.
В последней войне государство прикрывало свое абстрактно-идеальное начало живой национальной плотью. Люди умирали не за государство, а за родину. Небывалый в истории разлив национальных страстей был порождением войны. Нация оказалась сильнее класса, сильнее религии. Нация все еще полна обаянием бессознательно-творческих энергий, в ней живущих, дорогих красотой и правдой все еще не до конца омертвевших стихий народной души. И новые социальные строители эксплуатируют романтические чувства, без которых все еще не может обойтись человечество: только социальный романтизм уступил место национальному. Для многих деятелей движения национализм является не приправой необходимой демагогии, а подлинной его природой. Во всяком случае, он единственный идеальный его стержень, соответствующий моральным двигателям старого социализма.
Государство и нация доселе (в конце XIX – начале ХХ в.} принадлежали к консервативным ценностям политики. Новый социализм, вдохновляясь ими, показывает свое антиреволюционное происхождение. Действительно, встреча его со старым социализмом на поле социальной программы вторична и онтологически случайна. В одном акте стре-
==288
мятся выразить себя противоположные энергии духа. Новый социализм есть последнее слово социальной реакции. Нельзя говорить о консерватизме движения, стремящегося ниспровергнуть существующий капиталистический строй. И хотя слово «реакция» многозначно, его можно употреблять для характеристики всех сил, которые в новое время, принципиально и радикально, восстали на мир идей, породивших Великую Революцию или порожденных ею. Для этого идейного комплекса, для всего существенного и пребывающего в нем есть одно объемлющее слово: свобода, а отрицанием свободы определяется природа реакции.
В наше время умышленно не желают понимать значения слова «свобода» и требуют его строгого определения. Строгое определение свободы встречает большие философские трудности, а отсюда заключают с поспешным торжеством о пустоте и бессодержательности самой идеи. Как будто бы легко определить «любовь», или «родину», или даже «нацию». И будто бы нужно сперва найти определение нации или отечества, чтобы умереть за них. Еще не совсем сошло в могилу то поколение (поколения), которое умело умирать за свободу как за величайшую святыню, не спрашивая ее философских определений. Вера не тождественна с богословием. Существенно не содержание свободы, а вера в свободу или пафос свободы. К тому же в политической жизни речь идет не о метафизической, а о социальной свободе: об уменьшении зависимости, о возрастании самоопределения личности по отношению к обществу и прежде всего к государству; таким образом, свобода получает достаточно определенное содержание. Правда, это содержание должно быть еще более уточнено, чтобы пол-: учить деловую пригодность в политической работе нашего времени.
Когда-то, особенно в середине XIX века, консерваторы любили противополагать свободе порядок: не власть, не мощь как биологически-эстетическую ценность, а именно порядок. Любопытно, что с того времени (1848 г.) буржуазия чувствует себя на стороне порядка, хотя социализм, и старый, и новый, не перестает упрекать ее в анархизме. Старый «порядок» и .новая «организация», казалось бы, чрезвычайно близки по своему значению. Однако порядок выражает более статическую, данную сторону социальной организации; организация в современном смысле – творчество нового порядка. Но и порядок, и организация суть силы, ограничивающие свободу, частично или целиком отрицающие ее.
Действительно, всякое социальное строительство совершается за счет свободы личностей, урезывая, умаляя ее. Всякий закон, всякий устав, образование каждой, хотя бы
==289
совершенно свободной, корпорации означает отказ (или принуждение к отказу) личности от некоторой доли ее прав. Личная свобода есть материя, из которой шьется всякая социальная одежда. Запас этой материи не может быть неистощимым; он расходуется и не пополняется ничем. Это значит, предел всякой общественной организации есть всеобщее рабство. Противоположный, низший предел организации есть полная социальная нагота, анархия, свободная и жестокая борьба всех против всех. Между этими двумя границами совершается колебание социальных приливов и отливов. Средневековье знало широкую свободу личностей (феодальных) и групп (корпораций), правда на фоне массовой несвободы сервов. Абсолютная монархия нового времени подчинила буйную феодальную свободу всеобщего порядка. Окостенелая стеснительность этого порядка вызвала взрыв буржуазного освобождения, пытавшегося построить жизнь на свободной игре сил. Ныне государство, питаемое социальной идеей, собирается положить конец этой свободе и восстановить свой, столь недавно поколебленный абсолютизм. В Италии и России оно утверждает себя с такой беспощадностью, как ни одна тирания времен Возрождения, оставляя позади себя даже крепостную империю Диоклетиана и Константина. Фашистское государство Италии представляется более зрелым и зловещим в своем холодном демонизме, чем остервенелое безумие коммунизма. Коммунизм в России живет еще бессознательным отголоском Великой Революции. Утверждая себя как диктатуру класса, обреченного на уничтожение в процессе революции, он сам признает свою переходность и временность. Фашизм сознает себя Империей, которая хочет быть вечной, как Рим. И коммунизм, и фашизм выходят далеко за грани только экономической или социальной реконструкции общества. Для фашизма эта задача даже явственно оказывается на втором плане. Но они оба стремятся к полному овладению человеческой личностью, к совершенному использованию ее в интересах государства. Работник, солдат, производитель – вот все, что остается от человека. Государство не оставляет ни одного угла в его жилище, ни одного угла в его душе вне своего контроля и своей «организации». Религия, искусство, научная работа, семья и воспитание – все становится функцией государства. Личность теряет до конца свое достоинство, свое отличие от животного. Для государства-зверя политика становится человеческой отраслью животноводства. Ясно, что такое самосознание государства несовместимо с христианством. В явной или скрытой форме война христианству объявлена в коммунистической России, в фашистской Италии, в гитлеровской Германии. Лишь русские эмиг-
==290
рантские варианты национального социализма любят рядиться в православные цвета. Впрочем, православие их при этом неизбежно теряет христианское содержание, превращаясь в национально-бытовой полуязыческий ритуализм.
Какие силы в мире противостоят этому натиску универсального деспотизма, на страже свободы? В течение полутора веков свобода во всех ее аспектах – как свобода политическая, экономическая и духовная – была связана с судьбой одного класса – буржуазии. Ее гегемония в современном обществе сообщает ему характер самого свободного из когда-либо существовавших на земле. По-видимому, это не было случайностью. Не раз в истории торжество буржуазии было отмечено расцветом свободы: в демократиях Греции, в средневековых коммунах, в вечевых народоправствах Руси. Ввиду различия духовных основ этих культур объединяющее их свободолюбие буржуазии следует объяснить ее своеобразной ролью в общественно-хозяйственной жизни. Буржуазия несет с собой начало личной инициативы, сознательного расчета, свободной и личной организации производства. Пусть иногда она не отказывается от помощи и привилегий государства. В основном она держится на вере в собственные усилия экономически-творческой личности. Буржуазия проникнута известным недоверием к государству, к его вмешательству во все жизненные сферы. Она придерживается государственного минимализма. Защищая прежде всего свою свободу хозяина, свободу хозяйственного творчества, она психологически приходит к признанию свободы вообще: свободы гражданина, свободы разума и совести. Есть одна сфера духовной свободы, которая совершенно непосредственно связана с буржуазным сознанием: это свобода мысли. Мысль для буржуа есть непременное и постоянное условие его собственного хозяйствования: строгая, аналитическая и синтетическая, вполне наукообразная мысль, которая отличает рационализм буржуазной экономики от других традиционных и социально-связанных хозяйственных форм. Творческая психология капитализма сродни психологии науки. Буржуа всегда поддерживает критическую пытливость ученого, и XIX век, губительный для многих отраслей духовной культуры, оказался исключительно счастливым для научного творчества. Но дух науки – это дух свободы.
Буржуазия европейских обществ пережила очень сложную и бурную историю. В процессе ее буржуазное обоснование свободы меняло свою идеологию. В начале новых столетий это обоснование имеет строго христианский характер. Первый капиталист проявляется перед нами в облике сурового протестанта. Пуританин, он протестует против роскоши и легкомыслия католически-дворянского
==291
«света», он замыкается в своей семье, противополагая ее, как свой «замок», государству. Его нравственный идеал построен на верности и честности, строгости к себе и другим. Это мораль долга, ветхозаветная по своей религиозной природе и охотно облекающаяся в библейские одежды. За свою веру, за свое «истинное» христианство, в его личном духовном понимании, буржуа готов идти в изгнание и на смерть. Свобода, за которую он борется, есть прежде всего свобода христианина – Freiheit eines Christenmenschen – противополагаемая им государству и его религиозному принуждению.
За этой ранней, англосаксонской формацией буржуазии следует вторая, континентальная, преимущественно французская, торжество которой связано с циклом европейских революций. Ее религия уже потеряла христианский характер. Это религия гуманизма в оптимистической транскрипции XVIII века. Ученики Руссо и Бентама верят в мудрость природы и благость человека. Свобода является простым выводом из предпосылки натуральной гармонии. Из свободной игры личных сил создается общее счастье. Поменьше организации; законы – цепи. Долг совпадает с торжеством личной воли. Здесь революционные романтики и сухие утилитаристы (Гюго и Бентам) стоят на общей почве: дают разно окрашенные, но по существу тождественные обоснования буржуазной свободы.
В наши дни от этого гуманитарного оптимизма почти не осталось и следов. В странах его былого господства его сменил скептицизм, отрицающий возможность познания абсолютной истины. Скептицизм сделался основой буржуазного сознания во Франции, где он продолжает старую классическую и аристократическую традицию. Строящаяся на нем культура носит явно упадочный характер. В этой фазе буржуазия наследует имморализм дворянского возрождения. Свобода, которой по-прежнему дорожит буржуазия, имеет для нее двоякий смысл: возможно более удобного наслаждения жизнью и нестесненного упражнения интеллекта. Свобода мотивируется в наши дни чаще всего невозможностью познания истины и вместе с тем интересом (и полезностью) ее исканий. Свобода ученого защищается буржуазным неверием, как свобода художника – буржуазной похотливостью. Это не мешает науке и искусству нашего времени – отнюдь не буржуазным – быть творческими в высшей мере, нежели творчество предыдущего поколения: содержать в себе более духовных, даже религиозных ценностей. Нередко социальная функция духовной деятельности совершенно не соответствует ее внутренней ценности. В эпоху абсолютной монархии искусство было
==292
формой придворной роскоши. Наука и в наше время обслуживает прежде всего профессиональные потребности.
Остается фактом, что никогда в мире свобода, даже свобода высшей духовной деятельности, не была более уважаема, лучше защищена, нежели в век буржуазного скептицизма. Но эта защита не прочна. Более того, буржуазия компрометирует свободу своим покровительством. Есть все основания опасаться, что социальное падение буржуазии увлечет за собой и падение свободы. Уже сейчас самая сильная ненависть к свободе питается справедливым отвращением к природе современного буржуа. Свобода должна найти для себя более прочное обоснование, нежели буржуазный скептицизм. Иначе она будет сметена тем или иным фанатизмом, который идет ему на смену. Скептицизм есть жизненная установка умирающих классов.
Однако не следует забывать, что духовная упадочность характеризует буржуазию главным образом романской Европы: ту, которая пришла к власти вместе с Революцией. Англосаксонский, отчасти германский мир еще хранит веру реформации, и его христианство обладает большой жизненной активностью. Кальвинистическая буржуазия в немалых слоях своих имеет чувство социальной ответственности и, пред лицом настоящего кризиса, ищет выхода, хочет участвовать в поисках общественного строя.
И еще: когда мы произносим свой окончательный суд над буржуазией, нужно помнить все ее великое и героическое прошлое: века борьбы за свободу и достоинство человеческой личности, самоотверженный подвиг исследования мира, трагические искания целостного мировоззрения – все, над чем занесен сейчас топор варвара. Буржуазия не была создательницей гуманизма, но судьбой своей она поставлена на страже его. Она связана с ним общим грехом и вместе с ним живет под угрозой кошмарной расплаты.
Свобода имеет в современном мире, кроме буржуазии, еще одного защитника: партии старого «демократического» социализма. Его прошлое, самое рождение его, казалось, не предназначало его к этой роли. Противник буржуазии, привыкший превращать отрицания в утверждения, социализм, исторически и логически, должен был защищать начало организации против свободы. Вместе с Лассалем он издевался над либеральным пониманием государства как «ночного сторожа». Он совершил немало грехов против политической свободы в середине XIX века. Это он содействовал – не только косвенно, но и прямо, рабочим голосованием, – установлению II Империи во Франции. Он вместе с Марксом и русскими народниками первого призыва отрицал всеобщее избирательное право и политическую демократию. Но времена изменились, и социализм








