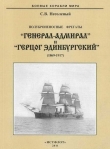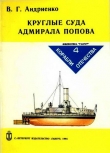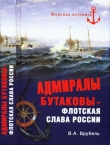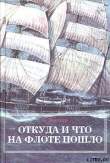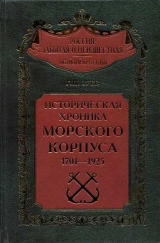
Текст книги "Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг."
Автор книги: Георгий Зуев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Зуев Г.И.
Историческая хроника Морского корпуса. 1701-1925 гг.
ОТ АВТОРА
Светлой памяти офицеров Российского флота посвящается
Не здесь, а там – в порту совсем иного мира,
Которого нельзя на картах отыскать,
Сегодня, будто вновь спеша на вахту стать,
Сойдутся флотского носители мундира
С кадета-мальчика до старца-командира,
Одна семья, отец – им флот, Россия – мать;
Собравшись в круг, пойдут былое вспоминать, –
Свой Корпус, флот, моря – оттенков всех сапфира.
Игорь Автономов. Лос-Анджелес, 1971 г.

Организация регулярного Российского военно-морского флота всегда оставалась одной из главных забот Петра Великого. В минуты трудностей в делах морских остальное отступало у императора на второй план. Далеко опередив разум и понятия своих подданных, Петр I вынужден был вести борьбу с рутинностью и их упорным сопротивлением делам и помыслам по созданию в России отечественных военно-морских сил.
И он добился своего – поднял престиж России до уровня великой морской державы. Это стоило значительных денежных средств и человеческих жизней, суровых испытаний и тягот, возложенных на многострадальный русский народ.
Всеобщее изумление и панический страх охватили цивилизованную Европу, когда Россия, неожиданно для всех, превратилась в могучего лидера на просторах Балтики.
Строительство военных кораблей началось во время Северной войны. Флот строился стремительно, создавалась его инфраструктура. Первые русские корабли сразу же включались в военные действия.
История Морского кадетского корпуса – детища Петра Великого – уходит в далекое прошлое. Она неразрывно связана со становлением и развитием отечественных военно-морских сил. Обстоятельства требовали оперативной подготовки своих национальных кадров – морских офицеров и флотских специалистов для формирования и пополнения команд кораблей Балтийского флота.
Военно-морское учебное заведение стало своеобразной кузницей кадров для отечественного флота. Однако процесс его становления и развития был далеко не однозначным – в нем можно отметить не только позитивные, но и негативные тенденции.
При организации в Москве Навигацкой школы – прообраза Морского кадетского корпуса – заимствован опыт основания военно-морских учебных заведений в развитых европейских странах. Подобный вывод звучит вполне правомочно после ознакомления с текстом указа Петра I от 14 января 1701 года об учреждении Школы математических и навигацких наук. Несколько витиеватым слогом в этом историческом документе говорится, что учреждается Навигацкая школа по примеру прежде бывших греческих императоров («древле бывших грекоправославных самодержавных монархов»), ныне царствующих в Европе монархов (подразумеваются Англия, Франция, Испания и Швеция). Вышеизложенное позволяет достоверно утверждать, что русский царь – главный учредитель Навигацкой школы в Москве и составитель указа о ее основании – был достаточно подробно осведомлен о системе обучения морскому делу за границей.
Вместе с тем следует заметить, что заимствование зарубежного опыта осуществлялось императором с обязательным учетом особенностей и существенных различий в динамике развития общества в России и европейских государствах.
Нередко значение событий и фактов прошлого с течением времени подвергается основательной переоценке. Бывшие в определенный исторический период значительными и важными, они впоследствии, в контексте новых эпохальных обстоятельств, предстают в совершенно ином свете. Справедливость этого лишний раз подтверждается при обращении к истории Морского кадетского корпуса, положившего начало регулярному военно-морскому образованию в России.
Специальное морское учебное заведение привлекало внимание историков дореволюционного периода. Именно они сделали его предметом всестороннего изучения, введя в научный оборот большой комплекс архивных материалов. Историки же советского периода, как правило, касались темы Морского кадетского корпуса весьма поверхностно, и всякий раз обязательно замечали, что это учебное заведение в основном занималось подготовкой и воспитанием будущих офицеров царского флота, являющихся по своему существу «оплотом самодержавия» и рассадником антинародных реакционных идей. Заявляя об этом, авторы подобных исторических исследований, по-видимому, забывали или вынуждены были забыть о целом ряде примеров, характеризующих убеждения отдельных воспитанников корпуса. Рассматривая тезис о «реакционности» морских кадетов, уместно напомнить общеизвестные исторические факты о том, что воспитанники морского корпуса не только искренне поддерживали декабристов, но и сами хотели присоединиться к морским офицерам, выведшим на мятежную Сенатскую площадь матросов Морского гвардейского экипажа.
Как правило, советские исследователи, занимающиеся военно-учебными заведениями России, довольно часто, в силу общеизвестных обстоятельств, осторожно обходили «кадетские» сюжеты, не освещая объективно работу Морского кадетского корпуса. А между тем становление и развитие этого военно-морского учебного заведения оказало существенное влияние на всю систему образования и просвещения в стране. Вне всякого сомнения, создание Петром I в 1701 году Школы математических и навигацких наук знаменовало собой существенный уровень европеизации системы отечественного образования. Знания, которые получали воспитанники Морского корпуса в XVIII веке, были, безусловно, выше, чем в большинстве существовавших тогда учебных заведений. Корпус той поры по праву сравним с Российским университетом, тем более что в том и другом часто преподавали одни и те же профессора. По существу, он являлся высшим учебным заведением, хотя многие годы не имел такого официального статуса.
Морской корпус всегда славился своими педагогами и воспитателями. В нем работали опытные специалисты морского дела, известные профессора столичных учебных заведений и лучшие морские офицеры, прошедшие суровую школу и боевую закалку в исторических сражениях. Воспитанникам корпуса постоянно внушалась известная истина, соответствующая их будущему жизненному и служебному кредо: «Жизнь начинается не правами, а обязанностями, среди которых первой всегда значится охрана Отчизны». В основе морали морского офицера всегда главенствовало выполнение воинского долга перед Отечеством. И действительно, выпускник Морского корпуса мог придерживаться любых убеждений, но при этом всегда считал себя связанным с воинской присягой, отступление от нее расценивалось как позор и приравнивалось к проявлению трусости в бою.
Бывшие воспитанники Морского корпуса внесли огромный вклад в отечественную культуру. Причем своеобразие этого вклада следует соотнести не только со специфическими «культурными» видами деятельности, но и с культурой поведения, с сохранившимися до наших дней традициями особой флотской эстетики и этики, с теми духовными ценностями, носителями которых всегда являлись морские офицеры.
Воспитанники военно-морского учебного заведения известны не только своими ратными подвигами, но и великими открытиями. Их имена можно найти на географических картах как свидетельства весомого вклада наших соотечественников в мировую науку. Это прежде всего исследователи Северного Ледовитого океана С.Г. Малыгин, А.И. Чириков, С.И. Челюскин; участники кругосветных морских походов И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский; первооткрыватели Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев; гидрографы А.И. Нагаев и Г.А. Сарычев. Из стен Морского кадетского корпуса начинался путь в море С.В. Муравьева – участника экспедиции В.И. Беринга; Е.В. Путятина – героя Наваринского сражения и дипломата; В.А. Римского-Корсакова – исследователя Японского и Охотского морей. Корпус стал своеобразной колыбелью для известных деятелей русской науки и искусства. В разные периоды времени его воспитанниками были композитор Н.А. Римский-Корсаков, географ Ю.М. Шокальский, художник В.В. Верещагин, диалектолог В.И. Даль, академик-кораблестроитель А.Н. Крылов и многие другие.
По-разному складывались судьбы выпускников Морского кадетского корпуса. Одни пали смертью героев в морских сражениях, другие, поднимаясь по служебной лестнице, становились адмиралами, командующими флотами, морскими министрами. Многие из выпускников, достигнув адмиральских чинов, вновь возвращались в его стены, чтобы передать свой опыт и знания будущему поколению морских офицеров Российского флота. Во все годы существования корпуса его воспитанников объединяли горячая любовь к России, благородство, верность присяге, морским традициям и упорство в достижении цели вопреки опасностям и лишениям.
Революция, гражданская война, классовые баррикады надолго разделили соотечественников на два лагеря, погрузили в забвение и вычеркнули из нашей истории многих достойных деятелей отечественного флота, в том числе преподавателей и питомцев Морского корпуса, чья жизнь была посвящена и отдана России.
В книге, основанной на архивных материалах, исторических фактах, мемуарах выпускников, в строгой хронологической последовательности излагается история этого специального учебного заведения с момента его учреждения Петром I в 1701 году вплоть до его официального закрытия в 1925 году во французской Бизерте.
Публикация подобных исторических материалов предпринята не только ради необходимости правдивого освещения деятельности этого уникального военно-морского учебного заведения России, но и ради гражданской реабилитации его директоров, преподавателей и выпускников.
В предлагаемой книге рассказано об организации в России военно-морского образования за 225 лет существования флотских учебных учреждений: Навигацкой школы (1701-1715 гг.), Морской академии (1715-1752 гг.), Морского шляхетного кадетского корпуса (1752-1762 гг.) и Морского кадетского корпуса (1762-1925 гг.).
В книгу включены воспоминания морских офицеров – выпускников Морского корпуса разных лет, их персональные оценки организации учебного процесса, мнения о педагогах, наставниках и друзьях. Среди редких документов, опубликованных на страницах книги, следует особо отметить неизвестные широкому кругу историков материалы из сохранившихся семейных архивов бывших воспитанников Морского корпуса, любезно предоставленные для публикации наследниками морских офицеров.
История – это всегда прошлое, но без него не обрести веру в будущее. Возрождение нации – это возрождение ее культуры, а значит, ее духовных и материальных ценностей. Без изучения исторического прошлого и воспитания патриотизма в обществе на его основе, это сделать невозможно. Наш народ – это не только сто с лишним миллионов, населяющих сейчас Россию, но и миллиард наших предков, преумножавших славу великой страны. Сейчас история дает шанс нам, нашим детям и внукам снова стать патриотами своей Отчизны. Велик военный гений русского народа, ибо он основан на величайшем чувстве патриотизма и самопожертвования. Именно эту задачу успешно решало старейшее учебное заведение – Морской кадетский корпус, воспитавший в своих стенах не одно поколение офицеров Российского флота, у которого в самых сложных и критических случаях был только один сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь!»
Выпускники Морского корпуса всегда оставались на стороне своего Отечества. Для них слова «честь офицера», «воинская честь» и «присяга» – не пустой звук, а нерушимые святые принципы, от которых никогда не отступают, и именно они оставались для воспитанников старейшего военно-морского учебного заведения России путеводной нитью и жизненным убеждением.
«МАТЕМАТИЧЕСКИХ, НАВИГАЦКИХ И МОРЕХОДНЫХ ХИТРОСТНО НАУК УЧЕНИЮ БЫТЬ»
В конце XVII столетия Российское государство, наделенное несметными природными богатствами, продолжало оставаться феодальной державой, отставшей в своем экономическом развитии от ведущих стран Западной Европы. И тому были довольно веские причины. Оторванность от морей затрудняла ее торговые и культурные связи с другими странами, создавала постоянную реальную угрозу вторжения на ее территорию иноземных захватчиков. Извечные враги России – соседние прибрежные государства – это прекрасно понимали, считая, что пока страна будет лишена независимого выхода на морские просторы, она не сможет проводить самостоятельную государственную политику.
Полностью осознавал это и молодой русский царь. Главной целью своей внешнеполитической деятельности он сделал борьбу за выход к Балтийскому и Черному морям. Умело используя сложившуюся к концу 90-х годов XVII века международную обстановку и благоприятное соотношение сил, позволявшее создать антитурецкую коалицию (Россия, Польша, Австрия и Венеция), государь решил начать военные действия против Турции, а затем отвоевать исконные русские прибалтийские земли у Швеции.
В 1695 году Петр I предпринял свой первый поход на турецкую крепость Азов, которая закрывала выход русским торговым судам в Азовское море по реке Дон.
Российские сухопутные войска дважды штурмовали крепость, но добиться успеха не смогли. После нескольких кровопролитных и весьма неудачных приступов на крепостные стены Азова от огромной русской армии осталась одна треть личного состава.
27 сентября 1695 года, в ночь, осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли назад по левому берегу Дона. Впереди обозы – за ними – остатки войск, в тылу – два полка генерала Гордона. Шли по обледенелой земле, с неба валил снег, буйствовала вьюга. Солдаты – босые, в летних кафтанах – уныло брели по безбрежной равнине, покрытой ранним снегом. За войском постоянно следовали стаи голодных волков, наводя страх на обессиленных воинов.

С дороги Петр написал в Москву князю-кесарю: «Мин херц кениг… По возвращении от невзятого Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галисты [1]1
Галиста – большая галера, парусно-гребной военный корабль; промежуточный тип судна между галерой и парусным кораблем
[Закрыть], галеры и иные суда. В коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. А о здешнем возвещаю, что отец ваш государев, святейший Ианикит, архиепископ прешпургский и всея Яузы и всего Кукую патриарх с холопьями своими, дал Бог, в добром здравии. Петр».
Так, без славы, окончился первый азовский поход. После сокрушительной неудачи царь лишь на короткий срок задержался в Москве и тотчас уехал в Воронеж, куда со всей России начали сгонять рабочий и ремесленный люд. По грязным осенним дорогам в город потянулись многочисленные обозы. Строились верфи, бараки для рабочих, амбары для строительных материалов. На стапелях заложили 2 корабля, 23 галеры и 4 брандера [2]2
Брандер – в эпоху парусного флота – судно, груженное горючими и взрывчатыми веществами; предназначалось для поджигания вражеских кораблей.
[Закрыть]. Зима выдалась лютой. Люди сотнями гибли и убегали с проклятой каторги. Их ловили, заковывали в железо. Пронизывающий до костей ветер раскачивал на виселицах тела казненных.
Чтобы не идти в Воронеж, в деревнях мужики калечились, рубили себе пальцы. Приказам Петра I противилась вся православная Русь. Пришли антихристовы времена! Возмущались крестьяне: «Волокут на новую и непонятную каторжную работу!» Ругались помещики, выплачивая деньги на строительство морских судов и выделяя для царских причуд крепостных крестьян. Поля в тот год стояли незасеянными, хлебные амбары пустовали.

Духовенство возмущенно перешептывалось: авторитет церкви ослабевал, в свои руки все теперь брали проклятые иноземцы и беспородные новорусские проходимцы.
Трудно начинался новый XVIII век. И все же, несмотря на все это, первый флот был построен. 18 июля 1696 года русская сухопутная армия и военные корабли вынудили турецкий гарнизон Азова, лишенный поддержки с моря и блокированный с суши, капитулировать.
Эта победа вывела Россию на берега Черного моря. Но для закрепления успеха требовалось создание более мощного отечественного регулярного военного флота. Считая его организацию делом государственной важности и неоднократно повторяя всем своим оппонентам, что «сие дело необходимо нужно есть государству по оной пословице: что всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», царь принудил Боярскую думу вынести историческое решение: «Морским судам быть», с этого события началась история регулярного российского флота.

Строительство флота в стране в конце XVII – начале XVIII века пошло такими темпами, что новые военные корабли вынуждены были стоять в гаванях из-за нехватки офицеров и матросов для укомплектования судовых команд. Император спешно направил посольских служивых людей за границу для вербовки в тамошних портах «добрых моряков». Одновременно целые полки отборных гвардейцев по велению Петра I срочно превращались в матросов, а рекрутский набор для нужд флота производился преимущественно в губерниях, прилежащих к морю, озерам и большим рекам. Иностранцы критически относились к энергичным действиям царя, уверенно считая, что русский солдат на сухом пути превосходен, но к морской службе малопригоден. Для подобных суждений существовали достаточно веские основания. Россия испокон веку являлась страной континентальной и никогда морских границ не имела. Русский народ не питал особой любви к морским путешествиям и опытом вождения судов, тем более военных, не обладал. Нелюбовь русских к морю была непреодолима. Однако, по твердому убеждению царя, молодому российскому флоту требовались свои национальные кадры морских офицеров и корабельных специалистов. И вот вскоре не боярским приговором, а лично государевым указом велено пятидесяти дворянским отпрыскам собираться за море, осваивать морское дело и навигацкие науки, учиться математике и кораблестроению.
В 1697 году три партии стольников отправились в Венецию, а четвертая группа молодых дворян выехала для обучения морскому делу в Лондон и Амстердам.
В домах именитых русских бояр «стон стоял и плач великий». Великое горе! Государь указал недорослям дворянским отбывать за рубеж, где, прости Господи, по-нашему и говорить-то не умеют!
Постигать там какое – то таинственное ремесло – навигацкую науку и умение водить корабли в бою. Царь повелел не возвращаться в Россию до тех пор, пока чада их не получат свидетельства о пригодности к службе морской. При этом они должны пройти практику на судах да поучаствовать в сражениях морских. И это еще не все. Пребывание недорослей в заморских краях будет проходить за собственный кошт. Кряхтели бояре, в голос выли боярыни. Но как ослушаться царя, если тот за невыполнение своего указа грозил лишить чинов и вотчин?..
Вослед молодым дворянам за рубеж отбыл и сам государь со свитой. В составе Великого посольства, возглавляемого генерал-адмиралом Ф.Я. Лефортом, боярином Ф.А. Головиным и дьяком П.В. Возницыным, Петр I находился под именем бомбардира Михайлова.
Ох и круто заворачивал самодержец всея Руси! Неспокойно было на Москве. Иноземная зараза настойчиво проникала в полусонное царство столицы. Бояре, духовенство и все православное поместное дворянство страшилось перемен, удивленно внимало, как быстро и жестко внедрялись новые планы царя Петра. Вздыхали: «Живем без страха Божия! В бездну катимся!»

Царя не узнавали даже приближенные к нему люди – зол, упрям, весь в заботах и планах. В Воронеже и на Дону быстрым темпом строились верфи. Корабли, галеры и брандеры закладывались на стапелях. Деяниям императора противилась вся Россия. В народе роптали: «Воистину, пришли антихристовы времена!»
Перед своим отъездом за границу император поручил правление государством князю Федору Юрьевичу Ромодановскому. Ему был присвоен титул Князя Кесаря и Его Величества.
Царь относился к князю как обычный подданный к государю. Из Амстердама в Москву Петр писал Великому Кесарю: «…Которы навигаторы посланы по вашему указу учиться, – розданы все по местам… Иван Головин, Плещеев, Кропоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меншиков… при которых я обитаю, отданы – одни в Саардаме, другие – на Остинский двор к корабельному делу… Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Сенявин пошли на корабли в разные места в матрозы; Арчилов поехал в Гаагу бомбардирству учиться… А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут… но мы намерения их переменили, велели им идти в чернорабочие, на Остадтскую верфь…»
Вернувшиеся в 1699 году стольники строго экзаменовались самим царем на военном корабле, стоявшем на якоре неподалеку от Воронежской судоверфи. Результаты оказались малоутешительными – из общего числа направленных в 1697 году за рубеж детей дворянских «экзерцицию» по морским наукам выдержали только четверо. Первый опыт направления молодых дворян обучаться морскому делу за границей не дал ожидаемых результатов. Во-первых, боярские дети не владели должными знаниями математических (цифирных) наук, обязательных для освоения сложных морских дисциплин; во-вторых, не имели ни малейшего представления об иностранных языках. Кроме того, для людей с подобной общеобразовательной подготовкой срок пребывания за границей оказался явно недостаточен.
Все это окончательно убедило царя Петра в необходимости организации в России собственного специального учебного морского заведения для подготовки в его стенах национальных кадров морских офицеров и корабельных специалистов. Посетив в 1698 году Лондон, царь еще тогда приказал подобрать для будущей Навигацкой школы хорошего преподавателя математики и морских наук. Ему представили профессора Абердинского университета Генри Фархварсона, охотно принявшего предложение русского царя и согласившегося не только преподавать математику и морские науки, но и организовать новое морское учебное заведение в Москве.
Уведомляя о своем решении Князя Кесаря, Петр I с сомнением сообщал: «…Одно меня беспокоит – Фархварсон сей, как и его помощник Гвын, кои для преподавания в Навигацкой школе выписаны, ни одного слова по-русски не знают. Переводчики же наши переводить толком учебники не могут…»
Князь Кесарь, прикрыв глаза тяжелыми веками, поудобнее уселся на лавке в углу Гербовой палаты и продолжал внимательно слушать царское послание, которое монотонной скороговоркой читал ему дьяк Виниус: «Мин херц Кениг,

Брюса направляем мы в Англицкую землю, в Лондон, дабы какие ни на есть книги математические и навигацкие закупил и еще добрых учителей мореходных хитростных наук на службу к нам взял. Думаем мы указ учинить, чтобы школу навигацкую учредить в Москве. Посему боярские и дворянские дети все дни здесь по кабакам шляются, а науку знать не хотят. А быть той школе в башне, что поставили мы в честь Лаврентия Сухарева полка… И о том, мин херц, присмотри. Питер».
И вновь по кривым немощеным улицам Москвы поползли слухи. Зря, видно, подьячего, что на паперти у Спаса на Крови письма подметывал, казнили жестоко. Верно писано было: «Антихрист ныне является. Все на лицо антихристово строят, миру кончина пришла, если того антихриста не избыть добре, став с крестом ему напротив!»
Именитые люди, поглаживая окладистые бороды, поглядывали на чудное строение, возводимое на манер корабля. Дом рос буквально на глазах москвичей. Пристраивались замысловатые галереи второго яруса, выводили восточную пристройку – «нос судна» и западную – «корму». Посредине «вздорным манером» взметнулась ввысь башня-«мачта». Да не с крестом на верхушке, а с двуглавым орлом – гербом российским.
Слухи возбуждали обывателей, их фантазия, восполняя недостаток сведений о происходящих в столице событиях, оборачивалась вымыслами и преувеличениями. Кто-то напрягался, измышляя, чтобы продемонстрировать якобы свою причастность к событиям, недоступным «простому» человеку, кто-то добросовестно пересказывал услышанное в кабаке, на торжище, ибо всякому приятно хоть на несколько минут оказаться в центре внимания толпы. Молва стоустна и безлика, но в основе слухов всегда лежат пустая болтливость и некомпетентность. Комплекс строений Сухаревой башни закончили возводить в 1701 году. 14 января того же года царь подписал указ об основании в России первой светской школы, положившей начало обучению математическим наукам и их применению для навигации.
Высочайший указ об основании Школы математических и навигацких наук, составленный самим Петром I, являлся не только официальным распоряжением об основании в Москве учебного заведения по подготовке профессиональных специалистов для морского флота, но и регламентировал различные аспекты его работы. Приводим текст петровского указа, сохранив стиль и орфографию подлинника, передающие аромат той далекой и довольно суровой эпохи:
«Великий Государь, Царь и Великий Князь Петр Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, ревнуя древле – бывшим Трекоправославным Пресветлосамодержавнейшим Монархом, премудро управляющим во всяком устремлении Государствие Самодержавия своего и иным в Европе ныне содержащихся и премудро тщательно управляемых государствий Пресветлодержавнейшим Монархом же и Речи Посполитые управителем, указал Именным Своим Великого То сударя повелением, в Государстве Богохранимыя Своея Державы Всероссийского Самодержавия: на славу Всеславного Имени Всемудрейшего Бога, и своего Богосодержимаго храбропремудрейшего царствования, во избаву же и пользу Православного Христианства, быть Математических и Навигацких, то есть мореходных, хитростно наук у сепию. Во учителях же тех наук быть Английския земли урожденным: Математической – Андрею Данилову сыну Фархварсону, Навигацкой – Степану Гвыну, да Рыцарю Грызу; и ведать те науки всяким в снабжении, управлением во Оружейной палате Боярину Феодору Алексеевичу Головину с товарищи, и тех наук ко учению усмотря избирать добровольно хотящих иных же паче и вопринуждением; и учинить неимущим во прокормление поденный корм усмотря арифметики или геометрии ежели кто сыщется отчасти искусным, по пяты алтын в день, а иным же по гривне и меньше, рассмотрев коегожда искусство учения: а для тех же наук определить двор в Кадагиеве мастерские палаты, называемой большой полотняной и об очистке того двора послать в мастерскую ггалату постельничему Гавриле Ивановичу Головину Свой Великого Государя указ, и, взяв тот двор и усмотрев всякия нужные в нем потребы, строить из доходов от оружейныя палаты.
Подлинный указ за скрепою думного дьяка Автонома Иванова».
Таким образом, первоначально в соответствии с указом Навигацкую школу предполагали основать в большой полотняной палате двора в Кадашеве, в Замоскворечье, где предписывалось сделать необходимые пристройки. Однако Андрей Данилович Фархварсон посчитал, что выделенные под учебное заведение помещения малопригодны и довольно тесны. Они действительно оказались совершенно неудобны для занятий по астрономии, да и располагались в значительном отдалении от основных государственных учреждений и канцелярий.
Английские профессора, прибыв в Москву, не зная языка, растерялись и проявили полную беспомощность при обустройстве школы и организации в ней учебного процесса. Это продолжалось до тех пор, пока за практическую организацию дела не взялся энергичный дьяк Оружейной палаты Алексей Александрович Курбатов. По его предложению и убедительным доводам Петр I 23 июня 1701 года, спустя 5 месяцев после официального основания учебного заведения, отвел школе Сухареву башню со всеми ее строениями и земельным участком. Новое здание вполне удовлетворило профессора Фархварсона. Оно располагалось на возвышенности, в «пристойном месте, где можно горизонт видеть, сделать обсерваторию и начертание и чертежи в светлых покоях». Все второе полугодие 1701 года ушло на возведение пристройки к Сухаревой башне «верхния при школе палаты» и на составление плана и расписания занятий будущих воспитанников Навигацкой школы.
Император принимал активное участие в делах организации и становления первого российского военно-морского учебного заведения. Вместе с профессором Фархварсоном Петр I составил устав Навигацкой школы и утвердил ее конкретные задачи. Безусловно, основными предметами изучения в Школе являлись морские науки, но одновременно с ними предполагалось изучать также комплекс иных предметов. Таким образом, Навигацкая школа в первые годы своего существования числилась, в силу необходимости, учебным заведением, выпускающим, кроме моряков, учителей, геодезистов, архитекторов, инженеров, артиллеристов, гражданских чиновников, писарей и «добрых мастеровых».

В архиве сохранилась записка русского царя. В ней он повелевал тогда «…детей учить: 1. арифметике; 2. геометрии; 3. приему ружья; 4. навигации; 5. артиллерии; 6. фортификации; 7. географии; 8. знанию членов корабельного гола и такелажа; 9. рисованию; 10. на произволение танцам для пастуры».
Сретенская, или Сухарева, башня построена в северо-восточной части Москвы на земляном валу, окружавшем в те времена столицу. От нее начиналась дорога в Троице-Сергиеву лавру. Ранее на этом месте располагались Сретенские городские ворота с воинской заставой. Кроме караульной, здесь же находилась мытная изба для сбора пошлин с проезжающих. По всему валу тянулись строения стрелецких слобод. Во время стрелецкого бунта на валу разместился полк Лаврения Панкратовича Сухарева. Полковник не только не участвовал в военном перевороте, но добровольно перешел на сторону юного Петра, охранял его на всем пути следования в село Преображенское и в Троицкую лавру. По имени командира преданного царю полка башня и стала называться Сухаревой.
Если верить легенде, то Петр I, одержимый идеей строительства регулярного флота, специально распорядился придать очертаниям старых Сретенских ворот и Сухаревой башни вид корабля с мачтой. Галереи второго яруса представляли собой шканцы (верхнюю палубу), восточная сторона – корабельный нос, а западная – корму. На башне установили часы с боем. В третьем ярусе башни располагались классные комнаты Навигацкой школы и «рапирный» зал, где воспитанники занимались фехтованием. В нем усатый иноземец с повадками мушкетера обучал курсантов секретам «шпажной игры». При этом он не уставал повторять им, что только шпага может помочь благополучно выйти из любого трудного положения. Занятия «рапирной наукой» в школе поощрялись, и за фехтование ученикам прибавлялось «изменение против других жалования».
Соратник Петра I Яков Брюс в верхнем ярусе Сухаревой башни, возвышающемся над уровнем реки Москвы более чем на 100 метров, оборудовал обсерваторию и наблюдал с учащимися движение небесных светил.
Знающий 14 ремесел, в числе коих самым любимым являлось токарное, царь Петр предусмотрел планами Навигацкой школы овладение ее воспитанниками рядом рукотворных профессий. На верхнем этаже Сухаревой башни специально организовали учебно-производственную мастерскую.

Посещая Школу математических и навигацких наук, присутствуя на ее уроках, Петр I всякий раз поднимался по каменной лестнице башни в токарную, чтобы полюбоваться на работу ученика «Цифирной» школы Андрея Нартова.