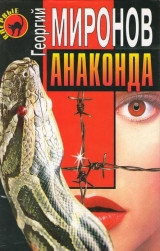
Текст книги "Анаконда"
Автор книги: Георгий Миронов
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
МОСКВА. ПРОФЕССОР ПО КЛИЧКЕ БУГОР.
НИИ И ЕГО ПОДВАЛЫ
Мишка Айзенберг открыл своей отмычкой дверь в секретный отсек, прошел по длинному коридору, шмыгая носом. Опять насморк подхватил, а носового платка, как обычно, с собой нет. На углу, поворачивая к техническим цехам, воровато огляделся и высморкался с помощью двух пальцев.
Заглянул в кузницу к старому охальнику Никодиму. Ну, это только называется так, кузница, а вообще-то тут и литейный, и кузнечный цеха. И один на все бригадир – трижды судимый, бежавший в 1995 году из НТК строгого режима Никодим Пепеляев, на том завязавший с грабежами и убийствами, но не желавший возвращаться на исправление в зону и потому как подарок судьбы принявший предложение жить в «подполье», удовлетворяя за счет своего стахановского труда все свои скромные жизненные потребности.
Услышав, что кто-то вошел в мастерскую, не поворачивая головы, Никодим с силой втянул воздух широкими, приплюснутыми ноздрями.
– Ты, что ли, Мишаня?
Как ни странно, Никодим по-своему любил Мишку, годившегося ему в сыновья. Может, потому, что никого другого, кроме Вальки, отчищавшего кровь с золота и драгоценностей, своего подручного, да Мишки, изредка забегавшего в подвалы по делу, не видал. Хозяйка в последний раз аккурат с полгода назад была. Так-то. А честно говоря, и потребности Никодим в общении с другими человеками не видел. Кормили сытно и сладко, у него была комната тут же в подвале с телевизором, видеомагнитофоном и большой коллекцией порнофильмов. А под порнофильм гусю шею точить совсем не то, что под журнал «Плейбой», стоивший в зоне больших денег. Так что, по-своему счастлив был Никодим. Чем меньше человеков, тем спокойнее.
Но Мишу любил. И даже не смог бы объяснить эту свою любовь внятно. Ну, привозил ему Мишка порнокассеты для видака, так могли бы и по пневмопочте, как все «посылки» с рыжевьем и камушками по бесконтактному каналу. Ну, приносил иногда Мишка с воли свежие пирожные, какие Никодим особенно уважал, заварные эклеры. Так ведь и их мог бы, как отвечающий за материально-технические вопросы в этом НИИ, переслать обычными каналами, вместе с продуктами и необходимыми реактивами для очистки камней и литья драгметаллов.
А он вот, жидяра, сам приносит. Значит, уважает.
Если бы Никодим знал про труды венского одноплеменника Мишки врача Зигмунда Фрейда да попробовал проанализировать свою странную любовь к Мишке на основе тщательного анализа своей причудливой непутевой жизни, то пришел бы, возможно, к неожиданному выводу.
Тридцать пять лет назад Никодим, которому тогда было столько же примерно, как сейчас Мишке, то есть годков тридцать четыре – тридцать пять, убил красавицу евреечку в городе Житомире. Была она женщина царственная, годов на десять постарше Никодима, и сильно ему глянулась во время ограбления квартиры врача Каценеленбогена. Взял он на квартире тогда много чего ценного. И из одежи, и из посуды. Но вот рыжевья, бриликов не было. Сам Каценеленбоген, как его ни пытал, не признавался, паскуда, есть ли что из драгоценностей в доме. И только когда Никодим раздел донага его жену, красавицу Соню, и собрался с ней сделать кое-что по всей программе и в разных позициях, выдал, сучара, свои фамильные часы и брошь бабки с крохотным брильянтиком. Стоило из-за такого мараться? Часы и колечко Никодим взял, но и начатое дело закончил. Но поскольку Каценеленбоген при этом стал очень громко, на одной ноте, выть, а его жена, красавица Соня, вообще потеряла сознание, то и пришлось убить Каценеленбогена. А опосля, когда закончил свои дела с его женой, то и ее.
Сильно тогда устал Никодим. Столько волнений! Пошарил в буфете, нашел початую бутылку водки, капустки квашеной тарелку, три картофелины холодные в кожуре. Так в кожуре и сожрал. И бутылку выпил. От волнения ли, что на трупах кровавеньких трапезу свою справляет, или от чего еще, но вдруг сил у него прибавилось. А в голове мысль: «Про жидков всегда говорят, что богатства у них несчитанные, что жируют они на теле русского народа. Так что, если в квартире врача этого поискать, наверняка клад найдешь!»
И стал искать.
И нашел.
В крохотной кладовой без окон, под горой старого платья, – девушку лет двадцати изумительной красоты, в почти что полуобморочном состоянии. Как родители ее сумели спрятать в той суматохе, когда он в квартиру их ночью проник? Или сама сховалась, воспользовавшись, что мать с отцом внимание его, Никодима, отвлекали? Но факт есть факт: была она в наличии живая и здоровая. Если не считать, что напугана до полусмерти и дрожала мелкой дрожью.
И красота эта, и дрожь по всему телу, и выпитая водка привели Никодима в какое-то особенно возбужденное состояние.
Мог бы просто хрястнуть ее по зубам и изнасиловать. Но захотелось, как все люди. Пригрозил:
Кричать не будешь, и ты, и твои родители как есть останетесь.
Не стал грех на душу брать, врать девке не стал, что родителей к жизни вернет. Они уж минут пятнадцать как оба душу Богу отдали.
А она так мелко головкой трясет, дескать, согласная, только родителей не убивайте. Зубенки сжала, кулачки тоже стиснула, лежала, не пискнула, пока он ее сильничал, пока впивался красным, воняющим луком и квашеной капустой пополам с водочным перегаром ртом в ее крохотные розово-белые от страха губенки.
А вот убивать ее не стал. Пожалел. Хотя риск, конечно, был. Могла приметы его ментам дать. Скорее бы на след напали.
Он тогда, в тот же вечер, из Житомира на краденой повозке, что у цыганского дома на окраине города взял, ушел в сторону села Ветошки. А там железная дорога проходила, влез в товарняк и ушел.
Вот тридцать пять лет прошло, а где-то глубоко внутри, в зверином подсознании Никодима, нет-нет да мелькала мыслишка: а коли осталась та девка жива, не растет ли где в Житомире его чадо, пацан или девчонка? А? Вполне возможное дело.
Извилины у Никодима были не сильно глубокие, проделать серьезную аналитическую работу были не способны. Потому и мысль, что, чисто теоретически, Мишка Айзенберг, кстати, родившийся тридцать четыре, кажется, года назад в городе Житомире в семье Цили Каценеленбоген и дантиста Мони Айзенберга и, толкаемый неуемным местечковым честолюбием, приехавший в Москву, работавший театральным администратором, квартирмейстером у воровских бригад и, наконец, начальником материально-технического снабжения крупного федерального НИИ (Хозяйка обещала даже «сделать» ему кандидатскую по экономике), так вот, что этот Мишка был, мог быть его родным сыном, никогда в голову Никодима не заходила. А и зайдя, тут же вышла бы вон. Потому что этого не могло быть. Потому что не могло быть никогда.
А ведь чем черт не шутит? А Мишка Айзенберг – сын Никодима Рясного! Сюжет?
Но Никодиму было не до таких хитроумных сюжетов. У него другая проблема: банда Гали взяла большую партию драгоценностей древних. Они все на заметке у ментов. И не потому, что Галя наследила, а потому, что драгоценности все в описях, реестрах, каталогах. И Хозяйка решила оправы древние драгоценные переплавить, камни крупные распилить. Камни Валька распилил. На это он мастак. А вот у Никодима закорючка вышла: что за металл, какие в нем были примеси? Но чистого, единого по составу сплава не выходило. И над этой технической задачей он в эти минуты и бился, как очистить золото от примесей, чтобы, сплавив его с другим золотым ломом, сделать для Хозяйки очередной золотой «кирпичик» с клеймом «СССР».
Да и у Мишки другое в голове: сумеет ли Никодим починить слегка погнутую оправу перстней графини Багучевой и слегка покарябанный орден Андрея Первозванного из адмиральской коллекции? Работа нужна была тонкая: заказчик серьезный. А Мишка в НИИ за все в ответе.
БРОШЬ КНЯЖНЫ ВАСИЛЬЧИКОВОЙ.
КРОВЬ НА КАМНЕ. ФЛЕНСБУРГ. РЮБЕСХАГЕЛЬ
Гюнтеру Рюбесхагелю наконец-то повезло. Вот бывает так: не везло, не везло и вдруг – поперло.
После страшной бомбардировки Лейпцига и Дрездена он сразу потерял все. В Дрездене погибли в развалинах их квартиры жена и двое детей. В Лейпциге под развалинами их старого дома задохнулись его старики родители.
От службы в вермахте Гюнтер был освобожден. Не по возрасту. Просто у сорокалетнего ювелира с детства была сломана нога, срослась неправильно; с такой хромотой даже в фольксштурм не брали. Даже в 45-м.
Он чудом спасся, когда американцы гвоздили Дрезден. Это был ужас, кошмар! Все горело. По улицам носилась какая-то сумасшедшая белая лошадь. Говорили, из конюшни барона цу Ринга. А могли бы и жирафы, слоны и носороги из разбабаханного зоопарка. Но те, кажется, сразу погибли. Когда бомба угодила в их дом, он находился в подвале. Расчищать развалины было некому. Город пылал. Чудом к утру ему удалось проделать проход, точнее, «пролаз» в щебне и битом кирпиче; он выполз наружу и с жадностью вдохнул пахнущий горелым человеческим мясом, жженым тряпьем и какой-то жуткой гадостью, наверное, горелой резиной, воздух. Но это был воздух свободы. Воздух жизни! В такие минуты хочется целовать мир, сделать что-то героическое, доброе. Под куском сорванной с крыши кровли он увидел маленькую девочку, лет пяти, совершенно белую – в белом платье, с белой кожей и белокурой головой. Не сразу понял, что девочка седая. А все остальное действительно было белым. Он взял ее на руки и пошел. Сколько он так брел, не помнит. Остановил его знакомый директор гимназии Хенрих Штольц; дальше они плелись втроем. Потом их собрал уполномоченный НСДАП и отвел к сборному пункту. Там их накормили, дали какую-то одежду и предложили на выбор места, куда направляй погорельцев и беженцев из уже занятых противником городков. Они со Штольцем выбрали Фленсбург. Кроху Гюнтер Рюбесхагель взял с собой. Он и седая девочка были единственными близкими друг другу существами в этом перевернутом мире.
Во Фленсбурге Штольца поместили в местную гимназию, дали там комнату, обещали работу. Он был учителем математики, а этот предмет нужен при всех режимах.
Что можно было бы сказать и о ремесле ювелира. Только вот ни инструмента, ни камней, ни металлов у Гюнтера после бомбардировки Дрездена и Лейпцига не осталось.
Его с девочкой поместили в дом семьи Гореншмидт. Хозяин, гауптман саперных войск, погиб на Восточном фронте, сын позднее был застрелен английским патрулем во время комендантского часа, старик Гореншмидт почти не ходил: после смерти сына его разбил паралич, а после гибели внука он совсем сдал. Похоже, доживал последние дни. Да и у его невестки дела были плохи – сердце сильно ныло. Старик умер на третий год после вселения новых жильцов. А вот невестка его благодаря заботам «квартирантов», оклемалась, ожила и даже расцвела.
Через три года она согласилась выйти замуж за Гюнтера Рюбесхагеля, удочерила его приемную девочку и умерла лишь в 1975 году, накануне свадьбы приемной дочери. Дочь выдали за преуспевающего коммерсанта, выходца из России Олега Гинзбурга. И то сказать, повезло. Тридцатипятилетняя Ингеборг была, как бы это помягче сказать, старой девой. Вряд ли удалось бы ее так удачно выдать замуж, если бы не клад.
После войны Рюбесхагель перебивался с хлеба на воду, пока тяжким трудом не заработал вначале на инструмент, потом – на камни и драгметаллы. Только тогда мир узнал, какой он хороший ювелир.
У него появились своя мастерская, своя лавка. Правда, не в центре, на одной из окраинных улочек Фленсбурга, и покупателями его были не миллионеры и аристократы, а жители рабочего квартала, брали обручальные кольца, недорогие сережки, колечки, перстеньки на дни рождения, большие праздники. Но жить можно было. Дочь подрастала, жена старилась. Дочь выросла, жена умерла. Старился и дом. Древняя шиферная крыша в один из мартовских дней 1974 года дала течь. Превозмогая боль в травмированной ноге, Гюнтер Рюбесхагель с трудом забрался на чердак и попытался сам подлатать крышу. Или хотя бы подставить ведра в те места, где текло особенно сильно. Пытаясь вырыть ямку в смеси золы, песка и опилок, чтобы понадежнее поставить ведро для сбора льющейся сквозь дыру в шифере воды, копнул валявшимся неподалеку проржавевшим солдатским штыком времен первой мировой и наткнулся на какой-то сверток.
Дело было вечером. Свет от уличного фонаря сразу выхватил из темноты несколько сверкающих вещиц. Не надо было быть ювелиром, чтобы понять, какое богатство свалилось в одночасье на Гюнтера Рюбесхагеля.
Тут были миллионы марок! Вот за этой брошью с черными крупными жемчужинами и большим нежным опалом в центре светилась будущая мастерская в центре города. За этим ожерельем из рубинов, гранатов и брильянтов ему виделся новый трехэтажный дом на центральной улице Фленсбурга. За этими двумя перстнями-печатками с похожими монограммами маячил новый современный автомобиль. За тяжелыми подвесками из крупных брильянтов сияла обеспеченная жизнь его седой, остро и горячо любимой дочери, которую теперь-то уж точно выберет себе в жены красивый, молодой, богатый человек. Впрочем, можно найти и не очень богатого. Она будет достаточно богатой, чтобы самой выбрать себе жениха.
А вот за старинной брошью с крупным изумрудом в центре и большими брильянтами по краям, странной четырехугольной формы, он поначалу не увидел ничего.
Красивая, скорее всего иноземной работы, «в возрасте» нескольких веков брошь потрясла поначалу размерами изумруда чистой воды. Потом огранкой брильянтов, затем неким очарованием, исходящим от очень старых, дивно сработанных вещиц, принадлежавших в прошлом, несомненно, незаурядным людям. У таких драгоценностей есть своя аура, свое поле. Положительное, отрицательное, нейтральное, но ощутимое даже обычным человеком, не экстрасенсом.
Почему-то Рюбесхагелю показалось, что у вещицы с гигантским изумрудом плохое поле. Вещь изумительно красивая. А поле тревожное.
В какой-то миг ему даже показалось, у броши с зеленым изумрудом был странный кроваво-красный отсвет. Этого не могло быть. С улицы через круглое чердачное окно падал беложелтый свет, сам изумруд обладал столь интенсивным свечением, что забивал любой другой отсвет.
Но кроваво-красное поле Рюбесхагель ощущал совершенно отчетливо. Возможно, неоновая красно-желтая реклама находившегося неподалеку маленького кинотеатра, причудливо отразившись от некоей преграды, дала такой красный сполох. Кто знает...
Во всяком случае, брошь эту он сразу отделил от клада и все последующие годы хранил отдельно.
Часть клада пошла на приобретение дома в центре Фленсбурга, часть на машину, часть на приданое дочери. Когда дела у фленсбургского ювелира пошли в гору, его разыскал приехавший из Мюнхена русский эмигрант Олег Гинзбург (ну, русский, это только в смысле страны, из которой он приехал). Он не был ювелиром, но обладал жесткой хваткой, звериным чутьем и, как ни странно для эмигранта, широчайшими связями среди германских ювелиров, антикваров и аукционистов.
И Рюбесхагель поддался деловому напору Олега, подпал под его странное обаяние, открыл в своем магазине в центре Фленсбурга вначале отдел русского антиквариата, потом русской иконы, потом произведений русских ювелиров. Именно в этом новом отделе он решился впервые выставить на продажу часть вещиц из клада, найденного на чердаке старого дома Гореншмидтов. В очередной свой приезд из Мюнхена Олег долго стоял перед витриной, где переливались бьющими в глаза красками драгоценные камни и изумительной красоты вещицы, созданные многими ювелирами разных стран и эпох; потом молча поднялся на второй этаж, прошел в комнату седой фройляйн Рюбесхагель, которая, как он давно и с раздражением заметил, неровно дышала при его появлении в их доме, и, красиво припав на одно колено, сделал ей предложение.
Свадьбу гуляли скромно. А вот свадебное путешествие было шикарным: Италия, Испания и Португалия.
В городе оценили скромную свадьбу – тут ценят бережливость и скромность, а про то, во сколько молодым обошлось их свадебное путешествие, знали только старик Рюбесхагель и молодой Олег Гинзбург.
Бережливый и осторожный Рюбесхагель выставлял из клада по одной вещице; пока не продаст одну, следующую не показывал. Вещи были дорогие, народ во Фленсбурге бережливый, туристов из других стран немного, и дело двигалось медленно. Так что, когда Олег Гинзбург, еще во время жизни в Ленинграде не раз бывавший в Эрмитаже и умеющий отличить музейную вещь от «лавочной», наконец увидел клад во всем его блеске, он сразу понял, каким богатством владеет.
В том, что именно он будет обладать этим богатством, у Олега сомнений не было.
Через неделю старый Рюбесхагель, привлеченный, должно быть, внеурочным и, казалось бы, беспричинным лаем их добермана-пинчера, высунулся в окно, наклонился, чтобы узнать, что так разволновало пса, вероятно, в голове у старичка помутилось, нездоровая нога не смогла дать нужной опоры, и он с четвертого этажа сковырнулся на мощенный каменной плиткой дворик собственного дома в центре Фленсбурга.
Дочь очень горевала: она любила его как родного отца. Еще счастье, говорили горожане, что отец вовремя успел выдать ее замуж за толкового человека.
Не говорили «за хорошего», как в таких случаях говорят. А за «толкового». Олег не нравился знакомым Рюбесхагелей. Но толковым, конечно же, был. В очень короткий срок он так расширил дело, что про антикварную лавку «Рюбесхагель, Гинзбург и сын» узнали далеко за пределами Фленсбурга.
Ну, «и сын» – это для понта. Детей у них не было. Зато было все остальное. И главное – богатство. Олег так разбогател, что смог расширить свою торговлю антиквариатом с Россией. Впрочем, торговля – это преувеличение. Речь шла о нелегальном вывозе из России краденых антикварных вещей, прежде всего драгоценностей, старинной бронзы, медалей, монет; реже мебели, марок, картин, фарфора. Дело расширялось, требовало большей свободы. А свобода стоит тех денег, которые за нее платишь.
За «коридоры» на границе, за мягкость таможенного досмотра, за режим наибольшего расположения со стороны соответствующих структур, дающих разрешение на вывоз антиквариата, надо платить.
И он подарил Хозяйке брошь-красавицу с огромным изумрудом в обрамлении крупных брильянтов. У хитрого Олега было ощущение, что брошь опасна и удачи ему не принесет. А так может быть. Но, должно быть, он избавился от броши слишком поздно. Она успела отбросить на остаток его короткой жизни кроваво-красный отблеск...
ФИНАНСОВЫЙ ГЕНИЙ ПО КЛИЧКЕ МАДАМ.
ОСТРОВ ЧАД ЖУ ДО
Мадам ее звали в глаза. А за глаза – Анаконда. И не потому, что могла в объятиях своими мощными руками и бедрами задушить любовника. Хотя, сложись так ситуация, наверное, могла бы.
Анакондой ее звали ее же подельники, контрагенты, «товарищи» по бизнесу: если Мадам что решила, добьется своего обязательно.
Надо убрать конкурента, пошлет киллера без раздумий, даже если конкурент из друзей детства, даже если из бывших любовников, из соратников по комсомолу. Но чаще она душила своих противников не шелковой бечевкой киллера, а финансовыми тисками; придумывала комбинацию, ставя фирмача-конкурента в безвыходное положение. И душила. Так год назад она задушила Харунобу Тавабату.
Ах, какой это был тонкий человек, какой тонкий! Когда они познакомились в Москве и пятидесятилетний Тавабату стал любовником тридцатилетней Мадам, он читал ей по утрам стихи Сайге. Вначале на старояпонском, потом в собственном переводе на английском, потом пересказывал по-русски. Он уже прилично говорил по-русски, но вот стихи своих поэтов на простоватый, с его точки зрения, русский еще не переводил. Десять лет он приезжал по делам бизнеса в Москву и каждый раз тайно встречался с Мадам. И у них была ночь любви, после которой Харунобу Тавабату уезжал, увозя с собой воспоминания о жаркой и страстной молодой москвичке, а Мадам прятала в тайник очередную тысячу долларов. Все большие капиталы в мире нажиты нечестным путем. Кто это сказал? Мадам честно отработала свои первые тысячи баксов. Другое дело, что вот ее миллионы действительно на крови. Ну, да в бизнесе иначе нельзя. Чем глубже в него зарываешься, тем больше рискуешь. Тут без крови не обойтись.
Тавабату словно предчувствовал свою смерть. Читал ей любимого Сайге:
В горном селенье,
Там, где густеет плющ На задворках хижин,
Листья гнутся изнанкой вверх...
Осени ждать недолго.
Мадам была не лыком шита. Она попросила знакомого япониста перевести ей одно стихотворение Сайге. И в постели, когда Тавабату лежал, мокрый от усилий, и хриплым своим шепотком читал ей Сайге, однажды ответила:
Шум сосновых вершин...
Не только в голосе ветра Осень уже поселилась,
Но даже в плеске воды,
Бегущей по камням речным...
Тавабату заплакал. Японцы вообще, при всей своей жесткости, люди достаточно сентиментальные. Особенно их трогает, когда человек другой культуры, менталитета проявляет уважение к их национальной культуре.
Харунобу Тавабату предложил ей выйти за него замуж.
Переводчик из Института восточных языков при МГУ получил сто долларов.
Мадам положила в тайник сразу две тысячи долларов.
Харунобу Тавабату стал всерьез думать о том, что энергичную и честолюбивую молодую москвичку можно ввести в его бизнес.
Тонкий и изысканно образованный, Харунобу Тавабату принадлежал к могущественному крылу японских якудза, возглавлял жестокую и сильную группировку «Яндзы-Дмамаконантха», торгующую сильными, жесткими наркотиками и со странами Востока, и со странами Запада, занимая в этом опасном и кровавом бизнесе некое промежуточное, крайне важное для скоординированности действий всех наркодельцов, положение.
Мадам могла выйти за него замуж и сразу стать сверхбогатой и сверхмогущественной... женой. А ей хотелось самостоятельности.
И она предала его. И продала. Бласко Раблесу из Колумбии.
Ее гонораром стал «кусок» империи Тавабату. Тот кусок, который приходился на транзит наркотиков через корейский остров Чад Жу До.
Фактически она владела этим островом уже десять лет. Постепенно заглатывая, как анаконда, все новые и новые владения на острове, отхватывая у японских якудза все новые и новые куски корейского пирога.
Это был смертельный номер. Но ей пока удавалось балансировать на острие ножа, задабривая своих японских компаньонов-конкурентов разными послаблениями их бизнесу в России. Тут без Хозяйки ей было бы не обойтись. Так что приходилось отстегивать Хозяйке. И хорошо отстегивать!
...На острове Чад Жу До у нее был свой дом. Дом – это мягко сказано. Дворец, комнат на пятьдесят, своего рода отель, в котором останавливались только сама Мадам в свои редкие приезды, ее челядь да те люди, которых она сюда посылала с разными поручениями.
Островок небольшой. Можно на автомобиле за полдня объехать. Официально свободная территория, государственные земли. Неофициально все здесь с января 1997 года принадлежало Мадам: земля, пристани, катера, аэродром с самолетами и вертолетами, отель, пять домов, в которых жили ее служащие, здания складов и ангаров и довольно большая фабрика, на которой проходила сортировка и заключительная очистка наркотиков, их расфасовка и отправка на материк; в специальном цехе шла сортировка и расфасовка сырых алмазов, приходивших из Владивостока «шопом».
И еще здесь была узкая полоска берега с десятком палаток, торгующих прохладительными напитками, сырыми дарами моря и другими предметами, необходимыми «диким» туристам для приготовления из сырой рыбы, креветок, мидий, водорослей чего-нибудь съедобного.
Вот уже год на острове существовал своего рода оазис отдыха для тех российских ученых, что работали по «путевкам» Мадам в НИИ, в фирмах и на предприятиях Кореи.
Все они искренне считали Мадам своей благодетельницей. Она находит их в российских НИИ, на заводах оборонки, предлагает командировки в Корею на год, два и три, дает им деньги – на выбор: в долларах или сразу рублях на российские счета, кормит и лечит бесплатно, да еще и на выходные предоставляет катер, который привозит их на этот чудный остров, где они буквально за копейки могут купить свежую рыбу, креветок, рис, вермишель, устроить пикничок, сварганить на костерке шашлычишко. Или, взяв напрокат за гроши специальные корейские жаровни, жарить рыбу прямо тут же, в двух шагах от моря! Чудо. Просто чудо!
Русские приезжали на остров семьями, располагались на берегу, загорали, купались, рыбачили с длинных, уходящих далеко в море пирсов, ставили палатки, занимались в них любовью, пока дети играли в специально для них построенном на морском берегу детском городке, пели песни под гитару о том, как отправлялись в юности «за туманом» в тайгу их отцы, а они вот за длинным рублем отправились за море. И, кто знает, может, и удастся в результате вырваться из глухой российской нищеты, купить дачку и подержанную «тойотку». Они знали, что катер привезет на берег и заберет их, когда они скажут. Можно вечером, можно завтра утром. Главное, с берега в глубь острова ходить нельзя. Ни взрослым, ни детям. Запретная зона. Люди они были законопослушные. Тем более за рубежом. Работой своей дорожили.
Сергей Петрович Миронов, инженер-электронщик, человек симпатичный и широко образованный, в карты не резался, песни не пел по причине отсутствия голоса и потому, вместо того чтобы валяться на надувном матрасе на берегу и слушать очередную балладу Кости Кириченко, сочиненную им поутру и впервые исполняемую товарищам по «загранке», оставил спящих жену и двух дочек в палатке, пошел побродить по берегу.
Вид потухшего вулкана Чан Джу настроил его на лирически-минорный лад.
Сергей Петрович брел по колено в морской воде, смотрел на виднеющуюся вдали за рощей вершину вулкана и читал вслух строки японского средневекового поэта Сайге, которого любил со студенческих лет:
Не помечая тропы,
Все глубже и глубже в горы
Буду я уходить.
Но есть ли на свете место,
Где горьких вестей не услышу?
Мысли у Сергея Петровича были грустные и тревожные потому, что по контракту работать ему здесь еще год. Вчера, в пятницу, во время осмотра (по страховому полису, который был подписан со всеми русскими специалистами благодаря заботам Мадам) в институтской клинике, ему уверенно диагностировали ишемическую болезнь сердца. Он все чаще задыхался без видимых причин. Замечательный японский аппарат бесстрастно зафиксировал поражение сердечных артерий на 90 процентов. Нужна операция. Операции такие по страховому полису здесь не делают. И здесь, и в Японии, и в России операция по шунтированию стоит около десяти тысяч долларов. Даже если он продаст дачку, на которой прошлым летом так хорошо им всем жилось, сколько грибов насобирали в окрестных лесах и заготовили на зиму, сколько овощей заложили – всю зиму старики питались, пока он здесь опять деньги зарабатывал... Так вот, даже если он продаст дачку и подержанную «тойотку», столько не соберет. Добавит те три тысячи долларов, что ему выйдут чистыми по окончании контракта (остальное уйдет на жизнь семьи здесь, в Корее). И что же? Сделать операцию – и снова в свой НИИ на шестьсот тысяч? При том, что жена в библиотеке зарабатывает и вообще четыреста. А только его лекарства для поддержания жизни стоят порядка пятьсот-шестьсот тысяч в месяц. Одна упаковка закора для удержания холестерина в крови на «границе» стоит триста тысяч!
Он смотрел на вершину Чан Джу, слезы наворачивались на глаза (особенно почему-то было жаль дачки, девочки так там за лето загорели, окрепли) и читал:
Когда бы в горном селе
Друг у меня нашелся,
Презревший суетный мир,
Поговорить бы о прошлом,
Столь бедственно прожитом...
Удивительно! Этот поэт-странник, привыкший к посоху в руке, изголовью из травы и узким тропам в горах Хоккайдо, жил в XII веке. А близок, как современник.
Сергей Петрович уважал древних поэтов, старых художников Японии и Кореи. Но побаивался и не любил компьютеризированных, как он говорил, их потомков. В каждом видел если не якудза, современных мафиози, то готовых выжимать последний пот из бесправных русских специалистов кровопийцев и куркулей.
Обогнув мыс, он вышел на ту часть острова, где никогда не бывал и куда углубляться российским специалистам, мягко говоря, не рекомендовалось.
Перед ним открылась взлетно-посадочная полоса, на которую только что опустился довольно большой реактивный самолет. Самолет с символикой Японии наконец остановил свой бег. Из-за кустов Миронову было отчетливо видно, как из чрева грузового отсека выскочили одетые в камуфляж парни со славянскими мордахами, вооруженные автоматами с подствольными минометами, и, окружив самолет, направив стволы в разные стороны, в том числе и на невидимого ими Миронова, застыли. Из грузового чрева тем временем такие же мордовороты выгружали тяжелые ящики. Он видел, как из подкатившей вплотную к самолету машины вышла знакомая по визиту в их НИИ Мадам.
Происходящее заинтересовало любознательного Сергея Петровича, и он, забыв про поэзию Сайге и красоты застывшего вулкана Чан Джу, упал на песок, прикрылся ветвями кустарника и стал наблюдать за происходящим.
Все, что происходило прямо на взлетно-посадочной полосе небольшого аэродрома острова Чан Джу До, напоминало одновременно когда-то виденный американский боевик и... визит директора завода в один из цехов.
Мадам жестом приказала открыть один из ящиков. Внимательно осмотрела упакованный в них товар. Приказала вскрыть один из находившихся в ящике холщовых мешочков. Сергею Петровичу было хорошо видно, как Мадам взяла такой мешочек в левую руку, развязала стягивающую его горловину веревку и высыпала в правую ладонь горсть мелких стеклышек.
Потрясла их. Под лучами заходящего за горизонт красножелтого солнца стеклышки причудливо заиграли.
«Сырые алмазы!» – почему-то сразу догадался Сергей Петрович. По характеру работы в «ящике» сразу после института он имел дело с сырыми алмазами, с алмазной крошкой, мог отличить их от бутылочного стекла и обработанных камней, брильянтов, даже на расстоянии.
Мадам тем временем приказала открыть другой ящик. Вынула из него ярко раскрашенную русскую матрешку. Сопровождавший ее симпатичный молодой человек открутил голову у матрешки, вынув следующую. И так, пока не дошел до последней, сделанной из папье-маше.
Мадам «вживила» несколько сырых алмазов в мягкую плоть папье-маше, отвела руку, проверяя, заметно ли невооруженным глазом это вкрапление. Видимо, она осталась довольна результатом и дала знак везти товар на фабрику. После чего двое рабочих, на этот раз местных, корейцев, подтащили к самолету ящик с товаром, только что подвезенным на джипе к самолету из глубины острова. По знаку Мадам один из корейцев вскрыл ящик и достал из него пакетик. Мадам приказала вскрыть. Смоченным слюной пальцем взяла немного порошка, понюхала и лизнула. Секунду размышляла. Видимо, осталась удовлетворена качеством товара и дала приказ грузить ящики из джипа в самолет с японской символикой и русскими, судя по всему, экипажем и охраной. О чем-то переговорила с начальником охраны, с хорошей офицерской выправкой и сложением борца могучим молодым парнем. Похоже, пошутила: парень громко расхохотался. Они пожали друг другу руки, как мужчины. И намека на отношение к Мадам как к женщине не было в том, как на нее смотрели, как с ней общались, разговаривали, здоровались или прощались все эти мужики. И русские, и корейцы. Единственный, кто во время короткого, подсмотренного Сергеем Петровичем эпизода относился к Мадам как к женщине, был ее молодой, интеллигентный по виду помощник, референт. Он поддерживал Мадам под руку, с готовностью протягивал ей для осмотра то пакетик с порошком, то русскую матрешку, то мешочек с сырыми алмазами. Однако Мадам не показывала своего раздражения, ни когда к ней относились как к начальнице или партнеру, ни когда ей демонстрировалось рыцарски-мужское отношение. В этом спектакле, поставленном режиссером по имени Жизнь, все роли были расписаны заранее, и никто не нарушал заданное постановщиком амплуа.








