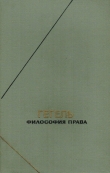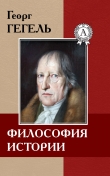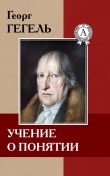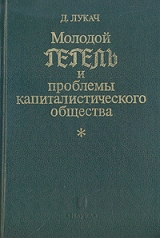
Текст книги "Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества"
Автор книги: Георг Лукач
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 53 страниц)
Разрыв между критикой существующих порядков и робостью я расплывчатостью предложенных реформ налицо. Для объяснения робких требований "независимого" собрания нотаблей недостаточно того, что Гегель, как мы видели уже в Берне, отмежевался от радикально-плебейского крыла французской революции, даже если принять во внимание, что брошюра была написана уже после французской революции и освоения ее опыта, что Гегель, возможно, опасался превращения выборного представительства в радикальный Конвент. Ведь многие умеренные либералы как в современной ему Франции, так и позднее в Германии отстаивали точку зрения, согласно которой выборное представительство может стать формой перехода к необходимым реформам.
Действительная причина заключена, разумеется, в общей социальной и политической атмосфере в Германии и вытекающих отсюда идеологических установках, которые постоянно определяли поведение Гегеля (и таких его выдающихся современников, как, например, Гете).
Благодаря своему широкому политическому кругозору Гегель вполне ясно видел отсталость как существовавших конституций немецких государств, так и тех конституций, которые выдвигались в качестве наиболее подходящих. Но он не имел никакого представления, как же связать свою критику с выдвижением политических целей. Эти колебания и затруднения были той основой, на которой выросли различные реакционные иллюзии, исторически неизбежные и до конца жизни Гегеля определявшие его мышление. Чем конкретнее он подходит к той или иной проблеме, тем резче должны выступить и этот разрыв, и иллюзии, призванные сугубо идеологически его преодолеть.
Маркс исключительно ясно раскрыл в "Немецкой идеологии" общественные основы и социальный характер таких иллюзий. Характеризуя Германию в ее политической и экономической раздробленности в конце XVIII – начале XIX в., он говорит: "Бессилие каждой отдельной области жизни (здесь нельзя говорить ни о сословиях, ни о классах, а в крайнем случае лишь о бывших сословиях и неродившихся классах) не позволяло ни одной из них завоевать исключительное господство. Неизбежным следствием было то, что в эпоху абсолютной монархии, проявившейся здесь в самой уродливой, полупатриархальной форме, та особая область, которой в силу разделения труда досталось управление публичными интересами, приобрела чрезмерную независимость, еще более усилившуюся и современной бюрократии. Государство конституировалось, таким образом, в мнимо самостоятельную силу, и это положение, которое в других странах было преходящим (переходной ступенью), сохранилось в Германии до сих пор. Этим положением государства объясняется также нигде больше не встречающийся добропорядочный чиновничий образ мыслей и все иллюзии насчет государства, имеющие хождение в Германии; этим объясняется также и мнимая независимость немецких теоретиков от бюргеров – кажущееся противоречие между формой, в которой эти теоретики выражают интересы бюргеров, и самими этими интересами" [12]12
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 183.
[Закрыть].
Даже при самом поверхностном ознакомлении с ходом мысли Гегеля нетрудно увидеть, как проявляются у него все выявленные Марксом характеристики немецкой идеологии того времени. Правда, иллюзии о "добропорядочном чиновничьем образе мыслей" и о государстве с наибольшей силой проявятся в его более поздней концепции общества, но подчеркнутая Марксом мнимая независимость теоретиков от реальных интересов поднимающейся буржуазии уже здесь составляла движущую силу политической и общественной методологии Гегеля. Из этого источника проистекает как расплывчатость и робость предложенных реформ, так и иллюзии о формировании "независимой" корпорации, которая должна определять конституцию Вюртемберга. При этом особенно важно его отношение к либерализму. Что касается общественных целей, то Гегель во многих вопросах идет вместе с либералами. Он, по-видимому, рано начал внимательно изучать значительных идеологов либерализма, таких, как Бенджамин Констан или Фоке[13]13
См. Rosenkranz К. Hegels Leben. S. 62; Наут R. Hegel und seine Zeit. S. 67.
[Закрыть]. Тем не менее он до конца жизни – и чем далее, тем все более определенно – отвергал политические методы либерализма, особенно немецкого, и прежде всего его веру в избирательное право, в парламентаризм, парламентские реформы и т. д.
В такой противоречивости отражается экономическая и социальная отсталость Германии и ею обусловленное не только неравномерное, но и двойственное, стесненное, мелко-филистерское развитие политической идеологии. Оба направления в одинаковой степени проникнуты обывательски-буржуазными настроениями и туманным утопизмом. Немецкие либералы этого времени выдвигали свои требования преимущественно в догматической форме, без серьезного учета реального соотношения общественных сил. (Чтобы устранить возможные недоразумения, подчеркнем, что здесь речь идет только об идеологах либерализма, а не о немногих революционных демократах типа Георга Форстера.) Там, где в результате войн французской революции возникла некоторая видимость конституциализма, догматизм этих либералов смешивается с мелкобуржуазным оппортунизмом, с крайне узколобой политикой клерикализма (южнонемецкие либералы).
Гегель, как и Гете, ясно видит тупость немецкого либерализма. Он не разделяет либеральных иллюзий в оценках Германии и социальных условий жизни буржуазного общества. Однако эта часто справедливая критика смешана у него с уже известными нам иллюзиями, которые привели его позднее к откровенно выраженным реакционным позициям в решении отдельных вопросов.
Ограниченность и иллюзии двух возможных в то время позиций в равной мере отражают немецкую Misere (ничтожность): мелочная, обывательски-буржуазная тупость социальных отношений в Германии одержала верх над величайшими немецкими идеологами с широчайшим политическим кругозором. Только накануне июльской революции во Франции и особенно после нее, когда в Германии возникает демократическое движение, начинается действительное преодоление этой тупости (Георг Бюхнер, Гейне). Достаточно лишь вспомнить о борьбе молодого Маркса с радикальными младогегельянцами, чтобы увидеть, сколь глубокие корни в социальных отношениях Германии имела эта ограниченная идеология.
Поскольку основа идеологической позиции Гегеля связана с классовой структурой тогдашней Германии, она остается неизменной на протяжении всей его жизни. Правда, в ходе своего развития Гегель все более конкретно и глубоко познает движущие силы общественного развития, его закономерности; но он всегда лишь до определенного момента движется в рамках так понятых закономерностей. Общественные противоречия, которые он очерчивает конкретно и ясно, непосредственно переходят без какого-либо объективного социального обоснования в некую абстракцию, которая позднее приобретает бюрократическое содержание и зиждется на иллюзиях о государстве.
Эта абстрактная всеобщность никогда не выводится им действительно из реальных и особых общественных условий, хотя Гегель старается выявить диалектическую связь между "особенностью" частных и классовых интересов и их общественным результатом. Рассматривая их с философских идеалистических позиции, а их классовую основу – исходя из мнимой независимости общественных условий, как бы "сверху", он превращает эти условия в некую абстрактную "всеобщность". Основное противоречие социальной и философской концепции Гегеля выступает здесь по сравнению с последующими работами еще весьма неявно. Мы увидим также, что и политическое содержание концепции Гегеля, и методологические связи весьма изменчивы; тем не менее это основное противоречие является сквозной линией всего его мышления.
Мы знаем: брошюра Гегеля, о которой идет речь, никогда не вышла в свет. Известное объяснение причины этого дает опубликованное Розенкранцем письмо одного из друзей Гегеля в Штутгарте. Автор письма придерживается мнения, что опубликование работы при тогдашних обстоятельствах ничему бы не помогло, а, скорее, навредило. Один из решающих аргументов направлен против гегелевского проекта собрания нотаблей, названного в письме "произвольным". Но более важной причиной того, что брошюра не была опубликована, явилось, по-видимому, разочарование итогами войны с Францией, охватившее различные слои прогрессивно и даже революционно настроенных немцев. Раштаттский конгресс, заседавший с декабря 1797 по апрель 1799 г. и завершивший первую коалиционную войну против Французской республики, лишь урезал территорию Германии. Чаяния и надежды (правда, крайне иллюзорные) немецких патриотов, которые полагали, что войны республиканской Франции приведут к международному расширению демократических институтов, были жестоко разрушены, а на мирных переговорах шел мелкий торг о тех или иных территориях. Это разочарование отражено и в заключительных строках письма к Гегелю его штутгартского друга: "…наш авторитет сильно упал. Доверенные лица великой нации предали священнейшие права человечества презрению и глумлению наших врагов. Я не знаю той мести, которая была бы соразмерна их преступлению. В этих обстоятельствах оглашение Вашего сочинения лишь навредило бы нам" [14]14
Rosenkranz К. Hegels Leben. S. 91.
[Закрыть].
Противоречие, столь эмоционально выраженное в этом письмо, уже неоднократно рассматривалось нами. Оно лежит в основе всех как теоретических, так и практических попыток достичь единства Германии в этот период. Гегель поднимает вопросы в начатой, но незаконченной брошюре. Однако очень характерно для Гегеля, что в его набросках нет и следа озлобления против французов. Он подходит к вопросу о единстве Германии с точки зрения внутренних противоречий ее национального развития, и его более поздние конкретные высказывания о тогдашних перспективах всемирно-исторического развития показывают, что Гегель всегда сохранял симпатию к той линии развития, по которой пошла Франция. Более того, в период господства Наполеона ого симпатии становятся только сильнее, и в наполеоновском решении проблем французской революции он все более усматривает исторический пример для подражания. Само собой разумеется, что такая точка зрения не помогла Гегелю преодолеть непреодолимый в сущности барьер, проходивший между общественно-историческим анализом и перспективами претворения в жизнь его результатов.
Этот разрыв обнаруживается в сохранившихся фрагментах брошюры "Конституция Германии", прежде всего в том, что Гегель всегда обрывает рукопись там, где он должен был бы более конкретно обрисовать перспективы. В Иене Гегель возобновил работу над этой брошюрой, существенно расширил и углубил ее как в критической и исторической части, так и в той, которая выдвигает конкретные предложения. Однако тем самым разрыв был только передвинут в другую область и явно заметен даже в очень конкретных предложениях.
Гегель, в частности признавая, что в прошлом любые изменения государственных конституций могли быть осуществлены только реальными историческими силами, в своей "Конституции Германии" хранит, однако, полное молчание о тех исторических силах, которые могли бы вызвать к жизни желаемые им реформы, а в тех местах, где он все-таки намекает на такие силы, его намеки неопределенны и иллюзорны [15]15
Оба фрагмента гегелевского сочинения о конституции, которые мы будем сейчас рассматривать, возникли, по всей очевидности, на рубеже 1798–1799 гг. Относительно первого фрагмента это с полной достоверностью доказали Розенцвейг (Rosenzweig К. Hegel und der Staat. Bd. 1. S. 88) и Гофмейстер (Dokumente zu Hegels Entwicklung. S. 468). В рукописи Гегеля, там, где он говорит о Раштаттском конгрессе, слово «будут» исправлено другими чернилами на «были». Это означает, что рукопись, несомненно, возникла во время заседаний Раштаттского конгресса и была позднее, очевидно по возвращении к этой теме в Иене, просмотрена и переработана. Относительно второго фрагмента существует различие в мнениях тех гегелеведов, которые располагали рукописями оригинала. Херинг (Op. cit. S.'595, 785) относит этот фрагмент к иенскому периоду, считает его, таким образом, одновременным с позднейшим вариантом всего сочинения. Розенцвейг (Bd. I. S. 92, 235) и Гофмейстер (S. 469), напротив, считают, что он написан еще во Франкфурте. Розенцвейг и Гофмейстер приводят сугубо философские аргументы, опираясь на гегелевские сочинения, в то время как Херинг обосновывает свои доводы «внутренними указаниями». Уже это дает основания для сомнений. Но и сами так называемые «внутренние указания» говорят против Херинга, поскольку в методе и построении второго фрагмента выражены наиболее типичные черты франкфуртского периода. Мысль Гегеля отталкивается от переживаемых индивидом проблем и поднимается затем к историческим связям и философским обобщениям. Такая субъективность изложения чужда Гегелю в периоды после Франкфурта. Читатель, который знаком с вводными замечаниями этого фрагмента по первому параграфу, сам может оценить его настроение и духовную атмосферу. То, что и мы вслед за Гофмейстером и Розенцвейгом относим фрагменты к франкфуртскому периоду, основано на том, что они, как читатель увидит, с одной стороны, содержат положения, близкие к вюртембергской брошюре, но на более высокой ступени философского обобщения. Они возникли, таким образом, явно позднее. С другой стороны, в феврале 1799 г. Гегель начинает свои первые основательные экономические исследования. Однако в этих фрагментах нет и следа экономического образа мысли. Очевидно, они возникли до изучения экономического учения Стюарта. Разумеется, вес это лишь гипотезы, но при современном состоянии гегелевского наследия мы не можем обойтись без таких гипотез, если хотим реконструировать этапы развития взглядов Гегеля.
[Закрыть].
Что же касается первого фрагмента, то и здесь бросается в глаза острота критики и смелость анализа и в то же время отсутствие конкретных перспектив. В своем исследовании Гегель предвидит закат Германии, ее окончательное раздробление как возможную угрозу. Он намекает, правда, в качестве альтернативы на другое решение, но здесь рукопись обрывается. После острой критики стремления к самостоятельности отдельных княжеств Германии Гегель говорит: «Если это стремление к изоляции является единственным движущим принципом в германской империи, то Германии неудержимо летит в пропасть навстречу своей гибели, и предостерегать об этом было бы, правда, необходимым, по вместе с тем и глупым, бесполезным занятием. Разве Германия не должна осуществить выбор между судьбой, постигшей Италию, и путем, ведущим к единому государству? Существуют, главным образом, два обстоятельства, вселяющие надежду на возможность объединения, два обстоятельства, которые можно рассматривать как тенденцию, противодействующую гибели»[16]16
Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie Hegels. S. 142.
[Закрыть]. Но в рукописи нет ничего об этих обстоятельствах.
Мы уже указали на то, что гегелевский анализ исходит исключительно из внутренних отношений Германии и возлагает вину за кризис германской империи на них, а не на войны, которые вела Франция. Как все прогрессивные немцы своего времени, Гегель видит главное зло Германии в земельной собственности больших и малых княжеств, в раздробленности Германии на ряд больших и малых самостоятельных государств. При этом он приходит к радикальному положению: "Кроме деспотий, т. е. неконституционных государств, ни одна страна в качества целого не обладает худшим государственным устройством, чем Германская империя". И добавляет: "Вольтер прямо назвал государственное устройство Германии анархией; это действительно наилучшее наименование, если считать Германию государством, однако теперь оно уже не подходит, ибо Германию нельзя более считать государством" [17]17
Гегель. Политические произведения. С. 181.
[Закрыть].
Обоснование этого резкого вердикта характерно для Гегеля. Оно показывает, с одной стороны, как гегелевская констатация фактов приходит в противоречие с его первоначальными взглядами и как он продвигается (правда, на пути очень рискованных идеалистических конструкций) "в клубке" противоречий к достижению новых глубоких знаний.
Главное противоречие немецкого государственного устройства Гегель видит в том, что основой этого устройства является, в сущности, не государственное, а частное право. В его концепции еще многое от старого понимания государства, частью связанного с естественным правом, частью принимающего за образец античность. Он осуждает принципы германского публичного права за то, что они являются "не основоположениями, выведенными из основанных на разуме понятий", а простыми "абстракциями от действительности". Гегель видит, что правовые нормы возникают из реальной общественной борьбы, принимает этот факт, но находит в нем нечто противное разуму, нечто противоречащее действительности такой, какой она должна быть[18]18
Там же. С. 183.
[Закрыть].
Это противоречие имеет явный идеалистический и метафизический характер, который еще больше бросается в глаза, когда мы рассматриваем понятийное обоснование абстрагирования от действительности. Резко осуждая такие абстракции, Гегель пишет: "Ведь владение появилось раньше, чем закон, и возникло оно не из законов, но то, что было приобретено, превращалось в законное право". Но если мы внимательнее исследуем ход мысли Гегеля, то увидим: его борьба против частноправового характера германской империи обозначает, что в общественных схватках средневековья с новым временем в Германии победил феодализм."…Государству оставалось только подтвердить то, что уже было отторгнуто от него… в Германии… каждый член политического тела располагает властью в государстве, обладает правами и несет определенные обязанности только по воле своего сословия или корпорации" [19]19
Там же. С. 182.
[Закрыть].
Совершенно очевидно, что именно в победе феодальных принципов Гегель видит причину того, что Германия перестала быть единым государством. И далее он показывает, что публичное право, основанное на частном праве, имеет тенденцию становиться самостоятельным, отрываться от государственного и национального целого, вследствие чего необходимым образом возникает хаос противоречащих Друг другу прав и притязаний на права. Правда, здесь Гегель, в отличие от работ более позднего времени, рассматривает право не как результат, а как верховный принцип общественных и государственных отношений, но в рамках этого идеалистически искажающего действительность подхода он дает четкую, наглядную и сатирическую картину положения в Германии, где кто-то один имеет право говорить от имени всей Германии о войне и мире на том же основании, что и другой имеет право быть собственником полей или виноградников [20]20
См.: Там же. С. 183.
[Закрыть].
В этой резкой оценке отношений в Германии гораздо яснее, чем в вюртембергской брошюре, выражена историческая точка зрения на позитивность, осознается отсталость этих отношений, необходимость их реформы. С одной стороны, Гегель ярко описывает те, в прошлом действенные и прогрессивные силы, которые первоначально создали здание германской империи; он отдает также должное чувствам, традициям и привязанностям, которые немцы питают к своему прошлому, но, с другой стороны, крайне резко подчеркивает, что это историческое прошлое не имеет никакого отношения к действительным проблемам современности.
Эту же мысль он сформулировал в брошюре об отношениях в Вюртемберге следующим образом: «Здание немецкой государственности – дело прошедших веков; оно не соответствует нашему времени, в его формах нашла свое полное выражение более чем тысячелетняя судьба; в нем живут справедливость и насилие, мужество и трусость, честь и кровь, нужда и благосостояние давно прошедших времен, давно истлевших поколений. Жизнь и силы, чье развитие и действие составляет гордость нынешнего поколения, безучастны к нему, не интересуются им и не зависят от него; это здание с его колоннами и украшениями стоит в стороне от духа времени» [21]21
Там же. С. 181.
[Закрыть]. Гегель не произносит здесь слова «позитивность», но ясно, что и в этом анализе перед нами дальнейшее историческое развитие его идеи позитивности.
Особенно важным для развития гегелевской исторической конструкции является продолжение этого исторического анализа, исследование "легенды о немецкой свободе". Здесь впервые Гегель пытается дать картину догосударственного общественного состояния, которое он позднее обозначил термином "век героев". Правда, эта концепция будет играть решающую роль прежде всего в познании Гегелем догосударственного развития античности. Но у него есть ряд высказываний (например, в "Эстетике"), где разложение средневековья рассматривается аналогично Вико.
Замечания Гегеля свидетельствуют о развитии его чувства историчности, его диалектического понимания истории, в равной степени далекого и от прославления примитивных общественных состояний, и от желания возвратиться к ним, и от вульгарного пренебрежения примитивными общественными состояниями во имя прогресса, от вульгарно-презрительной их оценки с "высоты последних достижений" цивилизации. Гегель рисует здесь красочную картину эпохи немецкой свободы, состояния, когда не законы, а нравы объединяли людей в народ, и одинаковые интересы, а не общий приказ превращали народ в государство[22]22
См.: Там же. С. 182.
[Закрыть]. И Гегель добавляет следующее общее рассуждение: «Сколь мало-душно и слабо называть сыновей того состояния ужасными, несчастными и глупыми, а самих себя считать бесконечно более человечными, счастливыми и умными, столь же ребяческим и глупым было бы тосковать по такому состоянию, – как будто она было единственно естественным, – и принимать во внимание состояние, в котором господствуют законы не как необходимые, – состояние свободы» [23]23
Dokumente zu Hegels Entwicklung. S. 284.
[Закрыть]. Несколько лет спустя, в начале иенского периода, в тезисах своей диссертации он придал этой мысли чеканное, парадоксально заостренное выражение. Отчасти присоединяясь, отчасти полемизируя с концепцией Гоббса, он писал: «Естественное состояние не является несправедливым, и именно поэтому из него необходимо выйти» [24]24
Гегель. Работы разных лет. Т. 1. С. 265.
[Закрыть].
Другой фрагмент, впервые напечатанный Розенкранцем, трактует эти вопросы более общо и философски. Розенкранц даже называет этот фрагмент общей сводкой размышлений Гегеля о мировом кризисе [25]25
Розенкранц печатает этот фрагмент непосредственно вслед за критикой Канта 1798 г. (Rosenkranz К. Hegels Leben. S. 88). Поскольку Розенкранц был учеником Гегеля, это также может служить подтверждением нашей гипотезы о датировке.
[Закрыть].
Исходный пункт и общее настроение фрагмента известны нам из уже приведенной цитаты в первом параграфе этой главы. Описав кризисное состояние индивида, Гегель переходит к анализу всеобщего мирового состояния. "Все явления этого времени, – пишет он, – свидетельствуют о том, что умиротворенность прежней жизнью утеряна; она была ограничением себя, упорядоченным господством над своей собственностью, лицезрением и наслаждением своим, пребывающим в полном подчинении, маленьким мирком, а также и примиряющим это ограничение самоуничтожением и мысленным вознесением к небесам". Время уготовило крах этой обывательской и самодовольно-религиозной ограниченности. Как нищета, так и роскошь сняли старое состояние. На одной стороне возникла жажда обогащения, "нечистая совесть со все большей силой укоряет человека в том, что собственность, вещи превращены им в абсолютное", на другой стороне – "время ощутило веяние лучшей жизни". Здесь Гегель явно обращается, с одной стороны, к французской революции (и, возможно, даже к Наполеону) и, с другой стороны, к великим представителям классической немецкой поэзии и философии. Веление времени "находит поддержку в деятельности выдающихся людей, в движении целых народов, в изображении писателями природы и судьбы; посредством метафизики ограничения обретают свои пределы и свою необходимость в совокупных связях целого" [26]26
Гегель. Политические произведения. С. 180. Под метафизикой Гегель понимает здесь философию, преодолевающую ограниченность субъективного идеализма.
[Закрыть].
Гегель придает здесь новый характер концепции позитивности. Историзация этого понятия (как это мы видели в вюртембергской брошюре) сначала обнаруживается в том, что институты, первоначально соответствовавшие нравам народа, со временем отдалились от его жизни их покинул дух, и они превратились в позитивные институты. Теперь Гегель добавляет к этой картине новый штрих: в застывшей, старой позитивной жизни начинает просыпаться новый дух, и живая противоположность старого и нового превращает исторически отжившее в позитивное.
Как же представляет себе Гегель в этом фрагменте изменение ставших непрочными отношений в Германской империи?
Он кратко обрисовывает возникающие перспективы и поэтому (что очень характерно) выступает радикальнее и политически конкретнее, чем в других своих рассуждениях. «Ограниченная жизнь в качестве силы лишь в том случае может стать объектом враждебного нападения со стороны лучшей жизни, если последняя также стала силой… В качестве особенного, противостоящего особенному, только природа в ее действительной жизни олицетворяет в себе нападение или опровержение дурной жизни…» [27]27
Там же.
[Закрыть] Здесь у Гегеля уже обнаруживается реалистический взгляд на общественное развитие, понимаемое как противоборство различных сил (особенного против особенного). Здесь он очень уж далек от либеральных иллюзий насчет «неодолимой силы идеи», от зова которой сами рухнут замки абсолютизма, подобно тому как в Библии от труб Иисуса Навина рухнули стены Иерихона. Но вместе с тем он рассматривает борьбу против абсолютизма, против феодальных пережитков так же, как ее рассматривали передовые идеологи революционного тогда буржуазного класса, еще более конкретизируя борьбу со ставшей позитивной старой жизнью. Господство старой жизни «основано не на власти особенного над особенным, а на всеобщности; истина, право, которые оно связывает с собой, должны быть отняты у него и переданы той части жизни, которую требуют… Позитивность существующего, которая является отрицанием природы, сохраняет свою истину, которая должна быть правом» [28]28
Там же. С. 180.
[Закрыть].
Эти гегелевские положения, использующие крайне абстрактные понятия и весьма туманно выраженные, переводят на философский язык полемику буржуазных революционеров с феодальным обществом и оценивают претензии господствующих в нем классов быть представителями и руководителями всего общества как самомнение ничтожного меньшинства, преследующего партикулярные интересы. С другой стороны, в требованиях "третьего сословия" эти революционеры видят не столько требования одного класса к другим классам, сколько требование, выражающее права всеобщего интереса, интересы всего общества.
Когда Гегель меняет здесь местами особенное и всеобщее, когда он, с одной стороны, разоблачает феодально-абсолютистскую всеобщность как неправомерное притязание меньшинства, а с другой – усматривает подлинную всеобщность, соответствующую природе и истории, в специфических требованиях буржуазии как класса, он лишь абстрактно-философски формулирует те мысли, которые в политически ясном и конкретном виде, без философских притязаний были широко распространены в прогрессивной публицистике накануне и во время французской революции. И опять-таки для развития Гегеля как мыслителя характерно, что диалектику всеобщего и особенного впервые в его творчестве возникает не в связи с решением абстрактно-философских проблем, а как попытка прояснить реальную историческую диалектику разрушения феодального общества буржуазией, как попытка разъяснить другим необходимость такого разрушения.
Дальнейшие построения Гегеля еще более отчетливо показывают, насколько тесно философская форма постановки вопросов связана у него с общественно-исторической проблематикой. "В Германской империи, – пишет он, – исчезла обладающая властью всеобщность как источник всех прав, поскольку эта всеобщность существует теперь только в качестве мысли, а не действительности" [29]29
Там же. С. 180.
[Закрыть]. Здесь ясная характеристика Германской империи как всеобщности, нисшедшей до особенности, политически является поддержкой полемики с феодально-абсолютистскими пережитками, о которых мы только что говорили. С точки зрения философского развития Гегеля мы должны вспомнить опубликованные Нолем фрагменты, где он впервые начал искать новое понимание позитивности. Мы показали, что Гегель видит различие между позитивным и непозитивным в том, что хотя и то и другое есть единство, но позитивное – это лишь представление или мысль, в то время как непозитивное – бытие.
Напомним еще раз, что в связи с этим Гегель впервые начал проводить различие между определенными ступенями бытия. Тогда это было сформулировано в высшей степени абстрактно и неясно. В дальнейшем проблемы приобретают более конкретную форму и определение ступени действительного и недействительного бытия оказывается связанным с историческим вопросом об отмирании или уничтожении старых общественных формаций, зарождении нового состояния общества. Мы приближаемся к рассмотрению той диалектики общественного развития у Гегеля, которую Энгельс охарактеризовал следующими словами: "И совершенно так же, по мере развития, все, бывшее прежде действительным, становится недействительным, утрачивает свою необходимость, свое право на существование, свою разумность. Место отмирающей действительности занимает новая, жизнеспособная действительность…" [30]30
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 274–275.
[Закрыть]. Конечно, Гегель еще очень далек от исторически конкретного изучения, которого он достигнет в своей философии истории. Мы стремились лишь показать, что в этих фрагментах он сделал первый шаг к методологии своего понимания истории. И для тогдашнего уровня его мышления характерно, что и этот фрагмент обрывается там, где из политически и философски смелых и прогрессивных предпосылок должны были быть сделаны конкретные выводы.