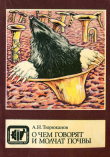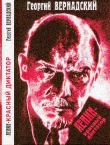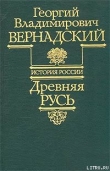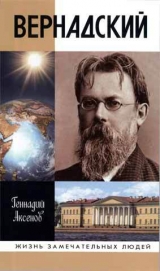
Текст книги "Вернадский"
Автор книги: Геннадий Аксенов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 45 страниц)
Таков быт. Когда ушли из гимназии, жили у знакомых (на Тарасовской улице в доме 7, у профессора-гигиениста Добровольского). Жили как все: в «уплотненных квартирах», на чемоданах со сдвинутой мебелью в комнатах. Одновременно с Ниной, вернувшейся из Шишаков, приехал (причем в тот же день через несколько часов) Георгий из Перми. Молодой профессор бежал от большевиков, захвативших Урал. Вскоре он уехал преподавать русскую историю во вновь образовавшийся Таврический университет, быстро наполнявшийся бежавшими с севера учеными.
* * *
Дела у красных шли не блестяще. В марте – апреле 1919 года добровольческие фронты сдавливали их со всех сторон, и это означало, что всем остальным каждый день грозил самыми неожиданными опасностями. «Долго не писал – а между тем огромные изменения, – записывает Владимир Иванович 18 апреля. – Развал жизни увеличился. Много научно работал и это главная часть моей жизни. Мне кажется, культурная личная работа у многих углубляется». На другой день: «Уже больше года выброшен из Петрограда. Вторая Пасха. Прошлая – в Полтаве. И все впереди еще нет никакого выхода, и все по-прежнему задыхаешься в мешке. Когда-то С. Трубецкой говорил про наши заседания в Московском университете перед 1904 годом: мы говорим и обсуждаем в завязанном мешке. В большем виде все это правильно для теперешнего времени»29.
К обычным трудностям времен Гражданской войны прибавлялись интриги, которые вело «Науково товариство» Грушевского. Общество претендовало на ведущую роль в научной жизни Украины. Личков, побывавший на одном из собраний «товариства», был несказанно удивлен, когда честь создания Академии наук была приписана вовсе не Вернадскому и Василенко, а этой организации.
Возможно, что отголоском интриг явилась статья в одной из большевистских газет. Собственно, не статья, а донос, где Вернадского называли крупным кадетом и «землевладельцем». Украинцы-большевики с удивлением узнали, что он бывший министр и богатый помещик, и не понимали, отчего они за него «держались». Статья анонимная, но вскоре выяснилось, что написал ее секретарь по библиотеке Перфецкий. Вернадский еще до прихода большевиков понял, что в нем он ошибся. В дневнике (уже в сентябре 1919 года) он писал о нем как о русском националисте, терявшем порядочность при переходе в область национальных вожделений. «Такие люди – слабые, но с искрой Божьей, как А. Грушевский, Перфецкий <…>, в конце концов, совершают бесчестные поступки»30.
В другое время навет мог остаться без последствий. Но на дворе стоял июль. Добровольцы Деникина наступали. Большевики вводили полную милитаризацию жизни, мобилизацию населения и тому подобные строгости. Свирепствовала «чрезвычайка». Был открыто декретирован красный террор, в газете печатали списки расстрелянных без суда и следствия. По первому подозрению в связи с белыми хватали любого. Все знали, что по ночам на Садовой, 5, где расположилась ЧК, расстреливали. Так, был расстрелян сменивший в октябре 1918 года Василенко на посту министра просвещения историк и филолог В. П. Науменко.
Дневник 29 мая 1919 года: «Давно не писал. И болен был и тяжело записывать среди террора и бессмысленных переживаний средневековой жизни. Удивительная ирония судьбы – к чему пришло русское освободительное движение – к полному попранию человеческих условий существования. Кругом в обществе и народе все больше накапливается ненависти, безразличия к жизни, тупого отчаяния. Подымаются дикие инстинкты самосохранения. Напоминает то, что должны были переживать культурные народы и общества, когда захватывали их другие завоеватели, с иной идеологией. Мне больше всего напоминает происходящее завоевание культурного грекоримского мира магометанством, времен халифата. Только уже исчез фанатизм, так как сторонники – идейные большевизма – ничтожны»31.
А ведь у Вернадского по ту сторону фронта знакомых не меньше, чем по эту, и любое копание в его прошлом в момент превращения Киева в прифронтовой город становилось небезопасным. Знакомые уговаривали исчезнуть из города. Он и сам чувствовал нависавшую угрозу, хотя и обзавелся охранными грамотами на все случаи жизни. И тут зоолог С. Е. Кушакевич предложил отправиться с ним в Староселье, на возглавляемую им биологическую станцию и переждать смутное время. Он поедет как командированный, а не беглец.
Вернадский взял от академии еще одну охранную грамоту, и вот они с Кушакевичем и Ниной пешком тронулись из Киева. Отправились вверх по Днепру до Вышгорода, а оттуда на лодке добрались до Староселья, что расположилось при впадении Десны в Днепр.
Здесь, в живописнейшем месте, ныне исчезнувшем под волнами рукотворного Киевского моря, в урочище Гористое располагалась биостанция, основанная в 1907 году Обществом любителей природы и отошедшая теперь к Академии наук.
«В эти последние дни большевиков мимо нас проходили – у самого дома – бесконечные вереницы барж и пароходов, наполненные всяким добром, – слышалась речь и ругательства.
Когда вечером зажигались огни – слышались отдаленные выстрелы – мы жадно всматривались в огни Киева, старались узнать, что там происходит», – вспоминал он позднее32.
Они застали на станции много молодежи из университета, преподавателей, ассистентов, студентов. Работали, невзирая на голод. Питались дарами природы и тем, что могли выменять в окрестных деревнях на одежду. Собирали грибы, ловили рыбу, раков. Лето выдалось безудержно урожайное.
Вернадский запомнил эти несколько недель как одни из самых счастливых в своей жизни. Бывает такое удачное сочетание природы, погоды, личной безопасности, дружеского окружения, здоровья, мыслей и чувств. Все слилось в удивительную гармонию и жизненную полноту. Вверх по Десне простирались могучие заповедные леса, своим шумом навевавшие мысли о рыцарских временах Киевской Руси, о запорожцах – Вернацких. Он снова переживал века – века истории и буйствовавшей здесь всегда растительности.
Стояла середина июля – пик размножения, стремительный рост численности «неделимых жизни». Вокруг миллионы особей возникали, будто из волшебного рукава мага, чтобы единицы из них, преодолев случайности, не погибли, а дали еще миллионы. Давлением жизни назвал он этот натиск, внутреннее незаметное глазу напряжение живого, заполнявшего все возможные горизонты пространства во всех направлениях. В кронах нет ни одного незанятого сантиметра, а внизу, поддеревьями, – джунгли растительных и животных форм. Нине запомнились какие-то маленькие древесные лягушки, их невероятное количество и что отец собирал их, сушил и анализировал собранный материал.
Наконец-то он избавился от толп посетителей и мог полностью отдаться любимой теме. Через пять лет вспоминал: «Вопросы полноты жизни – давления жизни, аналогичного распространению газа, все время меня охватывали. Гулял в лесу, собирая грибы (маслята массами) и в то же время ощущая живое и свою неразрывную родственную связь со всем живым.
Это было пять лет назад. И каких пять лет. И сколько лет… Картины леса стоят передо мной как живые»33.
Николай Григорьевич Холодный, работавший в то лето на биостанции, запомнил его в основном не гуляющим, а пишущим. Устроившись на пне и совершенно не обращая внимания на комаров, мошек и мух, он увлеченно писал в тетрадке. Тогда они впервые как следует поговорили, и Холодный успел «близко узнать и полюбить этого замечательного ученого и очаровательного человека», как вспоминал впоследствии украинский академик. От разговоров с Вернадским оставалось ощущение одухотворенности и глубины.
Философские беседы сменялись разговорами на более специальные темы. Вернадский развивал идеи решающей роли микробов в общем строе живого слоя планеты. Однажды он обратил внимание микробиолога на изменение внешнего вида колоний зеленых водорослей в колодце лесничества. Вода в колодце богата железом. Водоросли густо покрывали стены сруба. Как это часто бывает, что-то в разговоре натолкнуло Холодного на новые идеи, и он надолго занялся этим видом микробов, стал виднейшим специалистом по железобактериям.
А самому Вернадскому больше запомнились разговоры с будущим светилом американской генетики Ф. Г. Добржанским и с профессором С. Е. Кушакевичем. «Я помню с ним интересные живые разговоры о различных больших и мелких проблемах биологии, философии, текущей жизни. От него я впервые узнал о генах, он – единственный из биологов указал мне на работы Прейера над постоянством количества жизни. <…> Жизнерадостный, полный научных планов, широко образованный и замечательно милый человек. Никак не ожидал, что он так быстро погибнет. При отступлении армии Деникина, заразившись тифом – должно быть, похоронен в Константинополе. <…> Как сейчас, помню его энергичную высокую фигуру в очках, ходившую по маленькому садику среди леса и прибрежных песков перед станцией, напевающего или ведущего оживленную беседу. С Ниночкой он повторял греческую грамматику. Был любителем классических языков. <…>
Это был настоящий университетский учитель – от которого надо было ждать многого и которого заменить нелегко. Это одна из потерь культурного накопленного капитала, которую в столь страшных размерах дала нашей культуре комунистическая (он всегда писал это слово с одним «м». – Г. А.) революция»34.
Над чем же работал Вернадский? Конечно, готовил заметки о живом веществе и одну статью, которую тогда не смог опубликовать – об участии живого вещества в образовании почв. Почвоведы представляли себе всегда, что живое поставляет почве останки отмирающих организмов, из которых образуется гумус – черная часть почвы. Он показал совершенную недостаточность таких представлений. Почва – продукт, произведение, сложнейшая система взаимодействия живых организмов, минералов и солнечной энергии. Верхний тончайший горизонт всех материков – наиплотнейший покров жизни, откуда во все стороны – в гидросферу, в атмосферу, в глубинные каменные слои распространяется ее влияние.
Все его давние, еще студенческие, наблюдения над сусликами, земляными червями теперь осветились новым пониманием – ощущением системности жизненной работы всех организмов, их притертости друг к другу и взаимного переплетения. Он пытается теперь определить четкие границы живого вещества. Оно включает в себя опад, отмирающие части, газы, всегда наполняющие полости организмов. «Взятая в таком смысле, живая материя является определенно целым, поддающимся точному учету, могущим быть сведенным к массе, энергии и химическому составу»35.
Испытывая чувство «полноты и давления» жизни, натуралист тем не менее должен перейти к цифрам, должен «поверить алгеброй гармонию». Одно другому не противоречит. Ведь наука о числах возникла из музыкальных соответствий, а алгебра – из чисел. Только хаос нельзя поверить алгеброй. Жизнь можно и нужно записать на языке цифр и точных понятий. Она находится с неживым окружающим миром, как он догадывался, в строго определенных числовых соотношениях. Так появился самый первый набросок будущей идеи, лежащей в основе понятия биосферы.
* * *
Но счастье, как известно, недолговечно. Приближался фронт, в который раз менялась власть, и пора было возвращаться к своим обязанностям. Опять с Ниной и Кушакевичем они пустились в обратный путь и вслед за деникинскими войсками пешком вошли в город.
Большевики отступили. На несколько дней в Киеве опять возник Петлюра, но быстро стушевался, на этот раз окончательно.
Открылись расстрельные подвалы на Садовой улице. Горожане ходили туда как в страшный музей. Очевидцы писали о специально устроенных стоках для крови в подвалах, о могилах во дворе, наполненных телами казненных, о забрызганных мозгами стенах кабинетов. Город содрогнулся. Хоронили останки.
С тех пор вопрос о социализме, как об идейном течении, для Вернадского отпал. То, что нужно вбивать, писал он, с помощью неслыханного, средневекового насилия над людьми, не имеет права называться идеей. За ней ничего не стоит, кроме стремления к захвату власти.
Давно, еще в свою первую поездку в Европу, побывал он в Мюнхенской пинакотеке и написал Наталии Егоровне о поразившей его картине Дюрера «Четыре апостола». Он дал знаменитому диптиху свое толкование.
Любое учение появляется на свет как усилие души и ума бескорыстного искателя истины. Его олицетворяет на картине первый апостол – с чистым лицом, высоким лбом и ясными глазами. Второй адепт истины воспринимает ее уже по-своему, более приземленно. Он сопрягает небесный полет мысли первого с уже известными учениями, делает его понятным, толкует и упрощает. Это типичный специалист. Третий апостол – не мыслитель, а деятель, он переносит учение в социальную сферу, пытается превратить истину в пользу, начинает борьбу за ее утверждение. Деятель использует не идеи, а людей в целях распространения учения, создает из них организацию. Судя по его хитрому лицу, в средствах ее утверждения он не стесняется. Это типичный политик. И, наконец, четвертый апостол – с низким лбом и зверским выражением лица – не рассуждает и не хитрит. Для него нет вопросов знания и деяния, а есть только свои и чужие. Последние должны быть уничтожены. Это холодный и убежденный палач, карающий за инакомыслие.
Таков всегдашний и страшный, в сущности, путь идеи, «овладевающей массами». Она уже неузнаваема в четвертом, а социально он и есть самый сильный и опасный.
Так и социализм, начавшийся как чистое учение справедливости и добра и во всем превратившийся в свою противоположность, стал словесным оформлением убийств и зверств.
* * *
Итак, ему лично теперь в Киеве ничто не угрожает. Зато над Академией наук нависла грозная опасность ликвидации. Большевики хотя бы содержали ее, платили ученым, ассигновали кое-какие средства на исследования. Добровольческие генералы знать ничего не хотят о какой-то академии. Да что там академия? Они не хотят слышать ни о какой Украине, будь то государство или федеративная республика. Есть Киевская и другие губернии в составе единой и неделимой России.
Но во имя чего уничтожать начатую научную и культурную работу? И что говорить людям, ее начавшим?
Решает поехать в Ростов, где при штабе Добровольческой армии находилось правительство или Особое совещание, занимавшееся делами гражданского управления. В его составе много знакомых по Петербургу. 23 сентября Вернадский приехал в Ростов. Остановился в богатом доме управляющего табачными фабриками Асмолова C. Л. Минца.
В центре Белого движения уже более широкие горизонты. Здесь иностранные корреспонденты, в том числе муж «кадетской летописицы» Ариадны Тырковой корреспондент лондонской «Таймс» Гарольд Вильямс. Иногда можно почитать европейскую газету, которых он не видел несколько лет. Поскольку сплошного фронта нет, просачиваются и люди, и сведения из Москвы и Питера. Главное – репрессии, массовые аресты (до тридцати тысяч человек в одной Москве). Потери среди интеллигенции ужасающие. Вернадский записывает массу достоверных сведений и слухов об известных и знакомых.
Здесь собрался цвет кадетской партии, много старых друзей. Он общается с Новгородцевым, Паниной, Астровым, Павлом Долгоруковым. Почти все они входят в Особое совещание, созданное Деникиным для нужд гражданского управления, фактически Белое правительство Юга России. Начав хлопоты, Вернадский понимает, что все должен решить Деникин. Но важно правильно подготовить документы и подать дело. Несколько дней он обговаривает вопрос с товарищами по партии. Почти все становятся на его точку зрения: нельзя разрушать академию. Правда, почти все не видят ее как Украинскую академию. Возникают варианты. Она должна быть филиалом Российской академии наук с одновременным созданием такого же в Москве или просто академией в Киеве, но вести дела на русском языке и т. д. Вернадский пишет предварительную записку и готовит аудиенцию у главнокомандующего.
Массу мыслей вызывают у него обстановка в Ростове, беседы с друзьями по ЦК, ознакомление с положением дел на фронтах и в областях, занятых белыми. И вот он чувствует, как сам меняется и, как огромный корабль, медленно разворачивается к иным, более широким горизонтам за пределами междоусобной войны. Еще по инерции он как бы участвует во всех обстоятельствах ее. Он даже выступает в киевских и ростовских газетах с публицистическими статьями об академии, русской и украинской культуре, их взаимодействии в составе новой демократической единой России и о местном самоуправлении. В этих последних статьях (правда, во второй приезд в Ростов, в декабре) он верен себе: дело должны решить только местное самоуправление и аграрная реформа. Та система управления военного времени, которая только кажется эффективной, вызывает ненависть населения и коррупцию. Только ответственное самоуправление способно решить эти две проблемы. И чем отчаяннее положение, тем точнее нужно проводить в жизнь научные принципы либерализма36.
Но все это уже его личные арьергардные бои. Он все же отходит от дел текущих и поворачивает к науке. 26 сентября записывает: «Затем целый день по делам Академии. Большой разговор об Академии наук с Долгоруковым. Уничтожать не хочет, но надо сохранить в латентном состоянии. Не знаю, что со мной сделалось. Я так ярко и глубоко чувствую самодовлеющее значение своей работы научной, что впервые могу говорить об этом не как о своем деле, а как о таком, которое может оправдывать отход от участия в событиях дня. Мне кажется, что и с национальной точки зрения это самое большое, что я могу дать. Среди зоологических украинских и великорусских инстинктов хочется уйти во что-то такое вечное, которое стоит выше этого, и с чем я соприкасаюсь в той творческой научной работе, которой живу эти месяцы»37.
Отошедши от противостояния, он уже не занимает место на баррикаде. Пока еще он держит сторону добровольцев. Не потому, что они правы. Скорее, не правы, но те – не правы еще больше. Приходится выбирать не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. Добровольцы хотят возвращения старого, что абсолютно невозможно. Распад России уже произошел. Все лозунги их – несерьезные приманки. Но делать нечего, приходится быть с ними.
В этих неопределенных обстоятельствах – на чем стоять, чему верить? Только самому себе. События иррациональны. И надо доверять своей интуиции и держаться за научную истину. Дневник 28 сентября: «В разговоре с С. Вл. Паниной я как-то сказал, что сейчас (в ответ Юреневу [член ЦК Конституционно-демократической партии. – Г. А.) о возможности или невозможности уехать и отдаться научной работе в связи с зоологическими украинскими и великорусскими настроениями) я пришел к заключению, что опору в жизни я нахожу только в самом себе и только в глубине своей личности я считаюсь в своих моральных решениях. С. Вл. говорит, что она давно руководится тем же самым. Сейчас я чувствую, когда я опираюсь на самого себя, что я как бы углубляюсь в какую-то глубь, в какую-то бесконечность и этим путем нахожу такую опору в своих решениях в окружающей жизни – на поверхности, какой не ожидал. Точно в окружающей меня бурной стихии я сижу на прочной и неподвижной скале»38.
Вероятно, уверенность ощутил в нем и Деникин, который принял Вернадского 30 сентября. На другой день ученый записывает, что генерал производит хорошее впечатление. Виден человек умный и с темпераментом. Любые аргументы выслушивает, ищет выход из положения, есть в нем и чувство государственности, проявляющееся в боязни быстрых, скоропалительных решений.
«Тут он улавливает что-то новое в создании еще одной Академии наук помимо Российской. Не знал, что в других странах их несколько. Я указал ему в поданной записке на опасность того, что уничтоженная здесь Академия возродится или за кордоном в связи с германской или польской культурой, или в Киеве в виде чисто украинского центра. <…> В конце концов, он указал, что они завтра (т. е. сегодня) рассмотрят это дело, тогда меня известят»39.
Первого октября Деникин внес в Особое совещание записку Вернадского. Благодаря Новгородцеву найдено компромиссное решение: академия сохраняется в виде ученого комитета, хранящего имущество и поддерживающего начатые научные работы. Средства правительство выделяет. Вопрос о языках – русский или украинский употреблять в делах академии – остается открытым, его следует решать в каждом отдельном случае. Название – «Академия наук в Киеве».
* * *
Седьмого октября Вернадский с компромиссным решением возвращается в Киев. Попадает в тревожную обстановку: большевики наступают, Добровольческая армия (ДА) не оказывает серьезного сопротивления. Население бежит. Очень скоро выясняется, что решение Особого совещания осталось на бумаге. Деньги не переведены, никто из местных начальников об Академии наук ничего не знает. Собственно, не секрет, что управление расстроено, продолжает рассыпаться. По сути дела, все зависит от военной обстановки. 27 октября записывает: «Заседание Комитета совместно с издательскими организациями Академии. Ясна сделанная научная работа. Первое отделение выступит с интересными работами и ясно видно, что время прошло недаром. Веду заседание по-русски, когда говорят по-украински – им так и отвечаю. [Намечается] то будущее, которое будет здесь в Киеве, когда вопрос украинско-русский потеряет свою остроту?
Как-то я не могу реально думать об оставлении Киева. Неужели возможно, как с Колчаком: отход ДА?
Говорят все о панике. Никто не понимает ее причины. Но весь Киев в паническом настроении в связи с возможностью быстрого прихода большевиков»40.
Он выясняет судьбу академии у командующего обороной генерала Драгомирова. Тот заявил, что в Ростове в его последнее посещение штаба ни о какой научной работе в местной академии речь не шла. Только хранить имущество до решения судьбы по окончании войны. Или вообще передать его в университет. Дневник 29 октября: «На меня он произвел впечатление очень ординарного генерала. Никакого биения мысли не чувствуется. Он указал, что когда он уезжал из Ростова, то никакого разговора о продолжении научной работы Академии не было. <…> Он ничего не знает о новом повороте и решении Особого совещания официально и потому предлагал мне только средства для поддержания работы Комиссии. Я отказался, и в конце концов мы условились: вношу примерную смету и в счет нее 150 000–200 000 р. немедленно. <…>
Мне кажется, что все мои попытки отстоять сейчас работу Академии кончатся крахом, и в той или иной форме мне придется пойти на разрыв. Но с другой стороны – кто знает будущее?»41
В ноябре наступили холода. На Тарасовской Вернадский только спит, спасается в академии. Нищают. Продали его фрак. Владимир Иванович не представляет, когда он может понадобиться теперь. Иногда какие-то деньги дают знакомые в долг. Он пытается работать, но тревога, захватывающая домашних и окружающих, передается иногда и ему. Если придут красные, они во фронтовой обстановке не будут особенно разбираться в тонкостях его особой позиции, в попытках примирить и спасти русскую и украинскую культуры, а примут во внимание хотя бы его летнее исчезновение из города, возвращение с белыми войсками и поездку в Ростов. Он слишком на виду.
И чтобы не попасть в прифронтовые ужасы, решает снова уехать в Ростов. А по дороге завезти Наталию Егоровну и Нину в более безопасную, как ему кажется, Полтаву.
Оставляет все дела по академии Крымскому. Отдает ему на сохранение рукопись по живому веществу, которая распухла уже до 1200 страниц. Собрав все пожитки, 23 ноября Вернадские с Прасковьей Кирилловной выехали к Старицким в Полтаву. Оставив своих, он среди грабежей и восстаний продолжил непростой путь, попав сначала в Харьков.
После его отъезда Наталия Егоровна и Нина, захваченные великой паникой при приближении красных войск и оставив больную Прасковью Кирилловну у Старицких, тоже сели в поезд, идущий на юг. 4 декабря на станции Лозовая их пути пересеклись. Георгий вспоминал, что Нина увидела знакомого, который сказал ей, что Владимир Иванович сидит в соседнем поезде. У них было всего несколько минут встречи. Он направился в Ростов, они – в Новороссийск, чтобы оттуда добираться в Крым.
Встреча просто невероятная, но вполне в духе всего непредсказуемого времени.
В Ростов Вернадский прибыл 7 декабря. Узнал, что законопроект об академии стал законом, но все обессмыслилось в наступающей катастрофе. Да и бюрократия похуже, чем была при царе, не мог найти документов, никто не вел протокол.
Говорят, что пал Киев. Мысль: что с рукописями? Положение отчаянное. Все рушится и рвется. И главное, как раз сейчас, когда он так полон планов, мыслей, желаний, внутренней энергии. Дневник 7 декабря: «А впереди столько мыслей, столько новых достижений! И так ясен путь дальнейшей работы. Я хочу в случае крушения Киева и Харькова ДА – работать – рукописи остались в Киеве – над обработкой темы – над “Автотрофным человечеством” – последней главой “Живого вещества”. Она едва набросана, и над ней можно работать независимо от рукописи. Если даже рукописи и пропали – работа моей мысли не пропала, и она сама по себе составляет нечто целое и живое. И сказывается не только во мне, но и в окружающем»42.
Неожиданно в Ростове его отыскал член-корреспондент Российской академии наук ботаник Владимир Митрофанович Арнольди и предложил возглавить работу по геохимическому исследованию Азовского моря. Есть возможность под нее добыть средства.
Вернадский загорелся было мыслью применить свои геохимические идеи для практических, прикладных надобностей. И все это на фоне бегства всех и вся. Он попадает в Новочеркасск, заезжает на два дня в Екатеринодар, делает доклад и пишет специальную записку о геохимическом исследовании Азовского моря. Дневник: «Я сейчас полон всяких планов организации, если это дело удастся. Удивительно, как складывается моя научная работа. Сейчас все глубже вдумываюсь в вопросы автотрофности организмов, и автотрофности человечества, в частности. Здесь в автотрофности одна из загадок жизни. Стоит перед мыслью красивый образ Кювье о “жизненном вихре” (turbillion vital) (отражение картезианства?) – о его причине. Надо смело идти в новую область, не боясь того, что уже в мои годы кажется это поздним. Жизнь – миг и я, живя мыслью, странным образом живу чем-то вечным»43.
Уже во второй раз возникает слово «автотрофность» – способность живых организмов напрямую, без посредства других живых организмов утилизировать энергию Солнца. Так устроены растения, многие микроорганизмы. Другие – гетеротрофы – должны употреблять живые ткани, чтобы получить энергию. Но при чем здесь человечество? Оно же явно употребляет в пищу растения и животных. Через два месяца напряженных размышлений на эту тему он запишет в «Мыслях и набросках» 1920 года: «5. Стремление человека к бессмертию, ужас смерти, чувство ее как чего-то противоестественного, имеют реальное основание. С точки зрения общих геохимических процессов смерть не является для людей необходимым, и весь общий порядок геохимических явлений может целиком быть неизменным при существовании человечества, индивиды которого умирают от всяческих случайных причин. Не есть ли это стремление показатель того приспособления, которое совершается сейчас в человечестве и в конце концов осуществится в автотрофном человечестве. Какие огромные последствия для всей жизни человека будет иметь такое состояние, когда смерть является не неизбежным, а случайным явлением. Как связать это с уменьшением рождаемости? Искусственное оплодотворение, но не уменьшится ли и эта возможность?»44
Надо ли говорить, что из планов Арнольди ничего не получилось, да и не могло получиться в канун 1920 года, в дни гибели Добровольческой армии и ее бегства в Крым и на Кавказ. Лавина все еще летела, сметая на своем пути людей, их планы и желания.
«Вчера не удалось уехать, – сообщает Вернадский открыткой Корнилову из Ростова 26 декабря (уже нового стиля), – поезда были отменены. Попробую сегодня. У меня дело на 2–3 дня в Екатеринодаре, а затем через Новороссийск буду пытаться проехать в Крым. Что буду там делать – не знаю, надо как-нибудь жить»45.
Удивительно, но в этот последний день в Ростове он видит в газете «Донская речь» свою статью «Научная задача момента». Наверное, он был единственным в наступившем развале, кто так далеко смотрел, даже за пределы большевистской победы: «Глубже вдумываясь в происходящее, отыскивая его скрытые основы, легко убедиться, что настоящее спасение России, залог всего ее будущего, ее единства, ее значения в мировой жизни – наиболее ярко и наиболее жизненно сосредоточивается в духовной творческой работе народа, – в науке, искусстве, технике, творчестве, общественной и политической жизни»46.
В канун Нового года в безумной круговерти и людской панике он добирается до Новороссийска, где устраивается на пароход «Ксения» среди высших гражданских чинов и офицеров, как бывший член Государственного совета.
Пока пароход заполнялся, встречался с друзьями. «Был у Павла Ивановича [Новгородцева]. С ним прощался. Когда увидимся – неизвестно. Может быть, в Крыму? П. И. говорит, что он только теперь начинает считать положение безнадежным. Шансы 1 на 10. И все же он не признает всех ошибок ДА. Сейчас у него большая критика и Деникина. Он не хочет уезжать из России – отрываться от семьи. Обдумывает, как наладить научную свою работу. И я думаю, что он молодец в этом отношении – его жизнь вся проникнута идеей и никогда не прекращалась его научная работа»47.
В эти дни шла огромная эмиграция профессоров в славянские страны, уезжала масса знакомых. Вернадский и сам записался в это движение, думал о работе в Чехословакии или Сербии. Новгородцев закончил свои дни в Праге в 1924 году. Жизнь раскидывала друзей.
В те же дни Россию покинул Федор Родичев. Он уезжал через Одессу и незадолго перед отъездом выступил с речью, как всегда, при огромном стечении слушателей. Название речи «Мне хочется сказать великому народу: ты жалкий и шальной народ».