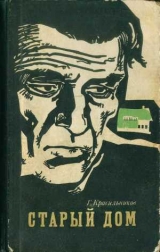
Текст книги "Старый дом (сборник)"
Автор книги: Геннадий Красильников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
Наконец-то она догадалась закрыть за собой дверь. Вот чертова баба, некстати явилась!
Отец долго разглядывал сапоги, в раздумье тер щеку. Сдержанно спросил:
– Ну, что думаешь с ними делать?
Что я думаю? Сказать по правде, я был не прочь пощеголять в хромовых сапогах. Таких у меня никогда еще не было. Кирзовые сапоги, доставшиеся мне от Сергея, давно пришли в ветхость, в них уже неловко показываться на людях. Может, и в самом деле купить эти сапоги? Вот стану работать и с первого аванса рассчитаюсь. Ведь если не я – другой кто-нибудь купит. Хоть и не нравятся мне сами Волковы, но – черт с ними! – на сапогах не написано, чьи они да откуда!
– Отец, – сказал я, – может, пока их оставить? А то все равно другие купят… Я заработаю, отдам деньги.
Отец молча завернул сапоги и сунул под лавку. Вот и отлично, давно я мечтал о настоящих хромовых сапогах. Если еще на них надеть новые галоши, как у Генки Киселева, тогда… Словом, я был доволен. А что касается работы, то с поклоном к Волкову я не пойду, пусть не ждет. Теперь у меня есть специальность, ждут другие дела!
…На улице весна. До чего же надоело лежать! Будь я сейчас здоровый, побежал бы на горку, полюбовался полями, разливом тихой нашей Чурайки, всей бы грудью вдохнул свежего ветра!
* * *
Ну и работа у меня – прямо сумасшедшая! Не успеешь сделать одно дело, глядь – подступило другое. Прибежали сеяльщики, чертыхаются: «Разрегулировалась льносеялка, самим не наладить, айда, помоги, Курбатов!» Бегу в поле, оттуда – в кузницу: надо нарезать болтов, гаек разных. В колхозе нет даже мало-мальского токарного станка, а за каждой мелочью в РТС не побежишь: слишком дорого обходится там ремонт, гайки получаются золотые. Уж лучше нарезать вручную, плашками. И так каждый день – точно белочка в колесе. В кожу ладоней прочно въелась мелкая железная опилка – мылом не отмыть. На руках ссадины, кровоподтеки; промахнулся молотком, ударил по большому пальцу – искры из глаз. Палец здорово распух, а ноготь, как видно, скоро отпадет. Генка успокоил: «До свабьды заживет, новый отрастет!»
Я застал лишь последние дни сева, почти все было сделано, пока болезнь держала меня в постели. Досевали оставшиеся клинья яровых, сеяли лен, кукурузу, готовились садить картофель. Но основное было уже позади, я приспел к шапочному разбору.
Алексей Кириллович как-то, встретив меня, спросил:
– Ну, техник-механик, не жалеешь, что поехал на курсы?
Я сказал, что нисколько не жалею.
– Правильно! – одобрил Захаров. – Ученье в любых видах – вещь полезная. А то заладил было: институт да институт… Наше с тобой от нас не уйдет, дай время!
И аппетитно, с хрустом потянулся.
– Ух, тезка, денечки были: разрываешься надвое, а тебе говорят – надо вчетверо! Теперь не грех отоспаться вволю… Только вряд ли удастся – дома у меня целыми днями музыка, почище Бетховена! Шельмецу, моему Вовке, уже четыре месяца, вовсю пузыри пускает, сеет просо… Между прочим, все понимает! Заходи, увидишь.
Радостное, ни с чем не сравнимое ощущение весны и жизни не покидает меня все эти дни. Так хорошо, так беспокойно-радостно мне еще не было никогда. Может быть, виновата в этом весна, а может, что-то другое? Не вертелись больше в голове мучительные вопросы: что же дальше? Куда податься? Где мое место? Конечно, работа тоже здорово отвлекает: просто не остается времени размышлять, когда со всех сторон тебе кричат: "Эй, Курбатов, поди сюда, помоги зазоры установить" или "Олешка, ну-ка, подсоби поднять. Раз-два, взяли!" Работы, как выражается Генка Киселев, "выше ноздрей", и совершенно некогда раздумывать, на своем ли я месте сижу. Одно для меня было ясно: сегодня я нужен людям, у меня нет права уйти от них, и место свое я занимаю вполне законное!
Но сердце… Порой оно начинало выстукивать что-то тревожное, куда-то зовущее. Но куда? Я знал, что моё место сегодня здесь, и никуда не собирался трогаться. А сердце звало!.. Оно ждало каких-то перемен. Каких? Кого оно ждет? Никто из родных и близких никуда не уехал, все они живут здесь, рядом со мной. Сердце беспокойно ожидало каких-то встреч!
После приезда я всего несколько раз виделся с Анной, да и то лишь на людях. "Здравствуй, Алеша! С приездом!" – "Спасибо, Анна. Как живешь, работаешь?" – "Спасибо, живу хорошо. А скажу плохо – все равно не поверишь…" Вот и весь наш разговор… Мы даже не взглянули друг дркгк в глаза.
Почему-то сердце мое начиняло биться громче и быстрее как раз в такие, моменты, когда я думал о ней, об Анне. Меня тянуло к ней. Зачем? Ответить на это я затруднялся, просто тянуло и все! За то время, пока меня здесь не было, что-то неуловимое изменилось в Анне. Изменился голос? Нет, он все тот же, певучий и немного печально-ласковый. Или глаза? Не знаю. Возможно, они стали голубее, чем прежде, но это скорее оттого, что в них отражается лазурная синь майского неба.
А может, мне все это лишь кажется? Мало ли что может померещиться, если тебе восемнадцать лет, да к тому же на дворе – весна!..
Сергей на своей машине съездил на базу "Сельэлектро", привез полный кузов проволоки, фарфоровых изоляторов, мотков кабеля. Узнав об этом, люди в Чураеве взбудоражились: будут тянуть электричество!
Действительно, вскоре из города прибыл электротехник, но пробыл он всего два дня: показал, где поставить трансформаторную будку, щитки с переключателями, а остальное…
– Остальное сами сделаете, – сказал он Алексею Кирилловичу. – Вон у вас какие орлы, любого электрика за пояс заткнут! А мне проводкой заниматься некогда – ждут в других колхозах.
– Верно, молодежь у нас грамотная! – с заметной гордостью ответил Захаров. – Свои механики имеются, а скоро и инженеры появятся. Что ж, тезка, видно, тебе придется командовать электрификацией Чураева!
И вот, с легкой руки Алексея Кирилловича, я превратился в электрика. Мальчишки табуном бегают за мной, наперебой вызываются помогать, и наш шумный табор кочует от дома к дому. Взрослые, завидев меня, почтительно здороваются первыми, подолгу стоят, задрав голову, пока я прикручиваю к столбу чашечки изоляторов, интересуются:
– Видно, к концу дело? И где это ты, Алексей, научился этому ремеслу? Гляди-ка, а! Парень-то молодец…
Закончив дело в одном доме, я складываю инструменты в сумку, перекидываю через плечо моток проволоки и прощаюсь с хозяевами: "До свиданья! Скоро загорится свет!" Хозяин провожает меня до самых ворот: "Спасибо тебе, Олеша! Заходи, всегда гостем будешь". Нравится мне новая работа. Еще не светится серебряная ниточка в лампочках, но на лицах людей уже играет свет настоящей радости. Честное слово, я был готов всю жизнь ходить вот так, из дома в дом, с инструментами и мотками проволоки, чтобы видеть, как приходит к людям радость!
В один из таких дней я делал проводку в доме Феклы Березиной. Привертывая в стену штепсельную розетку, я встретился глазами с Раей. Она в упор смотрела на меня с сильно увеличенной фотокарточки, почудилось, что она улыбается насмешливо, словно говоря: "Что ж, Алешенька, я вижу, ты нашел свое место в жизни. Доволен? Каждому свое! Жизнь порой похожа на лотерею…"
Хозяйка стояла поблизости, сложив руки на груди, внимательно следила за моей работой. Заметив, что я смотрю на Раину фотографию, шумно вздохнула:
– Ох, Олеша, ведь вы с моей Раей вместе росли, a вот ты уже работаешь, семье своей помогаешь. Люди с похвалой о тебе говорят, дескать, парень ты толковый. А Рая моя… – она всхлипнула, принялась платком утирать глаза. – Не пишет она давно… А каково это матери! Ростила, ростила, ночей не спала, все ей да ей. Думала, в люди дочка выйдет, тогда и поживу себе в охотку. А она… даже писать не желает. Одна она у меня, в ней жизнь вся моя. А так – кому я нужна?
С трудом удержался, чтоб не рассказать о Рае. Отвернулся к стене, чтобы не видеть ее тяжелых, крупных слез. Давно невзлюбил я эту крикливую женщину, но сейчас мне было жалко ее. И все-таки я промолчал о Рае. А тетка Фекла продолжала:
– Ведь дочь она мне родная, под сердцем я ее носила, Олеша! И самой становится боязно за нее: как она там, может, бедствует, без денег среди чужих людей? Телочку годовалую думаю на базар свести – Рае денег отослать… Чтобы не хуже людей одевалась, за мать не краснела! Своя-то молодость в заплаточках прошла, так уж пущай хоть дочка и за меня в шелковых платьях покрасуется!.. Вы ведь друзьями были в школе, Олеша? Бывало, как увижу вас вместе, так сердце и радуется: дети-то хорошие растут! И то верно: от хорошего семени не бывает худого племени!..
Ишь, куда она завернула! Знаю, как ты радовалась. Опоздала ты с этими речами, тетка Фекла, на целый год опоздала. Что правда, то правда – дружили мы с Раей, да только давно это было, разошлись наши пути-дорожки! И не сойтись им больше.
Закончить проводку у Березиных мне не удалось: в дом вбежал запыхавшийся паренек, старший сын дяди Олексана Петька, и, страшно волнуясь, одним духом выпалил:
– Дядь Олеша, к вам милиция пришла, сказали, чтобы ты сейчас же шел домой, по срочному делу!
Через секунду Петька уже выбежал из избы, загремел ногами по лестнице. Я взглянул на хозяйку дома и поразился: лицо ее побелело, и сама она, не в силах стоять, тяжело прислонилась к стене. Странно, как ее напугало известие, принесенное Петькой. Но ведь милиция пришла не к ней и вызывают не ее! Однако раздумывать было некогда, торопливо сложив в сумку инструменты, я бегом кинулся домой. Что же такое там стряслось? Неужели Сергей с машиной попал в аварию?
Открыв дверь, я тотчас увидел лейтенанта с белыми погонами, а рядом с ним милиционера. Отец, странно сгорбившись, сидел на своем привычном месте, мать стояла, прижавшись спиной к печке, неслышно всхлипывала. Сердце мое сжалось в предчувствии чего-то нехорошего.
Милиционер-лейтенант кивнул мне, приглашая сесть, отрывисто спросил:
– Курбатов Алексей?
– Ну, так… Что случилось?
Лейтенант взмахом бровей указал на табуретку рядом с собой, и лишь тогда я заметил полотняный мешок, чем-то туго набитый.
– Как это штука очутилась у вас, Курбатов?
– Мешок? Да я впервые вижу его!
Милиционер переглянулся с товарищем, тот неприметно усмехнулся, потом лейтенант снова спросил:
– А откуда у тебя хромовые сапоги? Тоже, скажешь, не знаю?
"Хромовые сапоги? А-ах, вон они о чем!.. Почему не знаю? Знаю и могу рассказать. Сапоги принесла Жена Архипа Волкова, я их купил. Правда, еще не успел рассчитаться, но Матрена Волкова сама согласилась подождать с деньгами…"
Как было дело, я рассказал им. Выслушав меня, лейтенант укоризненно покачал головой:
– Ай-яй, Курбатов, ты бы хоть родителей своих постыдился! Спекулянты оставляют у тебя на хранение целый мешок краденой кожи, считают тебя своим, надежным человеком, а ты "ничего не знаешь"? Ай-яй, молодой человек.
Мать заплакала в голос, протянув руки перед собой, сквозь плач проговорила:
– Ой, да что же теперь нам будет, господи-и… Оле-ша, сынок, я в этом виноватая: эта шайтанова дочка – жена Архипа давеча притащила тот мешок, оставила у нас… Сказала, будто ты обо всем знаешь, я и поверила, дура! Господи, за что такая напасть, ой!..
Неожиданно отец поднялся с места, с грохотом отшвырнул табуретку, задыхаясь выкрикнул:
– Хватит! Раньше надо было по сыну голосить! Какой срам…
Закрыв лицо рукой, он бессильно опустился на лавку. Мать испуганно затихла, только худые ее плечи продолжали вздрагивать. Я сидел онемевший, разбитый, оглушенный нежданно-негаданно свалившейся на нас бедой. В голове стоял неумолчный звон, вещи перед глазами расплывались, странно росли, пухли. Наконец откуда-то издалека до меня донесся голос: "Пошли, Курбатов". Я очнулся и встал, будто на чужих ногах шагнул к двери. Те двое вышли следом, лейтенант нёс в руках мешок и мои хромовые сапоги. Возле калитки я лицом к лицу столкнулся с Сергеем, он торопился на обед. Увидев шедших позади меня милиционеров, он поспешно посторонился, давая дорогу, лицо его изумленно вытянулось. Так и остался он стоять, пока мы проходили в калитку. Нет, у Сергея все было в порядке, в аварию попал я…
Мы шагали по той самой улице, где всего полчаса назад я весело насвистывал, разматывая проволоку и протягивая ее от столбов к домам. Или этого не было вовсе? Может, я сплю и вижу дурной сон, будто меня ведут в милицию? Нет, это не сон. Я слышу, как звонко перекликаются мальчишки, мои недавние помощники:
– Ребя-та-а, дядю Олешу в тюрьму ведут!
Этого тебе еще не доставало, Алексей Курбатов!
* * *
В тюрьму меня, конечно, не посадили, никто и не собирался этого делать, но события тех дней сейчас мне кажутся кошмарным сном… не хочется вспоминать о них. Но убежать от своей памяти не так-то просто! Снова и снова вижу себя шагающим по улице в сопровождении милиционеров, в ушах звенят мальчишечьи голоса: «Дядю Олешу в тюрьму ведут!» Что ж, дурость своя, самому и быть за все в ответе… Эх, если бы я знал, что так случится! Не угадаешь, на чем споткнешься.
Судили Архипа Волкова и "друга его милого" Аникея Ильича. Выяснилось, что они не первый год занимались спекуляцией и жульничеством: через кладовщика незаконно получали партии хромовой кожи, шили в артели сапоги, плащи, затем продавали через третьи руки. В последнее время стало трудно сбывать краденое, они почуяли опасность и, предвидя "знакомство" с милицией, принялись лихорадочно припрятывать свой "товарец". Таким вот образом я стал владельцем отличных хромовых сапог, а жена Волкова, воспользовавшись "добрым знакомством", по совету Аникея Ильича, припрятала в нашем доме целый мешок краденой кожи. Вместе с ними судили какую-то женщину, я долго силился припомнить, когда и где ее встречал, наконец, вспомнил: это она сидела на мешках когда весной, в половодье, мы ехали на тракторных санях. Вон, оказывается, какая это была ворона!
Открытый суд проходил в клубе, зал был полон до предела. Архип Волков, Аникей Ильич и та женщина сидели на отдельной скамье, отгороженной от народа точно заразные больные. И хотя я сижу не с ними, но жгучий стыд не позволяет мне смотреть людям в глаза, и кажется, что все в зале с молчаливым осуждением поглядывают на меня.
На суде я без утайки рассказал все, что знал о Волкове, о его дружках. И чем больше рассказывал, тем яснее и отчетливее видел самого себя, точно с большой высоты обозревал свой короткий, но уже изрядно запутанный жизненный путь. Да, путь этот не был безукоризненно прямым, местами он начинал петлять, кружить, чтобы затем снова идти по прямой… Судили Волкова и его дружков, но в душе я судил самого себя, и трудно сказать, который суд был беспощаднее!
Феклу Березину тоже вызвали на суд свидетельницей. Она явилась одетой в старенькое платье с заплатами, в полинялом платке: видно, рассчитывала видом своим разжалобить судей и односельчан. Но люди в зале поняли ее хитрость, никто не собирался ронять о ней слезу. Женщины возмущенно переговаривались: "Фекла через свою жадность готова породниться с самим шайтаном!.. Свинья к любому забору привалится… И куда ей все, будто две жизни хочет прожить!"
Плачущим голосом обращалась Фекла Березина к судьям, начисто открещиваясь от своих друзей:
– Ох, ошиблась я по своей глупости, шайтан толкнул к этим паразитам!.. Кабы ведала, что они за люди, ногой бы к ним не ступила. Денег посулили, я и согласилась держать у себя ихний товар. Ох, дура я, дура!.. Думаю, деньги в хозяйстве не лишние, дочке своей пошлю… Она у меня в городе учится, как же ей без денег? Глаза бы мои не смотрели на этих воришек, тьфу на них! А что в гости собирались вместе – так это леший меня попутал… по ошибке пошла, да не туда ногой попала!
В зале громко засмеялись, посыпались замечания:
– Знала нога, куда свернуть!
– Жадное-то око видит далеко!
– Знаем сами, Фекла, что кривы твои сани!..
Березина сразу сникла, съежилась под градом насмешек: видно, дошло до ее сознания, что ее словам здесь никто не верит и разжалобить никого не удастся.
– Значит, дочь ваша учится в институте? – спросил судья.
– Учится, по первому году учится… Только очень вас прошу – ее-то не тревожьте! Пусть мать плоха, мне самой отвечать, а дочку не беспокойте, пусть себе учится!
Судья жестом остановил ее:
– Очень жаль, но я должен огорчить вас, гражданка: ваша дочь в настоящее время не в институте, как вы думаете, а работает сменной официанткой в ресторане. Как любящей матери, вам следовало бы знать правду о своей дочери!
Услышав эту ошеломляющую весть, тетя Фекла вся помертвела, с минуту тупо смотрела на судью, потом схватилась рукой за сердце и, негромко вскрикнув, рухнула на пол. Люди, сидевшие поблизости, подняли ее, подхватили под руки, повели из зала. Платок ее сбился на затылок, волосы растрепались, голова бессильно свесилась. Полной мерой отплатила дочка матери за слепую ее любовь!..
Объявили приговор. Для троих жуликов суд на этом закончился. Но для меня он еще только начинался. При выходе из зала я увидел Анну Балашову, она стояла очень близко, глаза ее были обращены ко мне, в них я заметил слезы. Нет, сейчас я не мог с чистой совестью смотреть в эти глаза, ясный их взгляд слепил меня. Если бы я мог рассказать ей все, что было на душе, если бы она согласилась выслушать меня! Но в глазах ее стоял испуг, они были влажными, и я прошел мимо, не подняв головы.
Дни после этого стали казаться невыносимо длинными, я старался избегать встреч с людьми. Когда проходил по улице, чудилось, что люди смотрят на меня из всех окон, указывают пальцами: "Смотрите, смотрите, вон идет Алексей Курбатов! Не смог поступить учиться, с ворами снюхался! Смотрите, вот он идет…" Правда, этого никто мне в глаза не говорил, но слова эти я словно слышал за спиной. Дома за столом кусок не шел в горло, косые взгляды отца полосовали ножом: "Нечего говорить, вырастили сына себе на радость! Эх-х…" Только мать по-прежнему ласкова, старается незаметно подложить кусок получше: "Ешь, сынок, ешь, лица на тебе не осталось, похудел весь… Ешь, а то захвораешь, не ровен час…"
Алексея Кирилловича в эти дни в Чураеве не было – уехал куда-то по делам колхоза. Узнав, что ночью он приехал, я прямиком направился к нему. Захаров был дома, играл с сынишкой.
– A-а, техник-механик! – приветствовал он меня. – Здравствуй, проходи, рад тебя видеть! Что это ты вроде невеселый! Ты посиди пока один, а я уложу спать разбойника. Давай, Вовка, баиньки, а? Во-от, так… Папку надо слушаться, папка добрый, но сердить его не следует. А ты у меня молодец, правда?
Болтая с сыном, Алексей Кириллович бережно понес его на руках за перегородку, уложил. Вскоре он вернулся, сделав круглые глаза, погрозил пальцем:
– Тс-с, ни звука! Спит, но все слышит, точно гусь на посту… Ну, тезка, выкладывай, что у тебя. Вижу – неспроста пришел. Но я уже привык, что к председателю редко идут делиться радостью, а все больше – наоборот! А?
Захаров беззвучно засмеялся, но смех его был невеселый. Но куда, как не к этому человеку, понесу я свою беду? Отцу не сказал, а к Захарову пришел, потому что знаю: не оттолкнет он.
– Алексей Кириллович, отпустите меня из Чураева… Разрешите уехать…
– Что за чушь! – изумился Захаров. – Просто блажь или… что-нибудь серьезное?
– Не могу я больше здесь оставаться… Да вы сами знаете, к чему рассказывать! После такой истории мне здесь… стыдно глаза показывать людям. Разрешите уехать, Алексей Кириллович! Куда-либо на стройку:..
Захаров молчал, хмурился, поглаживая подбородок. Затем спокойно проговорил:
– Здесь женщин нет, так вот я тебе, тезка, по-мужски скажу одно слово… – и он ясно, отчетливо выговорил крепкое мужское ругательство. – Понял? Эх, Алексей, Алексей… Не хочешь понять того, что люди тебе добра желают, настоящим человеком хотят тебя видеть, а ты… упрямо нос воротишь. Ну, скажу откровенно: куда ты поедешь? Ага, сам пока не знаешь! Ясно… А я вот что скажу: никуда тебе не надо уезжать, место твое здесь, в родном колхозе! Или ты не считаешь его своим? А? Счастье твое здесь, и будущее – тоже, и не надо отталкивать его собственными руками. Котеночка за шиворот тянешь, тычешь мордочкой в блюдце с молоком, а он, глупыш, мяукает, царапнуть норовит. Вот и ты тоже вроде того котенка! Нет, нет, ты головой не тряси, лучше на ус наматывай. Скажи, кто попрекнул тебя за… ну, за этих жуликов?
– Н-никто пока, но… я сам чувствую, как… Словом, все знают, стыдно на улицу показаться!
– Это другое дело. Но на людей зря не греши, молод еще, не знаешь, каков наш народ. Он попусту болтать не станет, а коли заслужишь – в глаза скажет. Н-е-е-т, брат, если бы народ посчитал тебя виноватым, так просто ты бы не отделался, заявили бы примерно так: мол, ты, Курбатов, оказался дурным человеком, с нами тебе не жить, катись-ка следом за дружками! А тебе говорили такие слова? Нет? То-то же! Значит, народ разобрался, правильно рассудил, что вины твоей большой нет, наперед выправишься. Всяко можно о себе подумать, важно – как народ скажет так тому и быть. Он тебя на какую угодно высоту вознесет, а может и больно ушибить! У него – как у отца с матерью: слова жестки, да руки ласковы… Мой тебе совет: выкинь из головы всякую мысль о том, чтобы бежать куда-то, выкинь и позабудь! А может, тебе работа твоя не нравится?
– Нет, почему… Работа хорошая, как раз по душе…
– Большего и не требуется! Если человек работает с охотой, желанием, значит, он на своем месте. А ошибки… У кого их не бывает? Не помнишь, чьи это слова, что не ошибаются только те, кто равнодушен к своей работе? Вот так, тезка. Оставайся до осени, а там увидим… Да, хочу еще спросить: дальше учиться думаешь?
– Как же, конечно! Ребята все учатся…
– Правильно! У каждого человека должна быть большая мечта, чтоб тянулся он к ней, как в темную, глухую ночь путник тянется к далекому огоньку. Значит, твой огонек – учеба, так?
Я кивнул головой: да, только так! Алексей Кириллович помолчал и, откинувшись на спинку стула, сказал вдруг даже просительным тоном:
– Есть у меня такое предложение, тезка: учиться вдвоем, вместе. И ты должен меня взять как бы… ну, под шефство, что ли. Одним словом, помощь твоя потребуется. Как ты, а?
Видя мое недоумение, он весело рассмеялся, но тут же, вспомнив о сыне, прикрыл ладонью рот.
– Фу ты, про меньшого Захарова совсем забыл… Так непонятно? Сейчас объясню. Дело в том, что родилась у меня мыслишка начать учиться заочно. Правда, теперь, пожалуй, и поздновато, но… как говорится, никогда не поздно сделать доброе дело, а в особенности – учиться! Пока сидел я в райкоме, учил других, советы давал, тем временем незаметно сам от людей отстал. Останься я на прежней работе, так, пожалуй, и по сей день не замечал бы этого несоответствия. А в колхозе, когда непосредственно живешь с людьми, одним с ними воздухом дышишь, ненормальность эта быстро выявляется. Оказывается, председателю колхоза нужно быть универсалом! Багаж мой оказался явно устарелым… Думаю постучаться в святой храм науки – поступить в сельскохозяйственный, это у меня давняя мечта детства. Но… чтобы вступить в этот храм, надобно сдать вступительные экзамены, а это для меня сейчас не так-то просто! Вот и прошу тебя, Алеша, помочь мне в этом деле: знания у тебе еще свежие. Сильно смущает иностранный язык. В памятке для вступающих в вузы сказана: экзамен по одному из иностранных языков. Когда-то я изучал в школе немецкий… Как там: Анна унд Марта баден, Анна и Марта купаются. Кхм… На фронте, правда, я пополнил свои знания по-немецкому, но… несколько однобоко. Например, крепко усвоил повелительное наклонение: "Хальт! Хенде хох! Фарвертс!.." Но для того, чтобы поступить в институт, этого, к сожалению, мало! У тебя какая оценка по немецкому в аттестате?
– "Четверка…"
– Да мне бы хотя на "троечку" сдать! – улыбнулся Захаров и, вставая, протянул руку. – Значит, по рукам? Добро! Учеником я буду прилежным. Валяй, тезка, по своим делам и помни: ты нужен нам в Чураеве, а не где-то в стороне!..
Снова, как в ту памятную новогоднюю ночь, я уходил от Захарова с зарядом новых сил, точно человек этот имел счастливую способность аккумулировать людей своей неистощимой верой и энергией. Как будто и не бывало гнетущей тоски и тяжести, я чувствовал, что снова могу смотреть людям в глаза. А ведь, собственно, ничего особенного не произошло, просто один человек пошел к другому, и они поговорили. Один сказал другому самые простые, обычные слова, и человек помог человеку!
…Мне еще оставалось закончить проводку электролинии на ферме, и от Алексея Кирилловича я направился прямо туда. Во вновь отстроенном общежитии дежурили доярки – Анна Балашова с подругой. Завидев меня, Анна заметно растерялась, отвернувшись к окну, принялась листать какую-то книжку. Подруга ее понимающе улыбнулась и быстро выпорхнула на улицу. Мы остались вдвоем. Скинув тяжелую сумку с инструментами, я подошел, встал с девушкой рядом и осторожно взял ее руку в свою. Она повернулась лицом ко мне, я видел, как быстро-быстро бьется тоненькая жилка над ее правой бровью, Я впервые видел ее лицо так близко от себя, но оно почему-то казалось мне знакомым до малейшей черточки. Она не отняла руки, я ощущал шершавость ее ладони и мягкую кожу на тыльный стороне. Рука у нее была маленькая, но сильная, пряничная к работе, с малых лет.
– Анна, – сказал я шепотом, – ты не сердись: платок твой – помнишь, зимой? – я его запачкал… Поранил руку и перевязал им. Он здорово запачкался… Ты не сердись, это я не нарочно.
Анна нагнула голову и ответила прерывистым голосом:
– А я, Алеша, вовсе и не сержусь. Что платок?.. Я могу приготовить другой, если… если тебе хочется.
– Спасибо, Анна. А я… мне уже не верилось, что ты со мной будешь вот так… просто говорить. – Она непонимающе вскинула бровями. – Ты знаешь, о чем я… Ты ведь была там, на суде…
Она решительно встряхнула головой и заговорила, волнуясь:
– Нет, Алеша, не надо об этом, я все понимаю! А ты… ты еще мало знаешь меня. Я всегда смотрю на тебя… Ой, нет, лучше об этом сейчас не говорить! Если у тебя есть чувство ко мне, гы и сам… догадаешься. – Она мягко, но настойчиво высвободила руку и спросила обычным своим голосом с едва приметной лукавинкой: – Будешь молоко пить? Не забыл, как раньше угощались? Ты тогда любил… молоко!
– Я и сейчас люблю, Анна! Больше, чем тогда!
Ничего особенного мы друг другу не сказали, но отчего сердце вдруг забилось учащенно, а у Анны дрогнули губы! Еще секунда – и я, наверное, обнял бы ее, принялся целовать. Но она, будто уловив это мое желание, опередила меня и, отступив назад, смущенно сказал:
– Сейчас сюда придет Маша… Иди уж, иди, Алеша, у тебя ведь работа.
Я вышел на улицу, голова слепка кружилась. Навстречу мне шла подруга Анны, она вполголоса напевала, посмотрев на меня, понимающе улыбнулась. Я тоже улыбнулся ей в ответ. Это получилось само собой.
* * *
В Чураево электричество пришло впервые; его ждали как самого дорогого гостя, чуть ли не каждый встречный останавливал меня на улице, спрашивал: «Олешка, скоро пустите электричество?»
И день этот настал.
Алексей Кириллович с утра предупредил: "Сегодня завершаем сенокос, это событие надо отметить. Поторопитесь с пуском станции, людям будет двойной праздник". А под вечер к домику станции стал собираться народ: по всему селу пронесся слух, что "нынче пустят ток". С шумом, гиканьем носились мальчишки, за ними приходилось смотреть в оба: того и гляди, потянутся к приборам!
За моториста был Генка Киселей. Вот он запустил двигатель, знаками показал, что у него все в порядке. Алексей Кириллович подошел ко мне, тронул за плечо: "Готов? Давай!.." Я подошел к беломраморному щитку, сжал в руке холодную ручку рубильника, и в эту минуту меня охватило волнение. Нет, не за аппаратуру – за нее я был спокоен, знал, что не подведет. Знал я и другое: стоит мне потянуть эту черную эбонитовую ручку, и произойдет чудо – вспыхнут в домах Чураева сотни маленьких солнц; знал я также, что электростанция совсем небольшая, ее энергии хватит всего на один наш колхоз, что таких на свете множество и ни в какое сравнение с гидростанциями на Волге она не идет. И все-таки я очень волновался, словно через несколько мгновений мне предстояло включить рубильник самой величайшей в мире электростанции! Дело, конечно, обстояло проще: я волновался потому, что в это "наше электричество" кое-что было вложено и моего.
Я потянул ручку на себя, контакты мягко вошли в гнезда, и тотчас раздался громкий вопль мальчишек: "Уррра, горит!.." Выбежав из домика, я глянул в сторону села – там было сплошное море сияния. В сотнях окон светились яркие огни, они весело и дружески подмигивали: "Да, горим, светим, полный порядок, Алеша!" Сияние их отражалось на лицах окружавших меня людей – они улыбались. Мы стояли рядом с Генкой, смотрели на огни и тоже улыбались. Говорить все равно было бесполезно – оглушительно гремел двигатель, гудел генератор, поэтому люди вокруг молча улыбались. К нам пробрался дядя Олексан, до боли стиснул руки, перекрывая шум, прокричал:
– Спасибо, ребята! Молодцы!
Потом люди стали расходиться: им еще дома предстояло привыкнуть к чудесной штуке – электричеству. Генка сам вызвался дежурить на станции. Спать он все равно не собирался: готовился к экзаменам.
По пути домой я завернул в контору. В кабинете у Алексея Кирилловича сидел Мишка Симонов. Был он изрядно пьян. Захаров подписал какую-то бумажку, внимательно перечитав, протянул Мишке:
– Возьми, Симонов, характеристику. Желаю хорошей работы на новом месте, но должен сказать прямо: я не очень верю, чтобы ты закрепился там надолго! Сбежишь ведь, Симонов, а? Ноги у длинного рубля, знаешь, какие!
Мишка небрежно сложил пополам листок бумаги, провел по сгибу ногтем, сунул в карман и удовлетворенно похлопал рукой:
– Порядок! Бумажка – великая вещь в нашу эпоху!.. А что касается вашего обо мне беспокойства, Алексей Кириллович, так скажу прямо: премного благодарим, но только зря вы переживаете за чужую болячку… Была бы охота – найдем доброхота! Всего наилучшего!
Кривляясь, он помахал кепкой, спиной попятился к двери. Я посторонился, Мишка и мне по-шутовски поклонился:
– Пардон! Поехали, Курбатов, на пару, а? Вместе нам тесно, а врозь – скучно, так поехали лучше вместе! Пупком, что ли, прирос к этой, извиняюсь, дыре? Эх, и погуляли бы мы с тобой!.. Не хочешь? Ну, как хочешь, вольному воля! А то айда в "кусочную", проводишь сослуживца – на мои деньги, за твой счет? Тоже не желаешь? А, с таким толковать – зря время терять!.. Ну-с, покеда, приятно оставаться!
Еще раз помахав кепкой, Мишка скрылся за дверью. Алексей Кириллович проводил его сердитым взглядом и, когда за Мишкой закрылась дверь, сказал задумчиво:
– Мда… Обезьянничает он слишком, чтобы успокоиться. Шут гороховый! Не отпустил бы я его, руки у парня машину чувствуют. Однако жаден к деньгам, за копейку зимой в Каму бросится. Все и вся на свете ценит на рубли. И водкой балуется… Подался на Алтай, к целине поближе. Такие там тоже недолго уживаются. Ну, раз собрался человек, скатертью ему дорожка! Одна паршивая корова всю улицу может загадить!..








