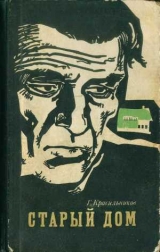
Текст книги "Старый дом (сборник)"
Автор книги: Геннадий Красильников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
Тягостно было в тот день у нас в доме, не передохнуть.
* * *
Колхоз в Чураеве называется «Вперед», Однажды отец невесело пошутил?
– Одно только название, что "Вперед", а который год все назад да назад пятимся!..
Мать часто вспоминала, что до войны дела в колхозе шли хорошо. "Осенью, как справимся, бывало, с работой – развозим по дворам на трудодни всякую всячину: и хлеб, и картошку, и овощь разную. Не знали, куда сыпать это добро, вот как! Война проклятая все порушила, с той поры никак не выправимся…"
А мы со сверстниками войну помнили смутно – слишком маленькими были в ту пору, да и сама война грохотала где-то очень далеко. Уходили туда наши отцы, братья. Кончилась война, во многих домах в Чураеве плакали, голосили по убитым отцам, сыновьям. Не было дома, чтобы не коснулась его война каким-то краем. Взять хотя бы нашу улицу, я могу рассказать о каждой семье.
По соседству с нами живет старая Чочия, никого родных у нее на свете не осталось. Еще молодой она схоронила мужа, с той поры всю свою любовь, все ласки отдавала единственному сыну, жила для него. В войну сын ушел на фронт и пропал без вести. Прислали старой женщине повестку, в сельсовете прочитали ей, что сын числится в списках пропавших без вести. Много лет прошло с тех пор, а старая Чочия все еще не верит, что сын не вернется… Однажды мать послала меня к ней, не помню, по какой надобности. Запомнилось: зашел в избу, а там такая тишина, будто дом нежилой. Я собрался уже уходить, но в эту минуту за печкой что-то зашуршало, неслышно вышла хозяйка – маленькая, высохшая женщина. Смотрит на меня вопросительно, словно ждет, не скажу ли что-нибудь о сыне… На стене висят две большие рамы, под стеклом тесно разложены пожелтевшие фотокарточки. Одна из них увеличена и раскрашена: это пропавший без вести… А рядом – множество разных фотокарточек. Чочия выпрашивает у знакомых карточки и вкладывает в рамку. Ей хочется, чтобы сын красовался среди живых друзей… Под рамами на гвозде висит новенький пиджак и фуражка из того же материала: ждет старая, что вернется сын, и захочется ему пройтись по деревне во всем новеньком! Теперь бы ему давно жениться пора, а сама Чочия стала бы нянчить внуков… А пока, в ожидании сына, она на себе таскает из рощи вязанки дров, ходит по воду с одним ведром: с двумя ей не управиться. Получает небольшую пенсию: пропавший без вести сынок кормит, содержит свою мать…
Дальше, рядом с Чочией – дом дяди Олексана. Такого сильного и здорового человека я еще нигде не встречал. С фронта он, как и мой отец, вернулся с культей вместо ноги, сделали ему протез, но он почему-то не стал им пользоваться, а смастерил простую деревяшку и ходит, тяжело переваливаясь, поскрипывая и занося в бок на каждом шагу свою липовую ногу. В нашем магазине никак не могут подобрать ему костюм по плечу: не привозят сюда такие размеры, продавцы говорят, что дядя Олексан "не стандарт". Отец рассказывает, что в молодости дядя Олексан шутя играл двухпудовыми гирями, подбрасывая и ловя их на лету… А однажды зимой мы с ребятами играли возле колхозных амбаров, и я видел, как дядя Олексан нёс на плече огромный мешок с зерном; не успел донести до весов, деревянная нога оступилась в снег, дядя Олексан как-то странно покачнулся вбок, будто переламываясь в поясе, и тяжело, повалился на землю. Поднялся он не сразу, повернул голову в нашу сторону, и тут я увидел, как из глаз его выкатились большие слезинки, черкнув по скулам, упали в снег… Дом у дяди Олексана маленький, прямо удивительно, как он живет в нём, с женой и пятью ребятишками. Каждый раз, встречаясь с ним, я с болью вспоминаю, как этот большой, сильный человек лежал на снегу и молча плакал…
А еще через двор красуется новенький, из свежерубленых бревен дом. Каждый раз, проходя мимо, я удивляюсь: хватило же у мастера терпения вырезать, выпилить все эти цветочки, кривулинки, затейливые фигурки на наличниках! Хозяин покрасил их в голубой цвет, от этого весь домик заиграл, словно игрушечный. На крыше – высокая мачта с антенной, оттого дом кажется маленьким кораблем, только кораблик этот никуда не плывет, стоит на якоре в зеленой заводи тополей. В доме с резными наличниками живет Волков Архип. Он работает в чураевской промартели не то кладовщиком, не то счетоводом, а жена числится в колхозе, работает по охотке: день выйдет, два нет. Вырабатывает минимум трудодней. Держат они полный хлев скотины, на колхозные луга выгоняют. Волкова в деревне вслух поругивают, дескать, "волк и есть, только в овечьей шкурке". А есть и такие, что завидуют ему: мол, безбедно живет этот Волков, не каждый может так! Часто приходится слышать и такие разговоры: "Что ни говори, а жить надо уметь. Правильное направление должно быть…" А вот как найти это самое правильное направление?
Я мог бы рассказать по порядку о всех людях улицы. Заречная наша улица небольшая, на ней около пяти десятков домов, но люди здесь живут разные. Всех я знаю в лицо и по имени, это и понятно: на этой улице прожиты все мои восемнадцать лет. Я бывал почти во всех домах: заходил к своим друзьям-товарищам или мать посылала за чем-либо. Не был я лишь в доме старого Парамона. Он живет в самом конце улицы, у самой речки, вдвоем со своей женой. О ней среди чураевских мальчишек бытует мнение, как о самой настоящей ведьме. Бывало, летом отправишься с друзьями в ночное, разведешь высоченный костер из старых, сухих пней, и тут ребята постарше нарочно заводят страшные разговоры, и обязательно про Парамонову старуху: кто-то своими глазами видел, как она огненным шаром нырнула в чью-то печную трубу; другой тоже самолично видел, как она, обернувшись черной кошкой, бегала по крышам, а потом кто-то не забоялся и отрубил ей лапу. Оттого-то и ходит теперь Парамониха с перевязанной рукой… Чего-чего не наслушаешься в ночном у большого костра! И все же, собравшись ватагой, мы наведывались в огород Парамона за огурцами, подсолнухами: грядки у него спускаются почти к воде, оттого и вызревали здесь самые ранние огурцы, а шляпки подсолнуха вымахивали с добрую сковороду. Однажды, забравшись в дедов огород, я чересчур увлекся, нащупывая среди листьев большие, прохладные огурцы, и не заметил, как ребята вдруг поспешно убежали. Неожиданно из-за сарая выросла чья-то высокая тень. Метнувшись с грядок, я в два прыжка очутился возле изгороди, одним махом перелетел поверх суковатого вершинника и шлепнулся на спину по ту сторону. В следующую секунду в полуметре от меня вонзились в землю вилы-тройчатки, и я услышал тугой, угрожающий звон стали…
Но одну семью с нашей улицы воина все-таки обошла стороной. Возле моста через Чурайку стоит дом-пятистенок, крытый железом. Кажется, ему не страшны ни время, ни непогода, сруб надежно укрыт тесовой обшивкой, прочно стоит на фундаменте из дикого песчаника. К дубовым столбам ворог прибита дощечка с нарисованной остроухой овчаркой, снизу четкими буквами выведено: "Остерегайтесь злой собаки". В этом доме живет Иван Карпович Беляев – председатель чураевского колхоза "Вперед". Не знаю, которым он здесь по счету председателем после войны. Не везет в Чураеве с председателями выберут нового, немного поработает, и оказывается, что он вовсе не такой, как его расхваливали. Отец говорит, что по этой самой причине колхоз наш пятится взад… Иван Карпович председателем с прошлого года, а до этого он работал в райисполкоме. В годы войны ему не пришлось даже подержать в руках винтовку. Теперь Беляев уже в годах, лицо у него оплывшее и всегда иссиня-багровое, кажется, тронь пальцем – струйкой брызнет густая, точно сок переспелой вишни, кровь…
Но мне сейчас не до чужих – своих дел по самые ноздри. Сидеть сложа руки никто не даст, надо где-то устраиваться. Интересно, какую работу хочет мне предложить Захаров? Уже три дня, как я дома, но нигде еще не был, Захарова тоже не видел. Признаться, было стыдно показаться на улице: чудилось заранее, что каждый встречный станет ухмыляться: ого, мол, инженер-то вернулся!.. За спиной чувствую косые взгляды отца. Он пока молчит, не ругается, но я знаю, что он думает: "Чего же ты, так и будешь сидеть, как девка на выданье? На готовом я тебя долго держать не стану!" Будь что будет, схожу к Захарову!
На улице никого. Идет уборка, в такую пору народ весь в поле. Возле дома дяди Олексана ребятишки шумно играют в "ляпу", гоняются друг за дружкой. Завидев меня, они враз притихли, молча уставились глазенками, но едва я успел пройти мимо, они вновь зашумели с прежним азартом. Им-то до меня нет никакого дела!
Из-за угла выскочил озабоченный, потный бригадир Василин. Завидев меня, он остановился удивленный:
– Эге, Алешка, ты разве дома? А болтали, что учиться уехал! Врут?
Я не сразу нашелся, – что ему ответить, но он сам догадался.
– Ага, ясно! Конкурс и все такое прочее? Ничего, ничего, поживи в деревне, это полезно!.. Отец твой дома? Собрание у нас. Ого, Алешка, дела в артели завариваются, во! – Василий подмигнул нахальным глазом и выставил торчком большой палец. Он всего года на три-четыре старше меня, а вот, поди ж ты, каким индюком держится. Правда, он успел побывать в армии, отслужил свой срок и теперь не расстается с зеленой пограничной фуражкой. А вообще говоря, меня это не интересует, пусть хоть генеральскую нацепит! Мне с ним из одной чашки не хлебать.
– Слушай, Алешка, ты приходи на собрание, там дела будут та-а-кие! Беляеву зададим баньку…
– Некогда мне. В райком иду, к Захарову…
– А Захаров там! Валяй в контору. Вот увидишь, зададут Беляеву тинти-финти!
Вот не везет! Придется идти в контору, а там полно людей… Но раз Захаров там, видно, не миновать встреч с односельчанами. А чему радуется этот рыжий бригадир? Говорит, Беляеву баню устроят. Интересно, за какие дела?
Шагая к конторе, я еще издали заметил, что народу там множество, люди теснятся в открытых настежь дверях, толпятся под раскрытыми окнами, вытянув шеи, напряженно слушают. Пришел даже старый Парамон, над толпой маячит его неизменная островерхая шапка. На меня никто не обратил внимания. Подойдя ближе, я заглянул внутрь конторы. Там тоже тесно; сидят мужчины, женщины, некуда иголку бросить; за столом – Захаров, чуть поодаль от него нахохлился Беляев. Лицо у него мрачное, застывшим взглядом уставился куда-то. Выступал дядя Олексан. Говорил он разгоряченно, выставляя перед собой огромные кулачищи.
– …Каждому хочется по-людски жить! А то что получается? Работаешь, трудишься, а на деле ни тпру ни ну! Вон, у соседей на трудодни получают хлебом по два кило да деньгами, и хозяйство колхозное в порядке, а в Чураеве портки латаем да перелатываем! Что мы, хуже людей? Ответь, Иван Карпович, перед народом ответь: до каких пор у нас такой срам будет продолжаться? Почему мы от людей отстаем? Говори, люди ждут!
В конторе стало тихо, было слышно только тяжелое дыхание множества людей. Беляев медленно поднял голову, пряча глаза, зло выдавил:
– Устал я с вами… Устал, понимаете? Снимайте с должности, ставьте другого!
Ух, что там началось! Каждый кричал свое, среди этого шума можно было разобрать лишь отдельные выкрики:
– Не бойся, снимем!
– Просто не уйдешь, судить будем!..
– Товарищи, тише…
– Судить его! Хватит, доменялись!..
Кто-то за столом постучал чугунной пепельницей, стало тише. Тогда попросил слова Захаров. Когда в конторе все шумели и кричали, он сидел с виду спокойный, покусывал углы губ, раза два искоса глянул в сторону Беляева.
– Спокойно, товарищи, – не повышая голоса, заговорил Алексей Кириллович. – Нам без горячки нужно решить важные вопросы… Вот ты, Иван Карпович, признался здесь, что устал работать с народом. А я бы сказал так: люди везде одинаковые, и зря ты унижаешь, – да, да, унижаешь! – народ. Похоже, что плюешь в колодец, из которого сам же и воду пьешь?
– Правильно, товарищ Захаров, чего там! – выкрикнул кто-то около дверей. Захаров поднял правую руку:
– Подождите, минутку терпения. Вот и я говорю, что люди у нас везде одинаковые – что в Чураеве, что в Буранове или Калиновке. Если так рассуждать, выходит, что ты, Иван Карпович, не очень-то любишь свой народ? И в том, что в вашем колхозе дела идут неважно, виноваты не колхозники, а мы, руководители, об этом надо сказать прямо!
Снова взрыв возгласов:
– Верно!
– Правильно, чего там! Беляев одного себя знает… У них в роду все таковские! Знаем, чем жили…
Захаров снова поднял руку.
– Вот, товарищи, теперь вам предстоит выбрать нового председателя. Смотрите, не ошибитесь. Я не могу заранее ничего пообещать, это было бы неправильно. Знаю твердо лишь одно: нам придется работать сообща, советоваться и решать дела вместе… И если вы сегодня изберете меня председателем своего колхоза, могу пообещать только одно: бездельникам, пьяницам и прочим придется туго. Лучше пусть сразу уходят!
Не веря своим ушам, я оглянулся на людей, стоявших вокруг. Они очень внимательно слушали Захарова, и никому не было до меня дела. Что же это такое происходит? Значит, Алексей Кириллович переходит работать в чураевский колхоз, его выбирают вместо Беляева? Как же так? Ведь он обещал устроить меня на хорошее место! Как же быть теперь?..
Собрание шло своим чередом, но я уже не слушал, о чем там говорили. Голосовали за нового председателя, секретарю собрания пришлось даже выйти на крыльцо, чтобы подсчитать все голоса. А потом народ валом повалил из дверей, оживленно переговариваясь. Мужики гудели, точно рассерженные шмели, а женщин было слышно за две улицы… Подождав, пока все разойдутся, я побрел домой, но меня кто-то окликнул:
– Эй, Курбатов!
На крылечке конторы стоит Захаров, в пальцах дымится папироска. Он возбужден, с веселым лицом обращается ко мне:
– Ты чего, тезка, не здороваешься? Ай-яй, и чему только учили вас в школе. Ну, что нового, рассказывай!
– Нового? Ничего… Шел к вам, в райком…
Алексей Кириллович смял папироску, щелчком отбросил в сторону и сразу посерьезнел.
– В райком, говоришь? Да-а, брат, с этого дня я и сам в райком стану приходить как проситель, за советом да за помощью… Видел, что тут было? Беляева народ выгнал, придется оформлять материалы в суд – грехов за ним набралось немало. Ну, этим займется прокуратура… Да-а, вот оно как получилось. Хотя… неожиданного для меня тут не было – сам согласился. Попробуем поработать в колхозе!
"Знал, что будет в колхозе? Почему же он пообещал мне хорошую работу? Начать работать в колхозе я мог бы и без рекомендации секретаря райкома! Выходит, зря понадеялся…"
Захаров внимательно посмотрел на меня, улыбнулся.
– Вижу, тезка, тебя не очень радует, что меня избрали председателем? А почему, если не секрет?
– Вы… сами приглашали меня в райком, насчет работы…
– A-а, точно… Вот что, Курбатов. – Он помолчал, что-то припоминая или решая трудный вопрос. – Сейчас очень нужен… вернее, нужны грамотные люди, вроде тебя. Иди в колхоз, тезка! Мы с тобой…
Заметив, что я собираюсь возразить, Захаров помахал рукой.
– Стоп! Знаю, что хочешь сказать. С аттестатом зрелости не обязательно в поле навоз разбрасывать, так? Газеты читаешь? Должен знать… Жаль, у нас с этим делом пока туго, неохотно идет ваш брат в колхоз. Одного они не поймут: земля требует грамотных, знающих людей. Не просит, а именно требует! Подумай, Курбатов…
Алексей Кириллович говорил долго. Меня он, конечно, не убедил, в колхоз я не пойду: как же потом с институтом? В конце Захаров сказал:
– Ладно, Курбатов, у тебя в голове крепко сидит институт. Не будем тревожить, пусть остается на своем месте. Придет время – ты будешь там. Но чем займешься этот год? Будешь сидеть в сельпо или районном ЦСУ? Место там, пожалуй, можно было бы подыскать… Но поверь: там ты не усидишь, через недельку-другую сбежишь, обязательно сбежишь!.. Давай, начнем работать в колхозе, подыщем тебе работу по душе. Не понравится – пожалуйста, уходи, держать насильно не будем. А, тезка? Попробуй, потрудись недельку, а там будет видно: понравится – оставайся, а нет – иди в сельпо, помогу устроиться. Но для начала помоги мне. Понимаешь, я никогда не работал председателем колхоза, и если не хватит баллов, тогда меня тоже "фью-ить!" – выставят в два счета. Слышишь? Помоги мне, и я тебе подсоблю, как смогу! Вдвоем куда веселей, а, Курбатов?
* * *
Середина августа, а солнце припекает вовсю. Раньше я этого как-то не замечал: пойдешь, бывало, с ребятами на речку и по целым часам не вылезаешь из воды. Вот и сейчас одолевает мучительное желание убежать на Чурайку, скинуть липкую от пота рубашку и броситься с высокого берега в прохладные волны. Порой начинает казаться, что вода уже ласкает разгоряченное тело, я лежу на спине, в бездонном синем небе плавает раскаленная тарелка солнца, слепит глаза. Вода мягко ласкает, гладит, чувствую, как блаженствует каждая клетка моего тела…
– Эй, Алешка! Уснул там?..
Окрик словно возвращает меня к действительности. Размечтавшись о речке, я забыл о своем деле, в копнителе выросла груда обмолоченной соломы. С силой тяну за веревку, платформа копнителя нехотя поворачивается, из нее вываливается гора соломы. На жнивье рядами стоят уже сотни, а может, и тысячи таких груд.
Вторую неделю работаю на комбайновом агрегате. Обязанности несложные: следить, чтобы солома в копнитель ложилась ровно, а когда он наполнится, надо дернуть за веревку, и обмолоченная солома сама вываливается на жнивье. И еще надо смотреть, чтобы груды ложились строго в один ряд, иначе их потом не соберешь. Вот и все. Главное – не зазеваться. Бывает, чуть замешкаешься, опоздаешь дернуть веревку, а с мостика уже кричит комбайнер Мишка Симонов: "Эй, проснись там!.."
Одно плохо: солнце печет, от моторов несет удушливым запахом перегоревшего масла. Ну, с этим еще можно мириться, гораздо хуже другое: вокруг меня, точно густая мошкара, вьется, порхает легкая полова. От нее никуда не спасешься, проклятая полова забивается в рот, нос, колет за воротом, каким-то образом набивается даже под рубаху. Вечером, придя домой, скидываю сапоги – и там эта вездесущая колючая полова! Должно быть, в моих легких уже целый килограмм ее; в горле и в носу першит, то и дело чихаю, а Мишка со своего мостика машет рукой: "Будь здоров!" Ему там наверху хорошо: обдувает ветерком, полова не мешает, а от палящего солнца спасает брезентовый тент, а я с утра и до самого вечера кручусь, точно в кипящем котле, и не видно конца моим мучениям. Эх, хоть бы ветер подул с другой стороны!..
Мишка Симонов опять что-то кричит. Оглядываюсь – оказывается, не мне, – трактористу. Машины остановились, грохот стих, от непривычной тишины тонко запело в ушах. Откуда-то издалека сквозь звон донесся голос комбайнера:
– Такие-сякие, в бабушку их! И где у них глаза, чем смотрят? С головы шапка слетит – не поднимут, лень-матушка одолевает! Через них, чертей, хедер чуть не угробил!
Причиной столь бурного излияния его чувств оказалось следующее: после весеннего сева кто-то бросил борону в поле, она так и осталась беспризорно лежать среди озими. А во ржи ее и подавно никто не приметил. Хедер комбайна наскочил на неё, трех зубьев режущего аппарата как не бывало. Поминая чьих-то родителей, Мишка с инструментами полез под хедер. Орудуя гаечными ключами, он продолжал нещадно ругаться: "За этот простой небось никто мне ни шиша не заплатит!.."
Я обрадовался случаю подышать чистым воздухом, соскочил на землю и бросился к заправочной двуколке. Сунув руку в солому, нащупал прохладный бок бидона, долго, с наслаждением тянул тепловатую влагу. Не утерпев, зачерпнул горстью и плеснул себе в лицо. Эх, будь я сейчас на Чурайке, честное слово, целый день не вылезал бы из воды!..
К бидону подошел невысокий, крепко сбитый парень – это наш тракторист Генка Киселев, он водит Мишкин комбайн на прицепе. Генка – человек веселый, всегда чему-то улыбается, Мишка как-то в сердцах сказал ому: "Ты, Генка, будто малохольный! Мать похоронишь, и то зубы будешь скалить!" А тракторист пуще того смеется: "Не беспокойся, на твоих поминках слез не пожалею!"
Генка приложился к горловине бидона, долго пил гулкими глотками, напившись, смахнул рукавом капельки с подбородка.
– Что они, соли сюда насыпали? Во, заботу о механизаторах проявляют: не могут ключевой воды привезти! Из Чурайки зачерпнули, ей-богу! С головастиками… Эй, мать-телега, отец-колесо!.. А ты чего приуныл, Лешка? Жарко, голова болит…. Искупаться бы сейчас.
Генка присвистнул, сочувственно вздохнул.
– И голова же у тебя, Лешка! Не голова, а целый сельсовет! Кошка спит, а во сне молоко видит… Да я сам об этом деле, может, со вчерашнего дня мечтаю, чуешь? То-то! И не думай насчет купанья, этот крокодил Симонов все равно не пустит. Он нынче точно волк, который гонится за лосем: не остановится, пока не задерет или сам не издохнет. Ему сейчас трудодни подавай, а до остального наплевать, хоть трава не расти, понял? У-у, жадюга он! – Генка весело рассмеялся, будто радуясь, что комбайнер такой "жадюга", – жадничает, шире штанов хочет шагнуть. Тип, каких поискать!..
Генка одних со мной лет, но работает уже третий год, в шутку величает себя "почетным механизатором". У него от людей нет никаких секретов. Весь он на виду, каждая его мысль, как на фотопленке, проявляется на широком, улыбчивом лице. Симонова он не любит, ругает "скупердяем", отплевывается: "И скажи, пожалуйста, откуда такие берутся? Их не сеют и не садят, видно, сами родятся!.."
– А разве тебе трудодни не нужны, Генка? – интересуюсь я. Выражение его лица на минутку становится серьезным, он внимательно глядит на меня быстрыми черными глазами.
– Мне? Ого, мне они тоже нужны, Лешка, да еще как! Но для меня трудодень… как это выразился недавно один лектор, – не самоцель. Во, здорово сказано! Трудодень – не самоцель, и точка! Я, Лешка, все равно буду учиться. Не нынче, так через год, а все равно буду. Возможностей в свое время не оказалось: отец помер, две сеструхи да мать на моих плечах остались. Теперь подросли, проживут, а я буду учиться… Эх, и до чего же я тебе завидую: у тебя аттестат и все такое! Как говорят, билет в кармане – поезд не уйдет. Весь вопрос в том, на какой поезд сесть…
От комбайна нам кричит Мишка Симонов, машет рукой: видимо, направил хедер.
– Пошли, – нехотя поднялся Генка. – Крокодил машину свою наладил…
И снова грохочет, сотрясаясь всем корпусом, комбайн, нестерпимо палит солнце, проклятая полова не дает вздохнуть, колет потное тело. Стиснув зубы, открываю платформу копнителя. Стога соломы на скошенном поле растут, множатся…
Узнать бы, где сейчас Юрка Черняев, Семен Малков, Рая. Даже письма не напишут. Они, наверно, думают, что я в институте. А мой институт – вот он: болят плечи, спина, в легких, должно быть, все забито пылью, половой…
Рая… Я силюсь представить себе ее лицо, но это мне почему-то никак не удается. Вижу ее волосы – а глаза и остальное будто туманом окутаны; представляю глаза ее, а лицо расплывается… Словно прячется она от меня, убегает. До сих пор чувствую на своей щеке ее поцелуй. Первый. Интересно, могла бы она поцеловать меня вот такого, грязного, запыленного? Наверно, засмеялась бы, и только. Знаю, она очень любит красивые платья. Мать ее работает в колхозе, но Рая в школу приходила всегда чисто и нарядно одетая. Мать старалась, чтобы ее дочь была первой среди нас, хотя бы по одежде. Однажды, это было за год до окончания школы, старшеклассников собрали на прополку колхозной кукурузы. Откуда ни возьмись, в поле прибежала Райна мать. Ого, как шумела тогда тетя Фекла, как она набросилась на Марию Петровну, нашу классную руководительницу. Стыда, говорит, у вас нет, заставляете работать детей ("дети" к тому времени умели вполне прилично управляться с пятидесятикилограммовой штангой!..) Я, говорит, не для того учу свою дочку, чтобы она в грязи копалась, хватит того, что сама всю жизнь прокопалась в навозе, ваше дело – наших деток образованными сделать! Иначе, говорит, для чего мы вам деньги выплачиваем, кормим, поим, одеваем?.. Такое наговорила! Ну, просто слова не дала сказать Марии Петровне. Юрка тогда сострил: "Скорострельность – триста шестьдесят слов в минуту!" Кончив кричать, тетя Фекла схватила Раю за руку и увела с кукурузного поля домой. Мне тогда стало очень неловко за Раю, а самой ей, видимо, ничего… Но в классе у нас не было девчонки веселее, ей в голову приходили тысячи способов нашалить. Она раньше других научилась кокетничать: в разговоре с ребятами голос ее странным образом менялся, и глаза менялись. Было досадно, потому что никакого кокетства от Раи не требовалось: она и без того была красива, удивительно красива…
"Где ты сейчас, Раечка? Почему не пишешь?"
С мостика слышен пронзительный свист, оказывается, в копнителе полно соломы. Рывком тяну веревку…
Черт его знает, зачем я согласился идти на такую работу! А не лучше ли было бы в сельпо каким-нибудь кладовщиком? По крайней мере, там нет этой пыли, сиди себе в прохладе. Покажется жарко – пожалуйста, речка под носом, купайся, сколько влезет. Перед тем как идти работать на комбайне, Алексей Кириллович меня предупредил, что если не понравится, могу в любое время уйти, держать не станут. Попробуй-ка теперь, уйди! Все будут указывать пальцем, скажут: Курбатов попробовал горяченького – сразу убежал в кусты. Не поинтересуются даже, как и почему, а просто – сбежал и все!.. Или проклятая полова одолеет меня, или я выстою! Хорошо, что уборка идет к концу. Я сейчас целиком и полностью на стороне Мишки: давай, жми, крокодил, нажимай, чем скорее кончим, тем лучше! Наплевать, ради чего ты стараешься, загребай хоть миллион трудодней. Лишь бы машины не стояли, а я выдержу!
Под вечер к нам верхом прискакал Захаров. Председателем он без малого месяц, а уже заметно похудел, скулы выставились. Я понимаю – трудно ему. Пожалуй, труднее, чем мне. Мишка Симонов вчера за глаза посмеялся над председателем: "Бабам, которые на льне работают, премиальную надбавку велел выплачивать: за каждый снопик сверх нормы – две копейки… Ха, чудак, в колхозной кассе мыши гнездо свили, а он деньгами разбрасывается. Миллионер нашелся! Нет, чтобы механизаторам побольше… Э, да чего там, не от хорошей жизни уточка задом наперед плавает…"
Оставив лошадь возле заправочной, Алексей Кириллович направился к нам, полез на мостик, стал что-то пояснять Мишке, обводя рукой вокруг. Не понять, о чем они там. Мишка крутит головой, а по лицу председателя заметно, что сердится. Видимо, недоволен нашей работой. Потом Алексей Кириллович перелез через бункер, спустился ко мне, прокричал в самое ухо:
– Ну как, тезка, дела?
Я в ответ мотнул головой: "Неважные, сами видите, что тут творится!"
– Возьми на складе шоферские очки, глазам будет легче. Ничего, бодрись, не сдавайся! Для тебя это самый трудный экзамен! Понял?
К чему он говорит это? Я не маленький, уговаривать не надо. Раз не сумел попасть в институт, как другие, вот и оказался у разбитого корыта… Сам виноват. Ладно, выдержу, будет же этому конец! Председатель снова наклонился ко мне:
– С этим Симоновым глаз держи востро, слышишь? Обнаглел человек! Видишь, какие клинья оставляет на концах? Он, сукин сын, за рекордами будет гнаться, а колхозники – за ним недожинки убирать!.. Ты сюда от колхоза поставлен, будь хозяином… Иначе работу вашу не примем!
Захаров на ходу соскочил с комбайна, еще прокричал что-то, делая знаки руками: мол, держись! Ничего, я буду держаться до конца, не беспокойся за меня, тезка! Не вечно мне торчать возле копнителя, не всю жизнь воевать с осточертевшей половой…
Работать до самого вечера не пришлось. С утра загон казался громадным, глазом не окинешь. Но с каждым кругом он становился меньше и меньше, комбайн неумолимо стриг и стриг золотисто-желтую прическу поля, наконец, остался лишь небольшой, кругов на десять, "хохолок". Удивились мы все трое несказанно, когда посреди "хохолка" обнаружилась солидная плешина, гектаров на пять. Ни единого колоска, лишь кустики пыльно-серой полыни да скудное разнотравье покачивается на ветру.
Моторы замолчали. Снова в ушах тоненько зазвенело. Генка Киселев выбрался из кабины трактора, постоял на гусенице, оглядывая пустошь, затем спрыгнул.
– Вот те на! Посреди поля – алтайская целина! Прямо хоть аэродром устраивай, елки-моталки!..
Мишка что-то долго не слезает с мостика. Перебирает железки, ключами позвякивает, отряхивается от пыли. Потом не спеша спустился, подошел к нам, держа руки за спиной. Стреляя глазами, заговорил:
– Вот что… Почему площадь оставили незасеянной – нас это дело не касается. Был бы тут посев, мы бы его убрали, верно? Значит, гектары эти мы можем… законно себе засчитать! Вам тоже лишние гектарчика не помешают. Согласны?
Блудливо отводя глаза, Мишка хихикнул. Я не знаю, как быть, жду, что ответит тракторист, он тут поглавнее меня. А Генка скорчил рожу и расхохотался:
– Ха-ха, Мишка, долго же ты думал! Ну, шилом масла хватанул!
Мишка зло глянул на Генку, выдавил сквозь зубы:
– Да заткнись ты, клоун!
Генка перестал смеяться, вздохнул и очень серьезно ответил:
– А ведь и всамделе недурно: раз плюнул – и пять гектаров твои. Хоп – и там! Здорово!.. Только не нужны мне эти гектары, Мишка. На черта они сдались? Жадничаешь ты, вот что! Не по зубам куски выбираешь! Что у тебя, брюхо толще, чем у других?
Мишка что-то промычал и, неожиданно боднув головой, кинулся на Киселева, вцепился ему в грудь. Скаля зубы, он размахнулся, чтобы ударить, но тут Генка рванулся что было сил, вырвался. Рубашка его разорвалась от ворота до самого низа, в руке у комбайнера остался серый лоскут. Генка побледнел, крикнул, задыхаясь:
– Ах ты, гад!.. Алешка, чего смотришь!
Я кинулся к Мишке, ухватил его за руку. Он вывернулся, лязгнул зубами.
– Не ввязывайся, дурак! А ну, хромай отсюда, недоделанный инженер!
Матерно ругаясь, Мишка размахнулся, локтем ударил меня по зубам. Во рту сразу стало солоновато, я выплюнул на жнивье сгусток крови со слюной. Генка бегом кинулся к трактору, выхватил из-под сиденья длинный торцовый ключ, с перекосившимся лицом бросился к Мишке:
– Убью!.. Уходи по-хорошему, слышь! Уйди, гад, плохо будет!
Комбайнер побелел, попятился от Генки.
– Ты… Не дури, Киселев! Я ведь так, пошутил, думаю, что скажете. Брось железку, Генка!..
Генка отшвырнул ключ в кабину, не глядя на комбайнера, прошел мимо, кивнул мне:
– Пошли, Алешка!
Мы зашагали домой, по дороге Генка долго ругался.
– Сволочь, рубаху разодрал… Ладно, я ему этот случай припомню! Ух, жадюга!.. Кусок изо рта торчит, а ему бы все хапать да хапать… А ты молодец, Лешка! Меня одного он мог изувечить. Сильный, как бык, ишь рожу наел!..








