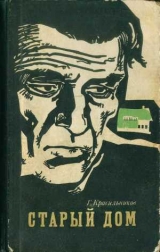
Текст книги "Старый дом (сборник)"
Автор книги: Геннадий Красильников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
– Кто? – не поняв, спросил я.
– Да об Алексее Кирилловиче речь веду, балда! – вспыхнул Генка. – Я уж потом разузнал о нем. Сам он, конечно, не помнит об этом, а мне на всю жизнь добрая зарубка. Надо бы в гости его позвать, мать часто поминает, да кто его знает, придет, не придет… У него без вас забот сколько…
Генка вздохнул и неожиданно потряс кулаком:
– А этому гаду Мишке я все равно под носом целину забуровлю! Жулье несчастное, рвач! Он тебя спящего догола разденет, и хоть бы что. И нашел ты, Лешка, с кем компанию делить!
– Да я думал…
– Брось! Индюк думал, так знаешь, куда угодил? – резко оборвал меня Киселев и спрыгнул с верстака, собираясь уходить. Потом, вспомнив о чем-то, обернулся и как-то нерешительно спросил:
– Алешка, слушай… У тебя остались от школы учебники?
– Где-то на чердаке валяются. А чего? Тебе заместо ветоши, руки обтирать? Это можно, мне они теперь ни к чему…
– Не-е-т… Знаешь, я надумал в вечернюю школу поступить. В восьмой класс… – сказал он и почему-то вздохнул. – Ты бы дал мне книжки, а?
– Что за вопрос! Подожди, я мигом…
Взобравшись на чердак, я долго рылся среди пожелтевших от дождя, пропыленных, потрепанных книг, тетрадей. Их тут было много, целый порох забытых, заброшенных друзей школьных лет. Когда-то я сидел над ними, до одури решал уравнения, выводил формулы, писал сочинения. Ох уж, эти сочинения… И каких только не было тем: "Образ советской молодежи по роману "Молодая гвардия", "Образ Павла Корчагина", "За что я люблю свою Родину". Сочинения у меня получались неплохие! Интересно, а теперь написал бы? А почему и нет? Побольше эпитетов вроде "красивый", "славный", "необъятный", "дорогая"… И конечно же, учительница по литературе, наша добрая Мария Петровна, поставит за такое сочинение не ниже "тройки"…
Выбрав несколько учебников, я спустился с чердака.
– Нашел? – обрадовался Генка. Нетерпеливо взяв книги, стал листать их, покачал головой. – Эх, Алешка, да разве место им на чердаке? Ну, ладно, спасибо, выручил. По крайней мере, в "Когиз" не бегать. Будь здоров!
– Там у меня тетради со старыми сочинениями лежат, может, пригодятся?
Генка постоял минуту-другую, потом тряхнул головой и весело ответил:
– Ну, нет, спасибо. Сочинения надо писать самому. С этим делом я управлюсь!
* * *
Нелегко приходится в эти дни Захарову: бывший председатель оставил ему незавидное «наследство». По документации значится одно, a на деле другое. «Очковтиратель, чтоб ему! – вполголоса ругается Алексеи Кириллович. – Куда смотрело правление? Рассиживали тут, словно к теще на пироги являлись. Тоже, хозяева называются!..»
В один из вечеров я задержался в конторе: за окнами льет холодный, уже осенний дождь, дороги развезло, не хотелось в такую погоду уходить из светлой, теплой комнаты. Нарочно не спеша рылся в газетных подшивках, чтобы как-то оттянуть время. А тут еще учетчица Тоня пристала с расспросами: зачем да почему не ходишь на вечеринки, да как это можно дома сидеть, и неужели никто из наших девчат не нравится… Я терялся при ней и злился: какое ей дело до меня? Что я, маленький?
В контору по одному, по два стали собираться люди: оказывается, назначено заседание правления. Я хотел уйти, по Алексей Кириллович остановил меня:
– Сиди, сиди, Курбатов, не помешаешь. Послушай, о чем люди будут толковать.
Члены правления – человек десять – расселись по привычным местам, сдержанно покашливали в кулаки. Мне они все знакомые, но почему среди них оказалась Анна Балашова? Она сейчас работает дояркой на ферме, никто ее в правление не выбирал. Сидит близко к двери, наматывает на пальцы кончик платка и снова разматывает. Сразу видно – волнуется. Не иначе, вызвали ее на заседание, чтобы хорошенько "пропесочить". Мне даже стало жаль ее.
Незаметно присматриваюсь к членам правления. Как раз напротив меня сидит хромой дядя Олексан, негнущимися пальцами старается свернуть цигарку. Рядом с ним бригадир механизаторов Никита Лукашов – неразговорчивый, хмурый с виду человек. Возле печки, скрестив руки на груди, сердито посматривает на мужчин Фекла Березина. Вот она притворно закашлялась, замахала руками:
– Бросьте вы курить, дьяволы! Махоркой почем зря кадят, а тут женщины. Уж курили бы папиросы, все-таки дым от них не такой зловредный. Тьфу, и кто только выдумал этот табак!
Дядя Олексан выдохнул сизое облако дыма, исподлобья глянул на Березину.
– На папиросы покуда средств не хватает. По нас и "Прибой" – дорогой, а на "Ракету" – денег нету… Ясно?
– Да уж как не ясно! Как божий день! – ядовито ухмыльнулась Березина. – Али в колхозе даже на папиросы не зарабатываете?
Дядя Олексан собирался что-то ей ответить, но в этот момент Алексей Кириллович оторвался от бумаг, глядя в упор на Березину, жестко проговорил:
– Не то говоришь, Березина! Не пристало тебе, члену правления, в адрес своего колхоза смешками разбрасываться. Дело это – самое легкое, но бесполезное. Выходит, колхоз тебе чужой, а ты – сама по себе?
Тетю Феклу будто кто укусил сзади, она задергалась, заговорила певуче:
– Господи-и, Алексей Кириллович, да разве я о том хотела! Колхоз мне всё едино как родной…
– А раз так, не нужно зря болтать!.. Ну, товарищи, начнем, время позднее. Давай, Анна.
Все, кто был в конторе, оглянулись в сторону Балашовой, она сразу застеснялась, несмело поднялась, чувствуя на себе взгляды, неровными шагами подошла к столу. С минуту постояла, опустив глаза, нервно перебирая пальцами кончик платка. Алексей Кириллович, ласково кивнув, сказал:
– А ты не стесняйся, Аннушка, здесь все свои. Расскажи об всем как есть, за правду у нас по глазам не бьют. Давай, разберемся, почему на ферме надои низкие.
Балашова подняла голову, вздохнула.
– А я и хочу с плохого начать, Алексей Кириллович. По глазам будут бить или как, только терпеть такое дальше невмоготу. Все видят, а не каждый замечает, как у нас на ферме дела обстоят!
Голос ее зазвенел, члены правления невольно встряхнулись, подобрались.
– Кто виноват, где искать виновного? Вы только посмотрите: наши соседи каждое утро отправляют на маслозавод по две, а то и по три машины молока, а у нас – тьфу! – даже сказать стыдно: одна тележка ползет, и та неполная! Хоть бы пришел кто из вас на ферму да поглядел, какие у нас коровушки: срамота одна, сами скелетины, а вымя – с кулачок! Руки мы все поотбили с ними… У доброго хозяина коза – и та больше надаивает! Заведующему сколько говорили – молчит и только, ему говорить – что лесному пню молиться. Чем такого держать, уж лучше вовсе никого не надо, сами управимся, без начальника. Одно название "заведующий", зря только трудодни на него тратят!
Передохнув, Анна поправила выбившиеся из-под платка волосы и продолжала звенящим от обиды и волнения голосом:
– Вы только и знаете одно: "молоко да молоко", а никто по-настоящему не возьмется. На ферму не зайти – увязнешь в грязи, не то что коровушкам, а и людям впору "караул" кричать. Перегородки все отвалились, кормушки расползлись, корма даем, а через минуту глянь – пополам с навозом… Да откуда быть молоку при таком содержании! Бригадиру сколько говорили, а с него как с гуся вода, мимо ушей пропускает, в год раз явится на ферму, повернется туда-сюда, а к коровам не идет – сапожки свои остерегается измазать. Чем так, лучше вовсе не ходи!
Бригадир Василий сидит возле председательского стола, нервно похлестывает по голенищу сапога ремешком своей сумки. Пока Анна не касалась его, он насмешливо кривил губы, будто хотел сказать: "Ишь, смелая нашлась! Ну, говори, говори, что там у тебя…" Но стоило Анне упомянуть его имя, как Василий быстро выпрямился, блеснул на Балашову глазами.
– Алексей Кириллович, разрешите! Это явная…
Анна не дала ему досказать, зло бросила из-за плеча:
– Сиди, коли место нашлось!
Бригадир осекся, заерзал на стуле. Председатель с усмешкой покосился на него: ага, досталось? Ну-ну, поделом!
Чувствовалось, не в один день накопилась в душе Айны эта горечь, переполнила чашу ее терпения. Со слезами в голосе бросала она упреки в адрес членов правления, заведующего фермой, бригадира.
– Не отремонтируете коровник – так и знайте, напишем в газету! Не проклятые мы, чтобы день и ночь грязь месить! Сидите тут, потолок дымом подпираете да штаны протираете, а что вокруг делается – того не видите. Коли выбрали вас в правление, так и будьте с людьми, а не хотите – и не нужны вы вовсе нам!
Рывком поправив волосы, Анна размашистыми шагами направилась на свое место. Оглядываюсь на людей: все сидят смущенные, глаза друг от друга прячут. Допекла их Балашова, не в бровь, а прямо в глаз попала! Оказывается, не для разноса вызвали ее на заседание, сама она приперла правленцев к стенке. Молодец, Анна! Вот уж не подумал бы никогда, что тихая на вид девчонка может вогнать в пот кряжистых мужиков. В душе я был целиком на стороне Анны, и полагайся на заседании правления провожать оратора аплодисментами, честное слово, не пожалел бы ладоней!..
Бригадир, как видно, не мог уняться. Едва Анна уселась на место, как он вскочил и замахал руками:
– Алексей Кириллович, одно слово… Зря и совершенно ни к чему Балашова пытается среди ясного дня бросить тень на плетень. К тому же припутывает совершенно некасаемых к этому делу людей! Если каждому давать полную свободу критики, то что из этого получится? Ералаш!..
Захаров всем корпусом грузно повернулся к бригадиру, глаза его недобро сузились. Ударив ладонью по столу, он оборвал его на полуслове:
– Хватит!.. Балашова говорила правильно, и нечего нам обелять самих себя. Не в грудь себя надо бить, а подумать, как положение исправить. Или правда режет глаза, бригадир? Слушай, дубрава, о чем лес шумит!
Вася стушевался, недовольный сел на место. "Постарается кошка отлить свои слезы мышке! – подумал я. – Теперь жди: станет Анне на пятки наступать – память у него зловредная… Только Анна тоже, оказывается, не из смирненьких, за себя постоит!"
Многое из услышанного на этом заседании было для меня совершенно внове, и я нисколько не жалел, что остался. Показалось, будто на ступеньку выше поднялся, и отсюда дела колхозные обозревались намного шире.
Кончили за полночь. Единогласно приняли решение: ферму отремонтировать, не откладывая в долгий ящик; ответственным по ремонту назначили хромого Олексана Буранова. Под его началом будет работать строительная бригада. Дядя Олексан в ответ сказал лишь коротко: "Ладно, сделаем".
На крыльце конторы меня догнал бригадир.
– Курбатов, завтра ты приходи на ферму.
– Это еще зачем? Доить коров я непривычен!
– Не дури, Курбатов! Слыхал о ремонте?
– Так я же… сам знаешь, не плотник.
– Ладно, коль сказано – значит, завязано! Не забудь топорик с собой захватить.
Вот черт, не было печали! С топором я одно только и умею, что сучки обрубать да дрова колоть, а чтобы по-настоящему плотничать – в жизни не приходилось. Дернуло же меня остаться на заседании! А то бы и на глаза бригадиру не попался…
* * *
Наутро я проснулся от неясного шороха и чуть слышного звона. Спросонок долго гадал: что бы это могло значить? Взглянул на окна – а на улице идет дождь, некрупный, холодный осенний дождь. Капельки ударяются в стекла и оттого еле слышно звенят. Теперь зарядило надолго: в тучах не видно ни малейшего просвета, небо сплошь затянуло серой, похожей на грязную вату пеленой. До чего ж не хочется вылезать из-под нагретого за ночь одеяла, с каким бы удовольствием лежал еще часик-другой! Но все-таки придется вставать, иначе вот-вот подойдет к постели мать, осторожно погладит по плечу, негромко позовет: «Олешка, поднимайся, сынок, на улице светло…»
Рывком отбрасываю одеяло и становлюсь на холодный пол. Это сразу встряхивает, а холодная вода из умывальника начисто смывает остатки сна.
Ох, как невзлюбил я с детства утреннее умывание, особенно зимой! Бывало, проберешься за печку и долго стоишь перед носатым умывальником, не решаясь плеснуть из него ледяную влагу. Минуту, другую, третью стою перед злым мучителем, поеживаясь от холода, пока мать не прикрикнет: "Олешка, бесстыжий, чего стоишь? Мотри, в школу запоздаешь, не пустят на уроки…" Тогда поневоле приходится подставлять горсточку под утиный носик умывальника, для виду провожу мокрыми ладонями по лицу. Однажды отец, заметив мое "умывание", пригрозил: "Ты у меня добалуешься… до ремня!" Угроза эта подействовала: отцовского солдатского ремня с медной пряжкой я побаивался, потому что несколько раз имел возможность близко знакомиться с ним…
Дождь за окном не перестает. Ну, авось к обеду утихнет: говорят, утренний гость не до ночи.
За завтраком в голове неотвязно вертелось одно: "Даст отец свой топор или не даст?" В хозяйстве у нас два топора, один – просто-напросто неуклюжий колун, годный лишь для "черной" работы. Зато другой – настоящий плотничий топор с гладким кленовым топорищем. Отец держит его в чулане и никому не позволяет трогать: мол, мало ли что, зазубрите об гвоздь или еще как попортите". С какой же стати сегодня он должен раздобриться? Нет, не даст. С колуном на строительство не пойдешь – люди засмеют… Черт, и как это угораздило меня попасться на глаза рыжему бригадиру!
Поверх чайного блюдечка незаметно поглядываю на отца. Он сидит напротив, на "хозяйском" стуле, и молча, не поднимая глаз, хлебает подогретый суп. Мать бесшумно хлопочет около печи.
– Отец, мне сегодня с топором на работу…
Будто не расслышав, он продолжает есть. Затем неторопливо вытер губы тыльной стороной ладони, искоса глянул на меня.
– Куда тебе с топором?
– Вчера на правлении решили ферму ремонтировать. И меня туда назначил бригадир. – Для вескости добавил – дядя Олексан будет за старшего…
Отец промолчал. Я приуныл: ну, конечно, не даст. Даже мужикам никому не доверяет свой инструмент, а обо мне и думать нечего. Знает, что в жизни я не вытесал даже мало-мальского клина, какой уж из меня плотник! Вот подгадил мне этот рыжий! Ладно, черт с ним, пойду и напрямик доложу, что на ферме работать не буду, пусть назначит на любую другую работу.
Одевшись, я собрался уходить. Отец, не оборачиваясь, бросил через плечо:
– Возьми мой, в чулане лежит, в ящике. Гляди, Олешка, ногу не изувечь – отточен недавно!
После дурацкой истории с Мишкой Симоновым отец впервые назвал меня по имени. Больше недели он недовольно молчал, почти не разговаривал. Видимо, в душе простил меня, а сказать об этом открыто – пока еще не мог.
Захватив отцовский топор, я бегом направился к ферме. Там на бревнах уже курили дядя Олексан и Боталов – на удивление длинный и нескладный мужик, по прозвищу Часовой. Своей худобой и ростом Боталов очень смахивает на Дон-Кихота, только борода у него круглая и черная.
На свое прозвище он ничуть не обижается, по-моему, даже доволен. Мальчишки, завидев на улице его несуразную фигуру, поднимают истошный крик: "Ребята, Часовой, Часово-о-й!", а он и внимания не обращает, идет себе, посмеиваясь в бородку. Никто не знает, когда и откуда пошло это его прозвище, а настоящее его имя, отчество Иван Евсеевич.
И жизнь у него сложилась под стать самому – нескладная и шутовская. Часовой любит при случае рассказывать людям о себе. Мобилизовали его чуть ли не на второй день войны; эшелон, в котором он ехал со своей частью, еще по пути на фронт попал под бомбежку, одна из бомб разорвалась близко, Часового отбросило взрывной волной, оглушило, порядком контузило. По его словам, дело обстояло так: "Показалось мне, будто небо пополам пошло, и святым божьим огнем на меня полыхнуло. Поверху гром стоит, а снизу того пуще, прости господи! Должно быть, за версту от эшелона выкинуло меня, а то и больше. Лежу таким манером, отца с матерью поминаю, господа на помощь призываю, а тем временем самого себя руками щупаю. Ну, думаю, слава тебе, господи, все при мне, и руки целы, и ноги вроде то же самое. А подняться никак невозможно, в голове гудит, словно бы с похмелья после святой пасхи… Контузило, значит, порядком, с той поры всякие головные боли меня мучают, не жизнь – одна маята. Во-от, повоевал на своем веку, не приведи господь видеть этакое столпотворение другой раз. Истинный бог, страстей каких испытал на войне…"
Так и не доехав до фронта, Боталов "по чистой" вернулся домой, ходил на костылях. А вскоре, рассказывают, он отпустил бороду, стал вести разговоры о боге, ударился в религию. В те годы в Чураеве оставались одни старики да женщины, нашлись среди них такие, что верили Часовому, стали они вечерами собираться в его избенке. Спустя немного времени Часовой женился на вдове-солдатке, пошли у них дети. Люди стали открыто смеяться над ним:
– А как же насчет конца света, Часовой? О конце света говоришь, а детей плодишь! Вот уж правда: кто много врет, тот много и божится!
После войны Часовой костыли свои забросил, но бороду не сбрил. Жена его, не разродившись не то пятым, не то шестым ребенком, умерла в больнице, отчего Часовой стал пуще прежнего "веровать" в бога. Работал он в колхозе ни шатко ни валко, был своего рода "универсалом": сегодня подвозит к тракторам воду, на другой день с женщинами окучивает капусту, а на третий, глядишь, длинная фигура Часового уныло маячит на вышке пожарного сарая…
Вот такой человек и оказался третьим членом нашей небольшой плотницкой артели. Пока я смутно представлял, что может сделать наша артель: хромой Олексан Буранов, "святой" человек Часовой и я…
Воткнув топор в обрубок дерева, я присел чуть в сторонке. Дядя Олексан сплюнул под ноги.
– Тоже небось скажешь, что сюда снарядили?
– Сюда, – покорно мотнул я головой в ответ.
Невозмутимого дядю Олексана взорвало:
– Спустить бы с того Васьки штаны да лупануть хорошенько крапивой! Что он, в самом деле, смеется, что ли? Не мог подобрать стоящих людей!.. Эх, горе девичье, а не бригадир. Вот, Олешка, скажи мне: управлялся ты когда-либо плотницким инструментом, хотя бы тем же топором?
– Не приходилось, дядя Олексан… Да я и не хотел сюда, бригадир вот…
– Ладно, уж и то хорошо, что по-честному признался. А то вот Иван из себя мастера корчит: и не плотник, да стучать охотник!
Часовой хмыкнул, но промолчал.
Старательно затоптав окурок, дядя Олексан поднялся. Оказывается, он до нас уже успел подвезти от пилорамы свежераспиленного теса. Вдвоем с Часовым они принялись распиливать заготовки для кормушек, а меня послали в коровник – разбирать старые, пришедшие в негодность кормушки. До обеда я провозился там: железным ломом выворачивал затоптанные в грязь полусгнившие доски, выдергивал тисками здоровенные ржавые гвозди… Работа не из приятных: густой застоялый навозный дух шибает в нос, першит в горле, до слез щиплет глаза. Стиснув зубы, нажимаю на рычаг "выдерги" – железные челюсти длинных тисков бульдожьей хваткой вцепляются в шляпу гвоздя. Еще, еще сильней… трах! – полусгнивший гвоздь отлетает в сторону. Откуда-то из глубины памяти всплывает "закон рычага", в голове заученно вертится: "Выигрывая в силе, проигрываешь в расстоянии, и наоборот…" Хотел бы знать, в чем выигрываю я, воюя со старыми гвоздями, задыхаясь от вони и пыли?
Слышно, как за стенкой дядя Олексан с Часовым тюкают топорами, звенят пилой. Им-то хорошо, по крайней мере можно вдохнуть полной грудью чистого воздуха. Правда, по сравнению с ними у меня есть одно преимущество: в коровнике нет пронизывающего до костей ветра…
Часа через два они зашли в коровник, чтобы покурить в тепле. Придерживая цигарку в горсти, дядя Олек-сан строгим взглядом окинул мою работу, покачал головой:
– Хм, насквозь прогнило… Придется все заново делать. Понятно: сырость, навоз. Работы нам здесь хватит, парень!
Дядя Олексан обращается ко мне, и от этого на душе становится как-то приятнее: признает за равного. Он сказал "нам", значит, не думает гнать из своей артели. И тон у него теперь добродушный, не то что утром.
Часовой в ответ ему хихикнул и отозвался тонким голоском:
– Ох-хо-хо, работки хватит, это верно! Нанюхаемся, видит бог.
Буранов рассудительно сказал ему:
– А кто же станет за нас делать? Раз взялись, значит, нам и кончать. До заморозков надо справиться, иначе куда пастухи скотину загонят? Ничего, лиха беда начало!
Часовой подергал бороду, вздохнул.
– Это верно, кончать придется. Бог даст, и закончим. Было б здоровьишко…
Дядя Олексан промолчал, ему, видимо, не по душе слова Боталова, он хмурится. Дядя Олексан нравится мне своей силой в решимостью. Он всегда спокоен, держится с достоинством, и весь его вид словно говорит: "Я-то знаю, чего хочу. А вот сам-то ты как?" Не раз я уже ловил себя на мысли, что мне тоже хочется быть похожим на него – сильным, уверенным, умным. Вот Часовой на голову выше его, а рядом с дядей Олексаном кажется ниже ростом. Бубнит под нос о чем-то возле Буранова, точно слепень в жаркую погоду вокруг коня…
Три дня провозился я в коровнике, ломая старые, полуразвалившиеся перегородки, непрестанно чихая от едкой пыли (перегородки были покрашены известью, смешанной с хлоркой), выдирал из стен гвозди, выворачивал изгрызанные крысами половицы. Запах навоза и хлорки въелся в одежду, и когда вечером, разбитый усталостью, я возвращался домой, мать виновато говорила: "Олеша, сынок, ты бы скинул с себя верхнее в сенцах. Дух какой-то тяжелый…" По утрам я выхожу из ворот с отцовским топором, иду по улице, точно заправский плотник, хоть и не сделал пока ни одного затеса…
На четвертый день я справился с заданием. Дядя Олексан посмотрел на мои ноги и усмехнулся:
– Закончил? Ладно, так тому и быть… А сейчас валяй к речке, приведи в порядок свои сапожки. Чтоб чистые были! Дерево тоже чистоту уважает, это запомни… После обеда начни доски строгать.
Легко сказать: начни!
С грехом пополам выстрогал первую доску. Дядя Олексан повертел ее в руках, рассматривал, щуря один глаз, затем в сердцах швырнул в сторону.
– Дрянь работа! – сказал он, нахмурясь. – Эх, Олешка, из школы-то тебя безрукого выпустили! Десять лет человека учили, а не научили, что всякое дерево надо по слою строгать. Это все равно, что кошку по шерсти гладить. Попробуй-ка против шерсти – цапнет она тебя коготками! Так же и дерево… Запомни, Олешка: всякий предмет свой секрет имеет, взять хотя бы ту же досочку. Возьмешься за нее не с того конца – она тебе не поддастся: треснет. А разгадаешь секрет – сама в руки пойдет… Ты погляди на свою работу: досочка твоя в занозах да заусеницах, точно ежик какой. Из такой кормушки корова пить-есть не станет, хоть ты под хвост ей кланяйся!
Часовой со стороны прислушался к разговору, бочком подошел ближе, хохотнул по привычке:
– Ха-ха, насчет хвоста ты верно сказал, Олексан Иванович!.. Было со мной такое: родители взяли с собой на покос, дали литовочку – коси! У людей сзади ровненько остается, а у меня – с загривочком. Родитель и заметь это, прости господи! С тебя, говорит, штаны за такое дело полагается спустить да голым задом посадить! Было такое, было.
Дядя Олексан недовольно оборвал его.
– Язык у тебя, Иван, без узды! Парня надо к делу приучать, а ты со сказочками. Небось мальцом тебя ложку держать учили? А тут дело сурьезное…
Обрадовался я доброй поддержке дяди Олексана! Какой он все-таки правильный человек, прямой, с открытым сердцем. С каждым днем он нравится мне все больше. К месту похвалит, вовремя подправит, а если нужно – всегда оградит от насмешек. И старик Парамон Евсеич по сердцу мне, но дядя Олексан по сравнению с ним совершенно другой человек, и я уверен: он ни за что не промолчал бы на суде, если бы знал о Беляеве столько, сколько знает старик Парамон.
…Дальше дело пошло лучше. Взяв доску, я сначала тщательно смотрю, в каком направлении ее строгать, затем аккуратно закрепляю на верстаке, поплевав на руки, берусь за струг, и вжик! – тоненькая стружка змейкой вылетает из-под моих рук. На доске остается свежая чистая дорожка. "Жив-вжик!.. Жив-вжик!.." С каждым ходом струга дорожка ширится, и вот, наконец, вся доска сверкает желтоватой белизной. Для верности провожу по ней ладонью – она совершенно гладкая, точно отполированная, ни единой щербатинки! А вокруг меня пенится целое озеро стружки, она шуршит под ногами, праздничным новогодним серпантином обвивает мои руки, от нее исходит приятный, щекочущий запах свежего леса. Дядя Олексан с серьезным лицом уверяет, что должность плотника и столяра является самой благородной и полезной для здоровья, потому что всякое дерево выделяет кислород, и воздух через это всегда чистый. Я, конечно, знаю, что кислород выделяют только живые деревья, но разуверять дядю Олексана не хочется: очень уж приятный, волнующий запах смолы и еще чего-то идет от свежей стружки. Кто знает, может, в самом деле из-под моего струга невидимыми струями бьют роднички настоящего, живительного кислорода!..
Дядя Олексан по "шаблону" обрезает обстроганные доски, Часовой гвоздями сколачивает кормушки. Их уже Яного, они штабелями высятся под навесом. По маленькому конвейеру проходит каждая из них, и начало этому конвейеру – в моих руках!..
– Шабаш, ребятки! Перекурим это дело, – объявляет дядя Олексан, стряхивает с колен мелкую стружку и тянется за кисетом. Часовой придвигается ближе к нему, отрывает от газеты лоскут с ладонь и крупной щепотью достает из чужого кисета махорку. Уже больше недели мы работаем втроем, и не было случая, чтоб Часовой имел свое курево – он из породы "вечных стрелков". Дядя Олексан незлобиво смеется:
– Ну и здоровые же ты крутишь из чужого, Иван! Гляди, чахотку схватишь… Хм, интересная это штука: нормальный человек вряд ли попросит у другого гривенник, а вот с куревом вошло в привычку: "Дай закурить!" и точка! Это я не из скупости, просто к слову пришлось. Табак – он на свете самый бессовестный товар.
– А ей-богу, верно! – задохнувшись едкой "моршанской" махоркой, поддакивает Часовой. – Копейку не попросишь, а табачок – очень даже просто…
– Теперь ты мне другое скажи, Иван: как это ты табачным зельем балуешься, если оно богом запрещено?
Вопрос застает Часового врасплох, он мнется, мелко смеется, без нужды слюнявит цигарку и отвечает совсем не по существу вопроса:
– Оха-ха, Олексан, ты скажешь!.. А я… что я? Хоть и курю, а бога понимаю. Как же, как же!.. Без бога, как говорится, до порога, а дальше – закрыта дорога! Курить – кури, только с богом не дури. Истинно так!
– Эх, Иван, твоим бы языком мед лизать! Правду говорят, что возле святых черти водятся… Соври-ка лучше, как ты в войну наших баб в православную веру обращал. Как ты, совсем монахом заделался или мужскую веру держал?
В хорошем настроении дядя Олексан всегда принимается донимать Часового расспросами о его "монашеской" жизни. Часовой поначалу отнекивается, хмурится, но, припертый к стене, сдается. Дядя Олексан от души хохочет, ударяя себя по коленкам:
– Во, монах-то, а! Люди воевали, кровь проливали, а ты, выходит, с бабами молился о победе? Петух своих кур учил бога понимать, ха-ха!.. Ну, шельма! Твое счастье, Иван: народ наш сердцем отходчивый. Шлепнуть бы тебя хорошенько, а люди простили! Да-а, отходчивы мы уж очень… Божий человек! Знаю я вашу братию… В городе тетка моя живет, без бога муху не обидит. Точная твоя копия, Иван, одна только разница – в юбке ходит… Случилось мне в город поехать – протез заказывать в мастерской. Знакомых у меня там нет, в гостинице переполнено, пришлось к тетке тащиться. В дом она меня впустила, а руки не подала: ты, говорит, грешный человек, табак куришь, вино пьешь. Ну, думаю, это еще куда ни шло, обниматься с тобой у меня особой охоты тоже нету… А тут к ней как раз пришли гости – древние старушки. Что там началось! Тетка с ними обнимается, целуется, плачут на радостях, а потом разом бухнулись на колени и ну давай молиться. Эге, думаю, угодил я в старушечий рай! Взял свою котомку и смотался, на вокзале ночь ночевал, на голой скамье провалялся. Вот он и есть, портрет ваш богомольный!
Боталов начинает волноваться, теребит бородку, брызгая слюной, доказывает свое. Дядя Олексан посмеивается:
– Э-э, не говори! Знаем мы вас, были вы у нас, после вас не стало самовара у нас! Без мыла лезете!
– Напраслину возводишь, Олексан, зря человека обижаешь!
– Хо, таких обидишь!
Затем он окончательно кладет Часового на лопатки:
– Как же так получилось, что твой бог позволил немецкому фугасу швырнуть тебя к черту в зубы? Выходит, богу все одно, есть ты на земле, или вовсе нет тебя! А, Иван?
Перед этим вопросом Часовой пасует и старается незаметно свести неприятный разговор на другое:
– Эхе-хе, всякое может с человеком случиться… Живем на божьем свете, землю толчем, грехами обзаводимся. Жить бы человеку при своем месте, тихо да мирно…
– "На своем месте"! – подхватывает дядя Олексан. – Ишь, чего захотел! Всякая жизнь бывает. Вот, например, есть такая ракушка, она имеет свойство зарываться в песок и живет таким манером двести лет. Вот это по-твоему, Иван! Согласен двести лет дрыхнуть, а? Всякая жизнь бывает на земле, а только человек ищет, где ему беспокойнее. Ершистый он, наш брат человек!
Спорить они могут без конца. Я постепенно теряю нить разговора и начинаю думать о своем. Приходит на ум привычный вопрос, он вытесняет все остальное: "Рая, милая Рая! Где ты? Почему так долго нет от тебя вестей?" Стараюсь успокоить себя: "Придет письмо, не может быть, чтобы не написала. А если долго, что ж… Мало ли как бывает. Пока она устраивается на новом месте, привыкает…"
– Эй, Олешка, пригрелся на стружках? Айда, вставай, подымайся, рабочий народ! До вечера надо управиться с кормушками.
И снова я встаю к верстаку. "Жив-вжик!.. Жнв-вжик!.." Из-под струга змейкой вьется лента стружки, ложится к ногам. В работе я забываюсь, незаметно исчезают невеселые думы, точно испаряются, отступают в дальние уголки сознания. А может, в самом деле мой струг высекает из дерева живительные искорки кислорода, и от них легче дышится?
* * *
За ночь погода изменилась: пришла зима, такая долгожданная. Вчера, возвращаясь с работы, я с болью смотрел на дядю Олексана: каждый шаг давался ему с трудом, деревянная нога вязла, оступалась в липкой грязи, он трудно и долго взбирался в гору, спина его переламывалась и кособочилась. Часовой опередил нас, по-журавлиному вышагивая на длинных худых ногах, будто на ходулях. Под мышкой у него обрубок: божился накануне, что дома нечем печурку разжечь. Тащит он каждый вечер: то груду щепок, то клок пакли, то горсточку гвоздей. Дядя Олексан вначале будто не замечал этого, но сегодня, строго насупившись, предупредил:
– Ты, Иван, иной раз на хомяка смахиваешь: всякую дрянь в свою норку утянуть норовишь. Смотри, не зарвись, с мелочишки на большое потянет!
Часовой всполошился, замахал руками:
– Вот те крест, лишнего не беру! Сами знаете; детишки у меня, доглядеть за ними некому. Избенка нетопленная, дровишки вышли. Не ребятки – плюнул бы…








