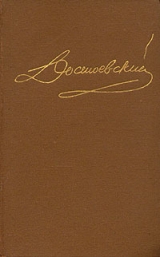
Текст книги "Том 15. Письма 1834-1881"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 86 страниц)
39. Н. Д. Фонвизиной *
Конец января – 20-е числа февраля 1854. Омск
Наконец, добрейшая Н<аталия> Д<митриевна>, я пишу Вам, уже выйдя из прежнего места. Последний раз, как я писал Вам * , я был болен и душою и телом. Тоска меня ела, и я думаю, что написал пребестолковое письмо. Эта долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня. Мне всегда грустно писать в подобные минуты письма; а навязывать в такое время свою тоску другим, хотя бы очень расположенным к нам, я думаю, малодушие. Это письмо я посылаю по оказии и рад-радехонек, что могу этот раз поговорить с Вами; тем более что я назначен в Семипалатинск в 7-й батальон, и потому уже не знаю, каким образом можно будет писать к Вам и получать от Вас письма. Вы еще давно писали мне о моем брате. Тогда я уже приготовил и письмо к Вам и к брату, но остерегся посылать, да, кажется, хорошо сделал. Я читал все Ваши адрессы в письме к С<ергею> Д<урову> и возьму их на всякий случай. Они, может быть, и надежны, но последнее письмо Ваше дошло вскрытое, и потому надо сильно остерегаться. Лучше же, если Вы захотите мне сделать счастье писать ко мне, то адресуйтесь к моему брату в Петербурге, или, может быть (не наверно только), он сам лично увидит Вас, или, наконец, пришлет к Вам доверенного человека. Брат мой теперь торгует, и потому, я думаю, адресс его найти нетрудно, напр<имер> в публикациях. Я сам адресса его не знаю. Впрочем, и Вам не советую полагаться на почту. Но так как, надо полагать, между Москвой и Петербургом ездят же Вам знакомые лица, то лучше всего доставить ему письмо ко мне по такой оказии. Таким образом, я буду иметь дело только с братом, и лучше всего в подобных случаях иметь одно сношение, чем два. Оно безопаснее. Впрочем, если найдете совершенно безвредную возможность писать ко мне другим путем, то, конечно, и это будет прекрасно, даже лучше, затем что я еще сам не знаю, каким образом буду я писать к брату. Я потому только так располагаю на него, что уж с ним-то непременно завяжу переписку. К тому же Вы живете в Марьине, а это обыкновенный путь из Москвы в нашу деревушку в Тульской губернии * . Я раз 20 проезжал этой дорогой взад и вперед и потому могу представить себе ясно место Вашего убежища или, лучше сказать, Вашего нового заключения. С каким удовольствием я читаю письма Ваши, драгоценнейшая Н<аталия> Д<митриевна>! Вы превосходно пишете их, или, лучше сказать, письма Ваши идут прямо из Вашего доброго, человеколюбивого сердца легко и без натяжки. Есть натуры замкнутые и желчные, которые редко застают у себя добрую минуту экспансивности. Я знаю таких. И между тем это вовсе недурные люди, даже очень напротив.
Не знаю, но по Вашему письму я угадываю, что Вы с грустию нашли опять родину. Я понимаю это; я несколько раз думал, что если вернусь когда-нибудь на родину, то встречу в моих впечатлениях более страдания, чем отрады. Я не жил Вашею жизнию и не знаю многого в ней, как и всякий человек в жизни другого, но человеческое чувство в нас всеобще, и, кажется, при возврате на родину всякому изгнаннику приходится переживать вновь, в сознании и воспоминании, всё свое прошедшее горе. Это похоже на весы, на которых свесишь и узнаешь точно настоящий вес всего того, что выстрадал, перенес, потерял и что у нас отняли добрые люди. Но дай Вам Бог еще долгих дней! Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н<аталия> Д<митриевна>. Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая» * , веры, и находишь ее, собственно, потому, что в несчастье яснеет истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительнобыло бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
Но об этом лучше перестать говорить. Впрочем, не знаю, почему некоторые предметы разговора совершенно изгнаны из употребления в обществе, а если и заговорят как-нибудь, то других как будто коробит? Но мимо об этом. Я слышал, Вы куда-то хотите ехать на юг * ? Дай Вам Бог выпросить позволение. Но когда же, скажите, пожалуйста, когда же мы будем совсем свободны или по крайней мере так, как другие люди? Уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Что касается до меня, то я желаю лучше всего или уж ничего. В солдатской шинели я такой же пленник, как и прежде. И как я рад, что в душе моей нахожу еще надолго терпения, что благ земных не желаю и что мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному. О последнем я очень беспокоюсь. Вот уже очень скоро пять лет, как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один. Быть одному – это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года * . Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них как на воров, которые украли у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье, это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаешь всё это, упрекаешь себя даже – и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Я уверен, что Бог Вас избавил от этого. Я думаю, в Вас, как в женщине, гораздо более было силы переносить и прощать.
Напишите мне что-нибудь, Н<аталия> Д<митриевна>. Я еду в глушь, в Азию, и уж там-то, в Семипалатинске, кажется, совершенно оставит меня всё прошлое, все впечатления и воспоминания мои, потому что последние люди, которых я любил и которые были передо мной, как тень моего прошедшего, должны будут расстаться со мной. Ужасно я сживчив, тотчас срастусь с тем, чем окружат меня, и с болью потом отрываюсь от этого. Живите, Н<аталия> Д<митриевна>. Живите счастливее и дольше! Когда мы увидимся, тогда вновь познакомимся, и, может быть, еще много счастливых дней будет на каждом из нас. Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто всё еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная. А может быть, это всё больные бредни мои! Прощайте, прощайте, Н<аталия> Д<митриевна>, или, лучше сказать, до свидания, будем верить, что до свидания!
Ваш Д<остоевский>.
Ради Господа Бога, простите меня за то, что я пишу Вам такие неопрятные и перемаранные письма! Но, ей-богу, не могу не перечеркивать. Не сердитесь же, пожалуйста.
40. M. M. Достоевскому
30 июля 1854. Семипалатинск
Семипалатинск. Июля 30/54 года.
Вот уже два месяца, как не писал я к тебе, любезный друг и брат мой. Нельзя было, почти невозможно. Но скажи мне, отчего ты молчишь * ? Сколько писем уже послал я тебе! Ты же, кроме своего январского письма, отвечал мне только на одно, на первое. Этот ответ, то есть второе письмо твое, писанное в апреле, я получил в начале июня и до сих пор не отвечал тебе на него. Уверяю тебя, дорогой мой, что почти совсем не было времени до самой настоящей минуты. Наконец, если и было хоть сколько-нибудь свободных минут, то я нарочно откладывал до времени более удобного, всё ожидая, что оно скоро придет. Мне же не хотелось бы писать тебе урывками и наскоро. Конечно, ты знаешь или, наконец, можешь угадать, чем я теперь занят. Ученье, смотры бригадного и дивизионного командиров и приготовления к ним. Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило – другой вопрос; но мною довольны, и слава Богу! Конечно всё это для тебя не очень интересно; но по крайней мере ты знаешь, чем я был исключительно занят. Что ни пиши, однако же, на письме, однако же [35]35
Так в подлиннике.
[Закрыть], никогда ничего не расскажешь. Как ни чуждо всё это тебе, но, я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой отвычкой или, лучше сказать, с таким полным ничего-незнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов. Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил. Я пишу это только для того, чтобы вынудить от тебя хоть несколько строк, без которых мне, право, тяжело жить на свете. Сообрази, наконец, что если на каждое письмо ждать друг от друга ответа и без того не писать, то ведь промежутки будут, пожалуй, месяца по три. Каково же переносить всё это! Ты знаешь, что значит для меня письмо от тебя. Неужели же мы будем с тобою считаться письмами, как визитами. И так уж давно не видались, и так уж давно ничего не писали друг другу!
От сестер Вареньки и Верочки я получил наконец письма. Какие ангелы! Я уверен, что они меня так же любят, как говорят. Как мило написала Варенька. Вся душа в этом прекрасном письме. Я думал им отвечать с первой же почтой, но вот уже третью откладываю. Очень был занят, а маленького письма им писать не хочу. Я не знаю, чем показать им мою любовь и внимание. Да благословит их Бог! Теперь ты знаешь мои главнейшие занятия. По правде, более не было никаких, кроме служебных. Внешних событий, переворотов жизненных, экстренных случаев тоже никаких. А душу, сердце, ум – что выросло, что созрело, что завяло, что выбросилось вон, вместе с плевелами, того не передашь и не расскажешь на клочке бумаги. Живу я здесь уединенно; от людей по обыкновению прячусь. К тому же я пять лет был под конвоем, и потому мне величайшее наслаждение очутиться иногда одному. Вообще каторга много вывела из меня и много привила ко мне. Я, например, уже писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на падучую, и, однако ж, не падучая. Когда-нибудь напишу о ней подробнее.
Впрочем, сделай одолжение и не подозревай, что я такой же меланхолик и такой же мнительный, как был в Петербурге в последние годы. Всё совершенно прошло, как рукой сняло. Впрочем, всё от Бога и у Бога. Благодарю брата Колю за приписку. Я было хотел и сам написать ему, но пусть до времени подождет и извинит меня, горемычного. В одном пусть будет уверен, что он очень мил и близок моему сердцу и что я вспоминаю о нем с горячим чувством. Расцелуй его за меня и пожелай ему всего хорошего. Расцелуй тоже детей. Поклонись от меня Эмилии Федоровне. Я иногда с ужасом вспоминаю об 49 годе и об тех двух месяцах, которые она провела одна, тогда как ты был арестован. Здорова ли, довольна ли она теперь? В каторге я так много промечтал и продумал о прошедшем и будущем и, главное, об вас всех.
Иные воспоминания мне больны и горьки, но я не гоню их. Мне и горькое сладко.
Поклонись от меня сестре Сашеньке; поцелуй и поздравь ее от меня * . Здорова ли она теперь? Поцелуй ее от меня и скажи ей обо мне что-нибудь хорошее. Вообще рекомендуй меня. Пожелай ей от меня много, много всякого счастья.
Милый мой, ты пишешь мне о деньгах и спрашиваешь, надо ли мне? Но ты сам знаешь мое положение. Можешь прислать, так пришли. Ведь ты моя главная надежда. Так, как на тебя, я ни на кого не надеюсь.
Прощай, мой милый! Пиши побольше о себе. Пиши мне непременно о своем здоровье и более подробностей о том, как воспитываются твои дети. Прощай, друг мой, вот и письмо кончено, а что написал? Грустно жить в письмах, не видавшись 5 лет. Теперь буду писать и больше и чаще. Но сам отвечай мне как можно скорее. Прощай, до свидания.
Твой брат Федор Достоевский.
41. Е. И. Якушкину
15 апреля 1855. Семипалатинск
Апреля 15.
Благодарю Вас, многоуважаемый Евгений Иванович, за Вашу память обо мне и за Ваше ко мне внимание. Я неожиданно, к моему счастью, нашел в Вас как будто родного. Еще раз благодарю. О себе скажу, что живу я большею частию одними надеждами, а настоящее мое не очень красиво. К тому же примешалось и дурное здоровье. Мой товарищ Д<уров> вышел из военной службы и, как я слышал, определен в Омск к статским занятиям. (Всё это по болезни.)
Пушкина я получил. Очень благодарю Вас за него * . Брат мой писал мне, что он еще весною прошлого года послал мне через Вас некоторые книги, как, н<а>прим<ер>, Святых отцов, древних историков, и из вещей – ящик сигар. Но я ничего не получил от Вас. Теперь уведомьте, пожалуйста: посылали ли Вы ко мне? Если посылали, то пропало дорогой. Если не посылали, то, конечно, сами не получали * . Сделайте одолжение, уведомьте об этом брата.
Мои занятия здесь самые неопределенные. Хотелось бы делать систематически. Но я и читаю и пописываю какими-то порывами и урывками. Времени нет, особенно теперь; совсем нет. Пишете Вы о сборе песен. С большим удовольствием постараюсь, если что найду. Но вряд ли. Впрочем, постараюсь. Сам же я до сих пор ничего не собирал подобного. Меня останавливала мысль, что если делать, то делать хорошо. А случайно сбирать, хоть бы народные песни, – ничего не сберешь * . Без усилий ничего не дается. К тому же занятия мои теперь другого рода. Сколько нужно прочесть и как я отстал! Вообще в моей жизни безалаберщина.
Уведомьте, ради Бога, кто такая Ольга Н. * и Л. Т.(напечатавший «Отрочество» в «Современнике») * ?
Прощайте, дорогой Евгений Иванович. Не забывайте меня, а я Вас никогда не забуду.
Ваш Д<остоевский>.
Прилагаю при сем письмо к К. И. Иванову. Перешлите, пожалуйста, в Петербург, в дом Лисицына, у Спаса Преображения. Но, вероятно, адресс Вы сами знаете.
42. М. Д. Исаевой
4 июня 1855. Семипалатинск
Семипалатинск, 4 июня 55.
Благодарю Вас беспредельно за Ваше милое письмо с дороги, дорогой и незабвенный друг мой Марья Дмитриевна. Надеюсь, что Вы и Александр Иванович позволите мне называть вас обоих именем друзей. Ведь друзьями же мы были здесь; надеюсь, ими и останемся. Неужели разлука нас переменит? * Нет, судя по тому, как мне тяжело без вас, моих милых друзей, я сужу и по силе моей привязанности… Представьте себе: это уже второе письмо, что я пишу к Вам. Еще к прошедшей почте был у меня приготовлен ответ на Ваше доброе, задушевное письмо, дорогая Марья Дмитриевна. Но оно не пошло. Александр Егорыч, через которого я был намерен отдать его на почту, вдруг уехал в Змиев * в прошлую субботу, так что я даже и не знал о его отъезде и только узнал в воскресенье. Человек его тоже исчез на два дня, и письмо осталось у меня в кармане. Такое горе! Пишу теперь, а еще не знаю, отправится ль и это письмо. Ал<ександра> Ег<оровича> еще нет. Но за ним послали нарочного. К нам с часу на час ждут генерал-губернатора, * который в эту минуту, может быть, и приехал. Слышно, что пробудет здесь дней пять. Но довольно об этом. Как-то Вы приехали в Кузнецк, и, и чего Боже сохрани, не случилось ли с Вами чего дорогою? Вы писали, что Вы расстроены и даже больны. Я до сих пор за Вас в ужаснейшем страхе. Сколько хлопот, сколько неизбежных неприятностей, хотя бы от одного перемещения, а тут еще и болезнь, да как это вынести! Только об Вас и думаю. К тому же, Вы знаете, я мнителен; можете судить об моем беспокойстве. Боже мой! да достойна ли Вас эта участь, эти хлопоты, эти дрязги, Вас, которая может служить украшением всякого общества! Распроклятая судьба! Жду с нетерпением Вашего письма. Ах, кабы было с этою почтою; ходил справляться, но Ал<ександра> Ег<оровича> всё еще нет. Вы пишете, как я провожу время и что не знаете, как расположились без Вас мои часы. Вот уж две недели, как я не знаю, куда деваться от грусти. Если б Вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! * Право, это время похоже на то, как меня первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к Вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел как на обыкновенное, а теперь, лишившись Вас, о многом догадался по опыту. Я пять лет жил без людей, один, не имея в полном смысле никого, перед кем бы мог излить свое сердце. Вы же приняли меня как родного. Я припоминаю, что я у Вас был как у себя дома. Александр Иванович за родным братом не ходил бы так, как за мною. Сколько неприятностей доставлял я Вам моим тяжелым характером, а вы оба любили меня. Ведь я это понимаю и чувствую, ведь не без сердца ж я. Вы же, удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты, Вы были мне моя родная сестра. Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни. Мужчина, самый лучший, в иные минуты, с позволения сказать, ни более ни менее как дубина. Женское сердце, женское сострадание, женское участие, бесконечная доброта, об которой мы не имеем понятия и которой, по глупости своей, часто не замечаем, незаменимо. Я всё это нашел в Вас; родная сестра не была бы до меня и до моих недостатков добрее и мягче Вас. Потому что если и были вспышки между нами, то, во-первых, я был неблагодарная свинья, а, во-вторых, Вы (сами) больны, раздражены, обижены, обижены уже тем, что не ценило Вас поганое общество, не понимало, а с Вашей энергией нельзя не возмущаться несправедливостью; это благородно и честно. Вот основание Вашего характера; но горе и жизнь, конечно, много преувеличили, много раздражили в Вас; но Боже мой! всё это выкупалось с лихвою, сторицею. А так как я не всегда глуп, то я это видел и ценил. Одним словом, я не мог не привязаться к Вашему дому всею душою, как к родному месту. Я вас обоих никогда не забуду и вечно вам буду благодарен. Потому что я уверен, что вы оба не понимаете, что вы для меня сделали и до какой степени такие люди, как вы, были мне необходимы. Это надо испытать, и только тогда поймешь. Если б вас не было, я бы, может быть, одеревенел окончательно, а теперь я опять человек. Но довольно; этого не расскажешь, особенно на письме. Письмо уже потому проклятое, что напоминает разлуку, а мне всё ее напоминает. По вечерам, в сумерки, в те часы, когда, бывало, отправляюсь к вам, находит такая тоска, что, будь я слезлив, я бы плакал, а Вы верно бы надо мной не посмеялись за это. Сердце мое всегда было такого свойства, что прирастает к тому, что мило, так что надо потом отрывать и кровенить его. Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда; мне здесь всё надоело. Такая пустота! Один Ал<ександр> Егорыч, но с ним мне уже потому тяжело, что я поневоле сравниваю Вас с ним, и, конечно, результат выходит известный. Да к тому же его и нет дома. Без него я ходил раза два в Казакова сад, * куда он переехал, и так было грустно. Как вспомню прошлое лето, как вспомню, что Вы, бедненькая, всё лето желали проехаться куда-нибудь за город, хоть воздухом подышать, и не могли, то так станет Вас жалко, так станет грустно за Вас. А помните, как один раз нам-таки удалось побывать в Казаковом саду, Вы, Алек<сандр> Иван<ович>, я, Елена. * Как свежо я всё припомнил, придя теперь в сад. Там ничего не изменилось, и скамейка, на которой мы сидели, та же… И так стало грустно. Вы пишете, чтоб я жил с Врангелем, но я не хочу, по многим важным причинам. 1) Деньги.С ним живя, я, очевидно, должен буду больше тратить: квартира, прислуга, стол, а мне тяжело было бы жить на его счет. 2) Мой характер. 3) Его характер. 4) Я как поглядел, к нему-таки часто таскается народ, и даже помногу. Исключить себя из компании иногда невозможно, а я терпеть не могу незнакомых лиц. Наконец, я люблю быть один, я привык, а привычка вторая натура. Но довольно. Я еще почти ничего Вам не рассказал. Проводив Вас до леса и расставшись с Вами у той сосны (которую я заметил), мы возвратились с Врангелем рука в руку (он вел свою лошадь) до гостеприимного хутора Пешехоновых. * Тут-то я почувствовал, что осиротел совершенно. Сначала еще было видно ваш тарантас, потом слышно, а наконец всё исчезло. Сев на дрожки, мы говорили об вас, об том, как-то вы доедете, об Вас в особенности, и тут, к слову, Врангель расска<за>л мне кой-что, меня очень порадовавшее. Именно в самый день отъезда, утром, когда Петр Михайлович? приглашал Врангеля куда-то на весь вечер, он отговорился и на вопрос: почему? – отвечал: провожаю Исаевых. Тут были кое-кто. П<етр> М<ихайлович> тотчас осведомился: стало – дескать, Вы коротко знакомы? Врангель резко отвечал: что хоть знакомство это недавнее, но все-таки это был один из приятнейших для него домов и что хозяйка этого дома, то есть Вы, такая женщина, какой он с Петербурга еще не встречал, да и не надеется более встретить, такая, «каких Вы, – прибавил он, – может быть, и не видывали и с которой знакомство я считаю себе за величайшую честь». * Этот рассказ мне очень понравился. Человек, который бесспорно видал женщин самого лучшего общества (ибо в нем и родился), имеет, кажется, право в таком суждении на авторитет. В этих разговорах и ругая Пешехоновых, мы приехали в город почти на рассвете, и кучер, которому предварительно не дали приказания, привез прямо к моей квартире. Таким образом пропал предполагаемый чай, чему я был очень рад, затем что ужасно хотелось остаться одному. Дома я еще долго не спал, ходил по комнате, смотрел на занимающуюся зарю и припоминал весь этот год, прошедший для меня так незаметно, припомнил всё, всё, и грустно мне стало, когда раздумался о судьбе своей. С тех пор я скитаюсь без цели, настоящий Вечный жид. * Почти нигде не бываю. Надоело. Был у Гриненки, который командирован на Копал * и на днях выходит (он будет и в Верном! * , был у Медера, который находит, что я похудел, у Жунечки * (поздравлял с именинами), где встретил Пешехоновых и поговорил с ними, бываю у Велихова * и, наконец, хожу в лагерь на учение. Иногда хвораю. С каким нетерпением я ждал татар-извозчиков. Ходил-ходил к Ордынскому, и каждый вечер Сивочка * бегал справляться. Заходил на вашу квартиру, взял плющ (он теперь со мной), видел осиротелую Сурьку, бросившуюся ко мне со всех ног, но не отходящую от дому. Наконец извозчики воротились. Ваше письмо, за которое благодарю Вас несчетно, было для меня радостью. Я и татар расспрашивал. Они мне много рассказали. Как хвалили Вас (все-то Вас хвалят, Марья Дмитриевна!). Я им дал денег. На другой день я видел Коптева у Врангеля. Он тоже мне кое-что рассказал, но об самом интересном, о Ваших деньгах для дороги, не мог спросить его: вопрос щекотливый. Я до сих пор не придумаю, как Вы доехали! Как мило Вы написали письмо, Марья Дмитриевна! Именно такого письма я желал; как можно больше подробностей, и вперед так делайте. Я как будто вижу Вашу бабушку. Негодная старуха! Да она Вас сживет со свету. Пусть остается с своими моськами «по гроб своей жизни». Я надеюсь, что Александр Иванович завещание вытянет, так должно, а ее не возьмет. Ее надо уверить, что так будет лучше: иначе она должна дать подписку, что умрет через три месяца (за каждый месяц по 1000 рублей), иначе не принимайте. Неужели Вам, Вам, Марья Дмитриевна, придется ходить за ее моськами, да еще с Вашим здоровьем! Ведь эти старухи так несносны! Письмо Ваше прочитывал Врангелю (местами, конечно). Не утерпел и сходил к Елене: одна, бедная. Как мне было жаль, что Вы хворали дорогой. Когда-то дождусь Вашего письма! Я так беспокоюсь! Как-то Вы доехали. Жму крепко руку Александру Ивановичу и целую его. Надеюсь, что он напишет мне вскорости. Обнимаю его от всего сердца и как друг, как брат желаю ему лучшей компании. Неужели и в Кузнецке он будет так же неразборчив в людях, как в Семипалатинске? Да стоит ли этот народ, чтоб водиться с ним, пить-есть с ними и от них же сносить гадости! Да это значит вредить себе сознательно! И как противны они, главное, как грязно. После иной компании так же грязно на душе, как будто в кабак сходил. Надеюсь, Александр Иванович за мои пожелания на меня не рассердится. Прощайте, незабвенная Марья Дмитриевна! Прощайте! ведь увидимся, не правда ли? Пишите мне чаще и больше, пишите об Кузнецке, об новых людях, об себе как можно больше. Поцелуйте Пашу; верно, шалил дорогой! * Прощайте, прощайте! Неужели не увидимся.
Ваш Достоевский.








