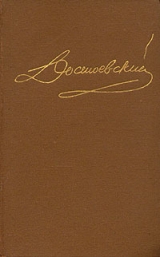
Текст книги "Том 15. Письма 1834-1881"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 86 страниц)
18. П. А. Карепину
7 сентября 1844. Петербург
7 сентября.
Милостивый государь Петр Андреевич!
В прошлом письме моем к брату Михаиле писал я ему, чтобы он поручился за меня всей семье нашей в том, что после получения теперь некоторой суммыя ничем не преступлю уговора, который благоугодно будет Вам предложить мне от лица всех наших, и что брат Михайло на мои будущие требования должен будет или сам отвечать мне, или, наконец, в случае несдержания моего слова, сам из своей части поплатится мне. Будучи твердо уверен, что брат Михайло исполнил то, что я писал ему * , нахожу необходимым еще раз обеспокоить Вас письмом моим.
Брату кажется, так же как и мне казалось давно, что хотя и трудно сделать законный раздел, но весьма легко сделать семейный, соблюдать его нерушимо с обеих сторон и потом довершить законами; конечно, не мне самому должно было предлагать Вам такое решение; теперь же представительство брата естественно может несколько споспешествовать ходу дел. – Угадывая и всегда будучи уверен, что на меру, принятую мною теперь, то есть отставку вследствие долгов и неустройства дел, посылаются крики, обвинения, между которыми скажется известная фраза – что, дескать, хочет сесть на шею братьям и сестрам, я даже считаю обязанным выделиться, несмотря на то что дело это само по себе уж необходимо в моих обстоятельствах. Вследствие же сих вышеизложенных причин назначаю цену 1000 р. сереб<ром>, которая с окупкою всего-навсего и уплатою долгов и казенных и частных и т. д. и т. д. и т. д. выходит весьма сговорчивая, даже ниже и непременно ниже, чем следует, приняв в соображение Вашу оценку когда-то.
Из этой суммы 1000 руб. сереб<ром> я прошу 500 руб. сереб<ром> выдать разом, а остальные 500 руб. сереб<ром> выдавать по 10 руб. сереб<ром> в месяц. Назначая 500 руб. сереб<ром> разом, я назначаю самое необходимое – 1500 для уплаты долгов и 250 на окупление издержек теперешних, которые по-настоящему требуют втрое более, чем 250 руб. Конечно, Петр Андреевич, нужно сознаться, что согласие и решение дела находится теперь в Ваших руках. Вы можете отвергнуть все эти предложения по тысяче предлогам. Но несколько строчек самых откровенных с моей стороны, эссенции всего, что до сей поры было писано и говорено с обеих сторон, теперь, в настоящую минуту необходимы. Никогда не имев сомнения, что ум, благородство и сочувствие всегда сопутствуют каждой мере Вашей, полагаю, что Вы простите неприятность смысла следующих строчек; их диктует необходимость.
Вот они.
Неужели Вы, Петр Андреевич, после всего, что было между нами насчет известного пункта, то есть дирижирования моей неопытной и заблуждающейся юности, после всего, что было писано и говорено с моей стороны, после (не спорю – и сознаюсь), после нескольких дерзких выходок с моей стороны насчет советов, правил, принуждений, лишений и т. п., Вы захотите еще употреблять ту власть, которая Вам не дана, действовать в силу тех побуждений, которые могут управлять только решением одних родителей, наконец, играть со мною роль, которую я в первую минуту досады присудил Вам неприличною. Неужели и после этого всего Вы будете противиться моим намерениям, ради моей собственной, пользы и из сострадания к жалким грезам и фантазиям заблуждающейся юности.Если же не эти причины действуют сердцем Вашим теперь и запрещают Вам помочь мне в самом ужасном обстоятельстве моей жизни, то неужели это одна досада на несколько вырвавшихся с пера моего выражений. Досада может быть и должна быть, это естественно, хотя я и сожалею об этом, но продолжительный гневи желание вредитьбыть не могут – это, как я всегда предполагал, против правил благородства вообще и Ваших в особенности; в этом я твердо уверен; хотя до сих пор не постигаю причины, заставившей Вас, приняв в соображение Ваше участие в семейных делах наших, отстраниться от меня и предать меня самым неприятным гадостям и обстоятельствам, которые только были на свете.
А обстоятельства мои вот какие. В половине августа я подал в отставку, в силу того что долгов у меня бездна, а командировка не терпит уплаты их и что ославленный офицер начнет весьма дурно свою карьеру. Наконец, самому жизнь была не в рай. Долги, превышающие состояние, простятся богачу. Даже в иных случаях на это обстоятельство везде смотрят с уважением. Бедняку дают щелчка. Прекрасно было бы продолжать службу, параллельно распространению жалоб по всевозможным командам. Наконец, отставка моя была следствием горячности. Меня мучили долги, с которыми я три года не могу расплатиться. Меня мучила безнадежность расплаты в будущем. И потому я вышел в отставку единственно с целью уплаты долгов известным образом – разделом имения (по справедливому замечанию Вашему, весьма и даже донельзя весьма миниатюрного, но для известных целей годящегося). Что же касается до уважения к родительской памяти, то именно ради сего-то обстоятельства хочу употребить родительское достояние на то, на что бы мой батюшка сам не пожалел его. То есть на спокойство своего сына, на средства для новой дороги и на избавление от названия подлеца, то есть хотя не названия, но мнения, что всё одно и то же. Просьбы по домашним обстоятельствам подвергаются высочайшему решению с 1-го октября – всё дело занимает дней 10, немного что две недели. Половина месяца подходит. Мне выйдет отставка, кредитора ринутся на меня без жалости, тем более что на мне даже и платья не будет, и я подвергнусь самым неприятным делам. Хотя я отчасти это предвидел, и если оправдаются мои предположения и предугадывания, и был готов к этому, но согласитесь, что я не пойду в тюрьму, напевая песню из глупой бравады. Это даже смешно. Вот почему, Петр Андреевич, пишу это письмо в последний раз, представляю всю крайность моих нужд в последний раз, прошу Вас мне помочь в возможно скором времени в последний раз, на предложенных условиях, хотя не разом, но столько, чтобы заткнуть голодные рты и одеться. Наконец, говорю Вам в последний раз, теперь, будучи в совершенном неведении насчет Вашего решения, что лучше сгнию в тюрьме, чем вступлю в службу, прежде окончания и устроения дел моих.
Ф. Достоевский.
19. M. M. Достоевскому
30 сентября 1844. Петербург
30 с<ентября>.
Любезный брат,
Я получил «Дон Карлоса» и спешу отвечать как можно скорее (времени нет). Перевод весьма хорош, местами удивительно хорош, строчками плох; но это оттого, что ты переводил наскоро. Но, может быть, всего-то пять-шесть строчек дурных. Я взял смелость кое-что поправить, также кой-где сделать стих позвучнее. Всего досаднее, что местами ты вставлял иностранные слова, н<а>п<ример> комплот.Этого допустить нельзя. Также (впрочем, я не знаю, как в подлиннике) ты употребляешь слово сир.Сколько мне известно, этого слова в Испании не было, а употреблялось только в Западной Европе в государствах нормандского происхождения. Но это всё пустяки сущие. Перевод удивительно как хорош. Лучше чем я ожидал. – Я отнесу его этим дуракам в «Репертуар» * . Пусть рты разинут. Если же (чего я боюсь) есть уже у них перевод Ободовского, то в «О<течественные> записки». За мелочь не продам, будь покоен. Как только продам, пришлю деньги. Что же касается до издания Шиллера, то, разумеется, я с тобой согласен, даже сам хотел предложить тебе разделить на 3 выпуска. Пустим сперва: «Разб<ойников>», «Фиеско», «Дон Карлоса», «Коварство», Письма о Карлосе и Наивн<ости> * . Это будет очень хорошо. Насчет издателей посмотрим. Но штука в том, что гораздо лучше самим; иначе нет барыша. Ты только переводи, а насчет денег не беспокойся: как-нибудь их найдем, так ли, этак ли – всё равно. Только вот что, брат, через месяц это дело нужно кончить, то есть решиться, ибо объявлениене может быть выпущено после, а без объявлениямы погибли. Вот почему я и прикажу припечатать несколько слов о сем в «Репертуаре».
Перевод произведет сенсацию. (Малейший успех – и барыш удивительный.) *
Ну, брат, – я и сам знаю, что я в адских обстоятельствах; вот я тебе объясню:
Подал я в отставку, оттого что подал, то есть, клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, след<овательно>, зачем терять хорошие годы? А, наконец, главное: меня хотели командировать – ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда я бы годился? Ты меня хорошо понимаешь?
Насчет моей жизни не беспокойся. Кусок хлеба я найду скоро. Я буду адски работать. Теперь я свободен. Но что я буду делать теперь, в настоящую-то минуту? – вот вопрос. Вообрази себе, брат, что я должен 800 руб., из коих хозяину 525 руб. асс<игнациями> (я написал домой, что долгов у меня 1500 руб., зная их привычку присылать 1/3 чего просишь).
Никто не знает, что я выхожу в отставку. Теперь, если я выйду, – что тогда буду делать. У меня нет ни копейки на платье. Отставка моя выходит к 14 октябр<я> * . Если свиньи-москвичи промедлят, я пропал. И меня пресерьезно стащат в тюрьму (это ясно). Прекомическое обстоятельство. Ты говоришь, семейный раздел * . Но знаешь ли ты, чего прошу я? За отстранение мое от всякого участия в имении теперь и за совершенное отчуждение, когда позволят обстоятельства, то есть за уступку с сей минуты моего имения им, – я требую 500 руб. сереб<ром> разом и другие 500 уплатою по 10 руб. сер<ебром> в месяц (вот всё, что я требую). Согласись, что немного и никого не обижаю. Они и знать не хотят. Согласись еще, что не мне предлагать им это теперь. Они мне не доверяют.Они думают, что я их обману. Поручись, душа моя, пожалуйста, за меня. Скажи именно так: что ты готов всем поручиться за меня в том, что я не простру далее моих требований * . Если у них нет столько денег, то в моем положении 700, даже 600 руб. могут быть отрадными; я еще могу обернуться, и за это поручись, что это примется в уплату всей суммы 500 руб. сер<ебром> и 500 р. сер<ебром> интервалами.
Ты говоришь, спасение мое драма. Да ведь постановка требует времени * . Плата также. А у меня на носу отставка (впрочем, милый мой, если бы я еще не подавал отставки, то подал бы сейчас. Я не каюсь).
У меня есть надежда. Я кончаю романв объеме «Eugénie Grandet». Роман довольно оригинальный. Я его уже переписываю, к 14-му я наверно уже и ответ получу за него. Отдам в «О<течественные> з<аписки>». (Я моей работой доволен.) Получу, может быть, руб. 400, вот и все надежды мои. Я бы тебе более распространился о моем романе, да некогда * (драму поставлю непременно. Я этим жить буду).
Свинья Карепин глуп как сивый мерин * Эти москвичи невыразимо самолюбивы, глупы и резонеры. В последнем письме Карепин ни с того ни с сего советовал мне не увлекаться Шекспиром! Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно. Мне хотелось, чтобы ты понял эту комическую черту, озлобление на Шекспира. Ну к чему тут Шекспир? Я ему такое письмо написал! Одним словом, образец полемики. Как я его отделал. Мои письма chef-d’oeuvre летристики * .
Брат, пиши домой как можно скорее, пожалуйста, ради самого Создателя. Я в страшном положении; ве<дь> 14 самый дальний срок; я уже 1½ месяца, как подал. Ради небес! Проси их, чтобы прислали мне * . Главное, я буду без платья. Хлестаков соглашается идти в тюрьму, только благородным образом * . Ну а если у меня штановне будет, будет ли это благородным образом?..
…Карепин водку пьет, имеет чин и в Бога верит. Своим умом дошел.
Мой адрес: у Владимирской церкви в доме Прянишникова, в Графском переулке. Спросить Достоевского.
Я чрезвычайно доволен романом моим. Не нарадуюсь. С него-то я деньги наверно получу, а там —
Извини, что письмо безо всякой связи.
20. M. M. Достоевскому
24 марта 1845. Петербург
24 марта.
Любезный брат,
Ты, верно, заждался письма моего, л<юбезный> б<рат>. Но меня задерживала неустойчивость моего положения. Я никак не могу заниматься вполне чем бы то ни было, когда перед глазами одна неизвестность и нерешительность. Но так как я и до сих пор ничего не сделал хорошего по части моих собственных обстоятельств, то всё равно пишу; ибо давно бы было нужно писать.
Я получил от москвичей 500 руб. сереб<ром>. Но у меня столько было долгов, старых и вновь накопившихся, что на печать недостало. Это бы еще ничего. Можно бы было задолжать в типографии или уплатить не все из домашних долгов, но роман еще не был готов. Кончил я его совершенно чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен * . Но тут другая история: цензора не берут менее чем на месяц. Раньше отцензировать нельзя. Они-де работой завалены. Я взял назад рукопись, не зная, на что решиться. Ибо кроме четырехнедельного цензурованья печать съест тоже недели три. Выйдет к маю месяцу. Поздно будет! Тут меня начали толкать и направо и налево, чтобы отдать мое дело в «Отечеств<енные> записки». Да пустяки. Отдашь, да не рад будешь. Во-первых, и не прочтут, а если прочтут, так через полгода. Там рукописей довольно и без этой. Напечатают, денег не дадут. Это какая-то олигархия. А на что мне тут слава, когда я пишу из хлеба? Я решился на отчаянный скачок: ждать, войти, пожалуй, опять в долги и к 1-му сентября, когда все переселятся в Петербург и будут, как гончие собаки, искать носом чего-нибудь новенького, тиснуть на последние крохи, которых, может быть, и недостанет, мой роман. Отдавать вещь в журнал значит идти под ярем не только главного maitre d`hotel`я, но даже всех чумичек и поваренков, гнездящихся в гнездах, откуда распространяется просвещение. Диктаторов не один: их штук двадцать. Напечатать самому значит пробиться вперед грудью, и если вещь хорошая, то она не только не пропадет, но окупит меня от долговой кабалы и даст мне есть.
А теперь насчет еды! Ты знаешь, брат, что я в этом отношении предоставлен собственным силам. Но как бы то ни было, а я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить, – крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит всё. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 руб. сереб<ром>, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал 1 стих по червонцу. Зато слава их, особенно Гоголя, была куплена годами нищеты и голода. Старые школы исчезают. Новые мажут, а не пишут. Весь талант уходит в один широкий размах, в котором видна чудовищная недоделанная идея и сила мышц размаха, а дела крошечку. Beranger сказал про нынешних фельетонистов французских, что это бутылка Chambertin [22]22
шамбертена (франц.)
[Закрыть]в ведре воды * . У нас им тоже подражают. Рафаэль писал годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо, боги создавались под его рукою. Vernet пишет в месяц картину, для которой заказывают особенных размеров залы, перспектива богатая, наброски, размашисто, а дела нет ни гроша. Декораторы они!
Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки. Печатание вознаградит меня. Теперь покамест я пуст. Думаю что-нибудь написать для дебюта или для денег, но пустяки писать не хочется, а на дело нужно много времени.
Приближается время, в которое я обещал быть у вас, милые друзья * . Но не будет средств, то есть денег. Я решил остаться на старой квартире. Здесь по крайней мере сделал контракт и знать ничего не знаешь месяцев на шесть. Так дело в том, что я всё это хочу выкупить романом. Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь.
Мне бы хотелось спасти хоть 300 руб. к августе месяцу. И на триста можно напечатать. Но деньги ползут, как раки, все в разные стороны. У меня долгов было около 400 руб. сереб<ром> (с расходами и прибавкою платья), по крайней мере я на два года одет прилично. Впрочем, я непременно приеду к вам. Пиши мне поскорее, как ты думаешь насчет моей квартиры. Это решит<ельный> шаг. Но что делать!
Ты пишешь, что ужасаешься будущности без денег. Но Шиллер выкупит всё, а вдобавок, кто знает, сколько раскупится экземпляров моего романа. Прощай. Отвечай мне скорее. Я тебе объявлю в следующую почту все мои решения.
Твой брат Достоевский.
Целуй детей и кланяйся Эмилии Федоровне. Я о вас часто думаю. Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, – читаю. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во всё, отчетливо понимаю и сам извлекаю умение создавать.
Писать драмы – ну, брат. На это нужны годы трудов и спокойствия, по крайней мере для меня. Писать ныне хорошо. Драма теперь ударилась в мелодраму. Шекспир бледнеет в сумраке и сквозь туман слепандасов-драматургов кажется богом * , как явление духа на Брокене или Гарце * . Впрочем, летом, я, может быть, буду писать. 2–3 года, и посмотрим, а теперь подождем!
Брат, в отношении литературы я не тот,что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли.
В «Инвалиде», в фельетоне, только что прочел о немецких поэтах, умерших с голоду, холоду и в сумасшедшем доме. Их было штук 20, и какие имена! Мне до сих пор как-то страшно. Нужно быть шарлатаном… *
21. M. M. Достоевскому
3 сентября 1845. Петербург
Драгоценнейший друг мой!
Пишу к тебе тотчас же по приезде моем, по условию * . Сказать тебе, возлюбленный друг мой, сколько неприятностей, скуки, грусти, гадости, пошлости было вытерпено мною во время дороги и в первый день в Петербурге – свыше пера моего. Во-первых, простившись с тобою и с милой Эмилией Федоровной, я взошел на пароход в самом несносном расположении духа. Толкотня была страшная, а моя тоска была невыносимая. Отправились мы в двенадцать часов с минутами первого. Пароход полз, а не шел. Ветер был противный, волны хлестали через всю палубу; я продрог, прозяб невыносимо и провел ночь неописанную, сидя и почти лишаясь чувств и способности мыслить. Помню только, что меня раза три вырвало. На другой день ровно в четыре часа пополудни пришли мы в Кронштадт, то есть в 28 часов. Прождав часа три, мы отправились уже в сумерках на гадчайшем, мизернейшем пароходе «Ольга», который плыл часа три с половиною в ночи и в тумане. Как грустно было мне въезжать в Петербург. Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда. Особенно привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю. Весь этот спектакль решительно не стоит свечей. Ты, брат, желаешь побыть в Петербурге. Но если приедешь, то приезжай сухим путем, потому что нет ничего грустнее и безотраднее въезда в него с Невы и особенно ночью. По крайней мере, мне так показалось. Ты, верно, замечаешь, что мои мысли и теперь отличаются пароходной качкою.
Когда я приехал на квартиру, ночью в 12-м часу, то человека моего дома не оказалось; он служил на время в другом месте, и дворник, неизвестно чему обрадовавшийся, вручил мне осиротелый ключ моей шестисот рублей квартиры (в долгаx). Я дaже_не мог чаю напиться и так и лег в решительно апатическом состоянии. Сегодня, проснувшись в восемь часов, я увидел перед собой моего человека. Порасспросил его. Всё как было; по-старому. Квартира моя слегка подновлена. Григоровича и Некрасова нет еще в Петербурге, а известно лишь по слухам, что они явятся разве-разве к 15-му сентяб<ря>, да и то сомнительно. Дав самую коротенькую, но весьма решительную аудиенцию кой-каким кредиторам, я отправился по делам и ровно ничего не сделал. Познакомился с журналами, поел кое-что, купил бумаги и перьев – да и кончено. К Белинскому не ходил. Намереваюсь завтра отправиться, а сегодня я страшно не в духе. Вечером присел за письмо, которое уже почти кончается, а письмо вялое, тоскливое, вполне отзывающееся тяжким моим теперешним положением – «Скучно на белом свете, господа!» *
Это письмо пишу к тебе, во-первых, вследствие обещания написать поскорее, а во-вторых, оттого, что тоска и письмо просилось написаться. Ах, брат, какое грустное дело одиночество, и я начинаю тебе теперь завидовать. Ты, брат, счастлив, право, счастлив, сам не зная того. С следующею почтою напишу тебе еще. Занимает меня немного то, что я почти совсем (до 15-го) без ресурсов, но только немного, потому что я в настоящее время и думать ни об чем не могу. Впрочем, всё это вздор. Я ослаб страшно и хочу теперь лечь спать, потому что уже ночь на дворе. Что-то скажет будущность. Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. Моя работа не терпит принуждения.
Ах, брат, ты не поверишь, как бы я желал теперь хоть два часочка еще пожить вместе с вами. Что-то будет, что-то будет впереди? Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же * . Покамест прощай! До следующей почты. Прощай, возлюбленный друг мой; кланяйся и поцелуй за меня Эмилию Федоровну. Детям тоже кланяюсь. Помнит ли еще меня Федя или оказывает равнодушие? Ну, прощай, дражайший мой. Прощай.
Твой Достоевский.
Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение. Ну, прощай, мой голубчик. Послушай, что-то с нами будет лет через двадцать? Не знаю, что со мной будет; знаю только, что я теперь мучительно чувствую.
М<арии> И<ванов>не и А<лександ>ру Ада<мови>чу Бергманам мое нижайшее почтение. Петербург еще пуст. Всё порядочно вяло.








