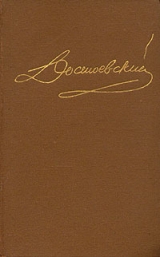
Текст книги "Том 15. Письма 1834-1881"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 86 страниц)
46. A. H. Майкову
18 января 1856. Семипалатинск
Семипалатинск, 18 генваря 56.
Давно хотелось мне ответить на Ваше дорогое письмо, дорогой мой Ап<оллон> Ник<олаеви>ч. Как-то повеяло на меня старым, прежним, когда я читал его. Благодарю Вас бессчетно за то, что меня не забыли. Не знаю, почему мне казалось всегда, что Вы меня не забудете, разве уж по одному тому, что я Вас забыть не мог. Вы пишете, что много прошло времени, много изменилось, много пережилось. Да! должно быть. Но одно то хорошо, что мы как люди не изменились. Я за себя отвечаю. Много любопытного мог бы я Вам написать о себе. Не пеняйте только, что теперь пишу письмо наскоро, урывками и, может быть, неясное. Но я испытываю в эту минуту то, что, вероятно, испытали и Вы, когда ко мне писали: невозможность высказать себя после стольких лет не только в одном, но даже и в 50 листах. Тут нужно говорить глаз на глаз, чтоб душа читалась на лице, чтобы сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово, сказанное с убеждением, с полною искренностию и без колебаний, глаз на глаз, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги.
Благодарю Вас особенно за сведения о себе. Я-то вперед знал, что так у Вас кончится и что Вы женитесь. Вы пишете мне, помню ли я Анну Ивановну? Но как же забыть. Рад ее и Вашему счастью, оно мне и прежде было не чуждо; помните в 47 году, когда всё это начиналось. * Напомните ей обо мне и уверьте ее в беспредельном моем уважении и преданности. Родителям Вашим скажите, что я знакомство и ласку их вспоминал и вспоминаю с наслаждением. * Получила ли Евгения Петровна книгу – разборы и критики в «Отеч<ественных> запис<ках>», писанные незабвенным Валерианой Николаевичем? Когда меня арестовали, у меня взяли эту книгу, потом возвратили, но под арестом я никак не мог доставить Евгении Петровне, а я знал, что она ей была дорога. Меня всё это очень печалило. За 2 часа до отправления в Сибирь я просил коменданта Набокова отдать книгу по принадлежности. Отдали ли? * Поклонитесь от меня Вашим родителям. Я от души желаю им счастья и долгой-долгой жизни. Может быть, Вы через брата знаете некоторые подробности обо мне. В часы, когда мне нечего делать, я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания в каторге, что было полюбопытнее. Впрочем, тут мало чисто личного. Если кончу и когда-нибудь будет очень удобный случай, то пришлю Вам экземпляр, написанный моей рукой, на память обо мне. * (Кстати, я и забыл и принужден теперь сделать отступление.) Письмо это доставит Вам Александр Егорович барон Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лицея с великодушноймечтой узнать край, быть полезным и т. д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень. Так как я Вас буду особенно просить обратить на него внимание и познакомиться с ним, если возможно, получше, то и дам Вам два слова о его характере: чрезвычайно много доброты, никаких особенных убеждений, благородство сердца, есть ум, – но сердце слабое, нежное, хотя наружность с 1-го взгляда имеет некоторый вид недоступности. Мне очень хотелось бы, чтоб Вы с ним познакомились вообще для его пользы. Круг полуаристократический или на ¾ аристократический, баронский, в котором он вырос, мне не совсем нравится, да и ему тоже, ибо с превосходными качествами, но многое заметно из старого влияния. Имейте Вы на него свое влияние, если успеете. Он того стоит. Добра он мне сделал множество. Но я его люблю и не за одно добро, мне сделанное. В заключение: он немного мнителен, очень впечатлителен, иногда скрытен и несколько неровен в расположении духа. Говорите с ним, если сойдетесь, прямо, просто, как можно искреннее и не начинайте издалека. Извините, что я Вас так прошу о бароне. Но, повторяю Вам, я его очень люблю. (Мои замечания о нем, да и вообще всё письмо это держите в секрете; впрочем, Вас учить нечего.)
Вы говорите, что вспоминали обо мне горячо и говорили: зачем, зачем? Я сам Вас вспоминал горячо, а на слово Ваше: зачем?– ничего не скажу, – будет лишнее. Вы говорите, что много пережили, много передумали и много выжили нового. Это и не могло быть иначе, и я уверен, что мы и теперь поладили бы с Вами в мыслях. Я тоже думал и переживал, и были такие обстоятельства, такие влияния, что приходилось переживать, передумывать и пережевывать слишком много, даже не под силу. Зная меня очень хорошо, Вы, верно, отдадите мне справедливость, что я всегда следовал тому, что мне казалось лучше и прямее, и не кривил сердцем, и то, чему я предавался, предавался горячо. Не думайте, что я этими словами делаю какие-нибудь намеки на то, за что я попал сюда. Я говорю теперь о последовавшем за тем, о прежнем же говорить не у места, да и было-то оно не более, как случай. Идеи меняются, сердце остается одно. Читал письмо Ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве долга, чести национальной – обо всем, о чем Вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели Вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? – да! я всегда был истинно русский – говорю Вам откровенно. Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг Вас, о котором Вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь Вам, я Вас не понял. Читал Ваши стихи и нашел их прекрасными; вполне разделяю с Вами патриотическое чувство нравственногоосвобождения славян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери. Как хорошо окончание, последние строки в Вашем «Клермонтском соборе»! * Где Вы взяли такой язык, чтоб выразить так великолепно такую огромную мысль? Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия.Для меня это давно было ясно. Вы пишете, что общество как бы проснулось от апатии. Но Вы знаете, что в нашем обществе вообще манифестаций не бывает. Но кто ж из этого заключал когда-нибудь, что оно без энергии? Осветите хорошо мысль и позовите общество, и общество Вас поймет. Так и теперь: идея была освещена великолепно, вполне национально и рыцарски (это правда, надо отдать справедливость) – и наша политическая идея, завещанная еще Петром, оправдалась всеми. * Может быть, Вас смущал, и смущал еще недавно, наплыв французских идей в ту часть общества, которое мыслит, чувствует и изучает? Тут была и исключительность, правда. Но всякая исключительность по натуре своей вызывает противоположность. Но согласитесь сами, что все здравомыслящие, то есть те, которые дают тон всему, всему, смотрели на французские идеи со стороны научной – не более, * и сами, может быть даже преданные исключительности, были всегда русскими. В чем же Вы видите новость? Уверяю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, – это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его; ибо был сам русский. Несчастие мое дало мне многое узнать практически, может быть, много влияния имела на меня эта практика, но я узнал практически и то, что я всегда был русским по сердцу. Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения. Но зачем, зачем я Вам всё это пишу? Ведь знаю, что ничего не выскажу в строчках, зачем же это писать! Скажу Вам еще кое-что о себе. В каторге я читал очень мало, решительно не было книг. Иногда попадались. Выйдя сюда, в Семипалатинск, я стал читать больше. Но все-таки нет книг и даже нужных книг, а время уходит. Не могу Вам выразить, сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать. А, между прочим, внутренняя работа кипела. Кое-что выходило хорошо; я это чувствовал. Я создал там в голове большую окончательную мою повесть. Я боялся, чтобы 1-я любовь к моему созданию не простыла, когда минут годы и когда настал бы час исполнения, – любовь, без которой и писать нельзя. Но я ошибся; характер, созданный мною и который есть основание всей повести, потребовал нескольких лет развития, и я уверен, я бы испортил всё, если б принялся сгоряча неприготовленный. Но, выйдя из каторги, хотя всё было готово, я не писал. Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня. Я потерял то, что составляло для меня всё. Сотни верст разделили нас. * Я Вам не объясняю дела, может быть, когда-нибудь объясню; теперь не могу. Однако же я не был совершенно праздным. Я работал; но я отложил мое главное произведение в сторону. * Нужно более спокойствия духа. Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических лиц и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним. Этот герой мне несколько сродни. Короче, я пишу комический роман, но до сих пор всё писал отдельные приключения, написал довольно, теперь всё сшиваю в целое. * Ну вот Вам реляция об моих занятиях: не мог не рассказать; это оттого, что заговорил с Вамии вспомнил наше старое, незабвенный друг мой. Да! Я много раз был счастлив с Вами: как же бы я мог Вас забыть! Вы пишете мне кое-что о литературе. За нынешний год я почти ничего не читал. Скажу Вам и свои наблюдения: Тургенев мне нравится наиболее – жаль только, что при огромном таланте в нем много невыдержанности. * Л. Т. мне очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь). * Островского совсем не знаю, ничего не читал в целом, но читал много отрывков в разборах о нем. Он, может быть, знает известный класс Руси хорошо, но, мне кажется, он не художник. К тому же, мне кажется, он поэт без идеала.Разуверьте меня, пожалуйста, пришлите мне, ради Бога, что получше из его сочинений, чтоб я мог знать его не по одним критикам. * Писемского я читал «Фанфарон» и «Богатый жених», – больше ничего. Он мне очень нравится. Он умен, добродушен и даже наивен; рассказывает хорошо. Но одно в нем грустно: спешит писать. Слишком скоро и много пишет. Нужно иметь побольше самолюбия, побольше уважения к своему таланту и к искусству, больше любви к искусству. Идеи смолоду так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу-с; побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его. Колоссальные характеры, создаваемые колоссальными писателями, часто создавались и вырабатывались долго и упорно. Не выражать же все промежуточные пробы и эскизы? Не знаю, поняли ли Вы меня? Что же касается до Писемского, то, мне кажется, он мало сдерживает перо. Наши дамы-писательницы пишут как дамы-писательницы, то есть умно, мило и чрезвычайно спешат высказываться. * Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бывает строгим художником? Даже несомненный, колоссальный художник George Sand не раз вредила себе своими дамскими свойствами. Много мелких Ваших стихов читал в журналах за всё время.Они мне очень нравились. Мужайте и работайте. Скажу Вам по секрету, по большому секрету; Тютчев очень замечателен; но… и т. д. Какой это Тютчев; не наш ли? Впрочем, многие из его стихов превосходны. * Прощайте, дорогой друг мой. Извините за бессвязность письма. В письме никогда ничего не напишешь. Вот почему я терпеть не могу m-me de Sévigné. Она писала уже слишком хорошо письма. * Кто знает? Может быть, когда-нибудь я обниму Вас. Дал бы Бог! Ради Бога, никому(вполне никому)не сообщайте письма моего. Обнимаю Вас.
Ваш Д<остоевский>.
47. A. E. Врангелю
23 марта 1856. Семипалатинск
Семипалатинск, 23 марта / 56 г. Пятница.
Добрейший, незаменимый друг мой Александр Егорович! Где Вы, что с Вами? и не забыли ли Вы меня? С следующего понедельника начинаю ждать от Вас обещанного письма с таким нетерпением, как будто счастья и осуществления всех настоящих надежд моих. * Под этим конвертом найдете Вы незапечатанные три письма: одно к брату, другое к ген<ерал>-ад<ъютанту> Эдуарду Ивановичу Тотлебену. * Не удивляйтесь! всё расскажу! А теперь приступаю прямо по порядку и начинаю с себя. Если б Вы только знали всю мою тоску, все мое уныние, почти отчаяние теперь, в настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю Вашего письма как спасенья? Оно должно многое, многое разрешить в судьбе моей. Вы обещали мне написать в возможно скором времени по прибытии в Петербург и уведомить о всем том, чего я надеюсь и о чем Вы так братски хлопотали за меня целый год, – откровенно, не утаивая ничего, не прикрашивая истину и отнюдь не обнадеживая меня шаткими надеждами. Таких-то известий жду от вас, как жизни. Не показывайте моего письма никому, ради Бога. Уведомляю Вас, что дела мои в положении чрезвычайном. La dame (la mienne) [43]43
Дама (моя) (франц.).
[Закрыть], * грустит, отчаивается, больна поминутно, теряет веру в надежды мои, в устройство судьбы нашей и, что всего хуже, окружена в своем городишке (она еще не переехала в Барнаул) людьми, которые смастерят что-нибудь очень недоброе: там есть женихи. Услужливые кумушки разрываются на части, чтоб склонить ее выйти замуж, дать слово кому-то, имени которого еще я не знаю. В ожидании шпионят над ней, разведывают, от кого она получает письма? Она же всё ждет до сих пор известия от родных, которые там у себя, на краю света, должны решить здешнюю судьбу ее, – то есть возвратиться ли в Россию или переезжать в Барнаул. Письма ее последние ко мне во всё последнее время становились всё грустнее и тоскливее. Она писала под болезненным впечатлением: я знал, что она была больна. Я предугадывал, что она что-то скрывает от меня. (Увы! я этого Вам никогда не говорил: но еще в бытность Вашу здесь par ma jalousie incomparable [44]44
моей исключительной ревностью (франц.).
[Закрыть]я доводил ее до отчаяния, и вот не потому-то она теперь скрывает от меня.) И что ж? Вдруг слышу здесь, что она дала слово другому, в Кузнецке, выйти замуж. Я был поражен как громом. В отчаянии я не знал, что делать, начал писать к ней, но в воскресенье получил и от нее письмо, письмо приветливое, милое, как всегда, но скрытное еще более, чем всегда. * Меньше прежнего задушевных слов, как будто остерегаются их писать. Нет и помину о будущих надеждах наших, как будто мысль об этом уж совершенно отлагается в сторону. Какое-то полное неверие в возможность перемены в судьбе моей в скором времени и, наконец, громовое известие: она решилась прервать скрытность и робко спрашивает меня: «Что, если б нашелся человек, пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный, и если б этот человек делал ей предложение – что ей ответить?» Она спрашивает моего совета. Она пишет, что у нее голова кружится от мысли, что она одна, на краю света, с ребенком, что отец стар, может умереть, – тогда что с ней будет? Просит обсудить дело хладнокровно, как следует другу,и ответить немедленно. Protestation d’amour [45]45
Уверения в любви (франц.).
[Закрыть]были, впрочем, еще в предыдущих письмах, <нрзб>прибавляет, что она любит меня, что это одно еще предположение и расчет. Я был поражен как громом, я зашатался, упал в обморок и проплакал всю ночь. Теперь я лежу у себя <нрзб>.Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь Вам, что я пришел в отчаяние. Я понял возможность чего-то необыкновенного, на что бы в другой раз никогда не решился… Я написал ей письмо в тот же вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! ангел мой! Она и так больна, а я растерзал ее! Я, может быть, убил ее этим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь ее. Тут были и угрозы, и ласки, и униженные просьбы, не знаю что. Вы поймете меня, Вы мой ангел, моя надежда! Но рассудите: что же делать было ей, бедной, заброшенной, болезненно мнительной и, наконец, потерявшей всю веру в устройство судьбы моей! Ведь не за солдата же выйти ей. Но я перечел все ее письма последние в эту неделю. Господь знает, может быть, она еще не дала слово, и, кажется, так; она только поколебалась. Mais – elle m’aime, elle m’aime, [46]46
Но – она меня любит, она меня любит (франц.).
[Закрыть]это я знаю, я вижу – по ее грусти, тоске, по ее неоднократным порывам письмах и еще по многому, чего не напишу Вам. Друг мой! я никогда не был с Вами вполне откровенным на этот счет. Теперь что мне делать! Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния… Сердце сосет тоска смертельная, ночью сны, вскрикиванья, горловые спазмы душат меня, слезы то запрутся упорно, то хлынут ручьем. Посудите же и мое положение. Я человек честный. Я знаю, что она меня любит. Но что если я противлюсь ее счастью? С другой стороны, не верю я в жениха кузнецкого! Не ей, больной, раздражительной, развитой сердцем, образованной, умной, отдаться бог знает кому, который, может быть, про себя и побои считает законным делом в браке. Она добра и доверчива. Я ее отлично знаю. Ее можно уверить в чем угодно. К тому же сбивают с толку кумушки (проклятые) и безнадежность положения. Решительный ответ, то есть узнаю всю подноготную ко 2-му апреля, но, друг мой, посоветуйте же, что мне делать? Впрочем, к чему я спрашиваю Вашего совета? Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае. Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш! Само собой разумеется, что если б уладились дела мои (насчет манифеста), * то я был бы предпочтен всем и каждому;ибо она меня любит, в этом я уверен. Скажу же Вам, что у нас, на нашем языке (у меня с ней), называется устройством судьбы моей: переход из военной службы в статскую, место при некотором жалованье, класс (хоть 14-й) или близкая надежда на это и какая-нибудь возможность достать денег, чтобы прожить по крайней мере до устройства окончательного дел моих. Само собой разумеется, что выход из военной или поступление в статскую – хоть это только и без класса и без больших денег – сочтется с ее стороны за чрезвычайную надежду и воскресит ее. Я же с своей стороны объявлю Вам мои надежды; чего мне надобно наверно,чтоб отбить ее от женихов и остаться перед ней честным человеком, а потом уже спрошу Вас: чего мне ожидать из того, что мне надобно, что может сбыться, что не сбыться? – так как Вы в Петербурге и многое знаете, чего я не знаю.
Мои надежды, дорогой, бесценный и, может быть, единственный друг мой, Вы, чистое, честное сердце, – мои надежды – выслушайте их. Как ни думаю, они мне кажутся довольно ясными. Во-первых, неужели не будет никакой милости нынешним летом, по заключении мира * или при коронации? (Вот этого-то известия я и ожидаю от Вас теперь с судорожным нетерпением.) Второе, положим, то еще в области надежд; но неужели нельзя мне перейти из военной в статскую и перейти в Барнаул, если ничегоне будет другого по манифесту? Ведь Дуров перешел же в статскую. Я Вам говорю, что уж этот один переход воскресит ее и она прогонит всех женихов; ибо в последнем и в предпоследнем письмах она пишет, что любит меня глубоко, что жених только расчет,что умоляет меня не сомневаться в любви ее и верить, что это только одно предположение,последнему я верю; может быть, ей предлагали и ее уговаривают, но она еще не дала слова;я справлялся о слухах, отыскивал их источник, и оказывается много сплетен. К тому же, если б дала слово, она бы мне написала. След<овательно>, это еще далеко не решено. Ко 2-му апрелю жду от нее письма. Я требовал полной откровенности и тогда узнаю всю подноготную. О друг мой! Мне ли оставить ее или другому отдать. Ведь я на нее имею права,слышите, права! Итак: переход мой в статскую службу будет считаться большою надеждою и ободрением. 3) Долго ли я буду без чина? Как Вы думаете? Неужели будет заперта моя карьера? Такие ли преступники, как я, получали всё? Не верю я тому! Верю, что через два года, если даже теперь ничего не будет, я ворочусь в Россию. Теперь самое важнейшее – деньги. Две вещи, одна – статья, * другая – роман, будут готовы к сентябрю. * Хочу формально просить печатать. Если позволят, то я на всю жизнь с хлебом. Теперь, не так как прежде, столько обделанного, столько обдуманного и такая энергия к письму! Надеюсь написать роман (к сентябрю) получше «Бедных людей». Ведь если позволят печатать (а я не верю, слышите: не верю, чтоб этого нельзя было выхлопотать), ведь это гул пойдет, книга раскупится, доставит мне деньги, значение, обратит на меня внимание правительства, да и возвращение придет скорей. А мне что надобно: 2–3 тысячи в год ассигнациями. Итак, честно ли я поступлю с ней или нет? Что ж, этого мало, что ли, для содержания нашего? Года через два возвратимся в Россию, она будет жить хорошо, и, может быть, даже наживем что-нибудь. Ну неужели, имев столько мужества и энергии в продолжение 6-ти лет для борьбы с неслыханными страданиями, я не способен буду достать столько денег, чтобы прокормить себя и жену. Вздор! Ведь, главное, никто не знает ни сил моих, ни степени таланта, а на это-то, главное, я и надеюсь. Наконец, последний случай: ну, положим, что еще год не позволят печатать? * Но я, при первой перемене судьбы, напишу к дяде, попрошу у него 1000 руб. серебр<ом> для начала на новом поприще, не говоря о браке; я уверен, что даст. Ну неужели не проживем на это году? А там дела уладятся. Наконец, я могу напечатать incognito и все-таки взять денежек. Поймите же, что все эти надежды только в том случае, если нынешнее лето ничего не будет (манифест). А что, если будет? Нет, я не подлец перед ней! А так как она сама упоминает, что рада без сожаленья бросить всех женихов для меня, если б только у нас уладились дела, то, значит, я еще ее избавлю от беды. Но что я говорю! Это решено, что я ее не оставлю! Она же погибнет без меня! Алекс<андр> Егорович, душа моя! Если б Вы знали, как жду письма Вашего! Может быть, в нем есть положительные известия, тогда пошлю его ей в оригинале, а если нельзя, вырву строки о надеждах на устройство судьбы моей и пошлю.
Но понимаете, в каких я теперь хлопотах! Есть у меня до вас много просьб: ради Христа, исполните все. 1-я просьба.Вы найдете тут письмо к Эд<уарду> Ив<ановичу> Тотлебену. Вот у меня какая идея: с этим человеком когда-то я был знаком хорошо; с братом его я друг с детства. * Еще за несколько дней до ареста моего я случайно встретился с ним, и мы так приветливо подали друг другу руки. Что же? Он, может быть, не забыл меня. Человек он добрый, простой, с великодушным сердцем (он это доказал), настоящий герой севастопольский, достойный имен Нахимова и Корнилова. Снесите ему мое письмо. Прочтите его сначала хорошенько. Вы, верно, заметите по тону моего письма к нему, что я колебался и не знал, какему писать. Он теперь стоит так высоко, а я кто такой? Захочет ли вспомнить меня? На всякий случай я и написал так. Теперь: отправьтесь к нему лично (надеюсь, что он в Петербурге) и отдайте ему письмо мое наедине. Вы по лицу его тотчас увидите, как он это принимает. Если дурно, то и делать нечего; в коротких словах объяснив ему положение и замолвив словечко, откланяйтесь и уйдите, попрося наперед у него насчет всего этого дела секрета. Он человек очень вежливый (несколько рыцарский характер), примет и отпустит Вас очень вежливо, если даже и ничего не скажет удовлетворительного.Если же Вы по лицу его увидите, что он займется мною и выкажет много участия и доброты, о, тогда будьте с ним совершенно откровенны; прямо, от сердца войдите в дело; расскажите ему обо мне и скажите ему, что его словотеперь много значит, что он мог бы попросить за меня у монарха, поручиться (как знающий меня) за то, что я буду вперед хорошим гражданином, и, верно, ему не откажут. Несколько раз по просьбе Паскевича государь прощал преступников-поляков. Тотлебен теперь в такой милости, в такой любви, что, право, его просьба будет стоить Паскевичевой. Вообще же я во многом надеюсь на Вас. Вы скажете горячее слово, я уверен. Ради Бога, не откажите мне в этом. Напирайте собственно на то, чтоб мне оставить военную службу (но главное, если можно чего-нибудь более, то есть даже полного прощения, то не упускайте этого из виду). Нельзя ли, например, уволить меня с правом поступления в статскую 14-м классом и с возможностию возвратиться в Россию, а главное, печатать? Вообще прочтите внимательно мое письмо к Тотлебену. Нельзя ли будет пустить в ход стихотворение? * Я читал в газетах, что на обеде Майков говорил ему стихи. * Не знаком ли он с ним? Если так, то расскажите всё Майкову, под секретом, и попросите, чтоб и он попросил за меня Тотлебена и отправился бы к нему вместе с Вами. Не встретите ли как-нибудь младшего брата Тотлебена, Адольфа? Тот мне друг. Скажите ему обо мне, и тот бросится на шею к брату и будет умолять его хлопотать за меня. Само собою разумеется, Вы мое письмо к Тотлебену запечатайте в конверт и так подайте. Мне же как можно скорее пришлите уведомление обо всем этом, хорошо ли, худо ли будет. Но вот беда: чтоб Lamotte не уехал к тому времени по своему округу! Он поедет на месяц. Я думаю, не уедет! Кажется, наверно так. Поторопитесь отвечать мне. Боюсь еще одного: хорошо ли, например, принял письмо мое кн<язь> Одоев<ский>. * Не обескуражены ли Вы и, может быть, нехотяпойдете к Тотлеб<ену>.Ангел мой! Не оставляйте меня, не доводите меня до отчаяния!
2-я просьба.Напишите мне подробно и скорее: как Вы нашли моего брата? В каких он мыслях обо мне? Прежде это был человек, меня любивший горячо! Он плакал, прощаясь со мною. Не охладел ли он ко мне! Не изменил ли характера! Как грустно было бы мне это! Не обратился ли он весь в наживу денег и забыл всё старое? Не верится мне как-то этому. Но опять: чем же объяснить, что он не пишет иногда по 7по 8месяцев, пишет бог знает что, даже в бесцензурном письме с Хоментовским не отвечал ничего на мои вопросы, и так мало я вижу прежнего, задушевного! Никогда не забуду, что он сказал Хоментовскому, передавшему ему мою просьбу похлопотать за меня, что мне лучше оставаться в Сибири.В декабре мы писали (помните, через Вашего брата), я просил денег, прося их выслать на Ламота. Вы знаете, как я нуждался! Что ж, ни слуху ни духу! Я понимаю, что он может их не иметь, ибо он торгует, но в крайних случаях спасают человека. Притом же недолго я буду у них на шее и всё отдам. Притом же и прошу-то его об деньгах, помня его же слова при прощании со мною. В письме к нему, здесь приложенном, прошу его кроме тех 100 выслать мне еще, сколько может больше. Мне нужно это на всякий случай (если б я получил свободу, то тотчас же полетел бы в Кузнецк, а без денег этого сделать нельзя). Кроме того, если уедет она в Барнаул, уговорю ее принять от меня; я ведь Вам не могу написать, но мне нужны, нужны деньги до зарезу; один раз в жизни они только так бывают нужны. 300 руб. серебром спасли бы меня. Но даже 200 и то хорошо, включая сюда те 100, которые уже я просил в декабре. Разумеется, я это Вам пишу как другу, а Вы не вздумайте сами чем-нибудь помочь! Я и то перед Вами подлецом,должен Вам пропасть! Во всяком случае, перечтите мое письмо к брату. Этого, что теперь пишу к Вам, ему не показывайте. Но я его отсылаю за пояснениями к Вам: расскажите ему всё. Что, если он, подобно всевозможным дядюшкам и родным в романах, сердится на любовь мою к нейи отговаривает Вас помогать мне! Но ведь мне 35 лет. Что он думает? Что я его люблю из-за денег, которые он мне присылает. Вздор! У меня гордость есть. Я буду есть один хлеб, и погибнем я и она,но не надобно мне от него денег, посланных с таким чувством. Не хочу подаяния! Мне нужно брата, а не денег! Мы с ним когда-то и вздорили, но горячо любили друг друга, и, клянусь Вам, я бы голову за него отдал. У меня дурной характер, но когда дойдет до дела, тогда я стою за друзей. Когда нас арестовали, то уж тут, кажется бы, в первую минуту ужаса, позволительно бы подумать прежде всего о себе. Что же? Я думал только об нем, о том, как поразит арест его семью, как поразит его бедную жену; * я умолял третьего моего брата, которого арестовали ошибкой, не объяснять ошибки арестовавшим как можно долее и послать денег брату, полагая, что у него нет. * Неужели он забыл всё старое и рассердится на то, что я прошу много денег, и когда? Когда для меня самый критический момент всей жизни. Напишите, как он принял Вас, как Вы его нашли (откровенно), напишите его образ мыслей обо всем этом делеи слушайте только своего золотого сердца, добрейший друг; да будьте пооткровеннее с Майковым на мой счет. Это превосходный человек и меня любит. Разумеется, просите держать все в секрете. 3-я просьба.Ради Бога, поймите меня, помогайте мне, не думая, что я чем-нибудь могу повредить своей карьере моею любовью к ней, и 2-е) не подумайте, чтоб я поступал с нею нечестно, отвлекая ее от выгодного бракас другим, имея в виду только одну мою эгоистическую пользу. Нет ни выгоды ей в ее браке с другим, ни малодушногоэгоизма во мне, и потому этого нельзя думать. В противном случае, клянусь, я готов жизнь мою за нее отдать и отказался бы от всех надежд моих в ее пользу. Рассудите: она в каждом письме своем и даже в последнем пишет, что любит меня более всего на свете, пишет, что сватающийся человек только расчетс ее стороны, и особенно умоляет меня верить, что это только еще одно предположение. Поймите же и ее положение. Она с жадностью ждет перемены в судьбе моей, и всё нет да нет ничего! Она приходит в отчаяние и, понимая, что она мать, что у ней есть ребенок, поколебалась на возможность, если мои дела не устроятся, выйти замуж. Еще две почты назад она писала мне, успокаивая мою ревность, что ни один из кузнецких не стоит моего пальца, что она хотела бы мне сказать что-то, но боится меня, что кругом нее интригуют всякие гады, что всё это так грубо делается, без малейшего знания приличий, уверяет в том же письме, что она более чем когда-нибудь чувствует, что я необходим ей, а она мне, и пишет: «Приезжайте скорее, вместе посмеемся». Конечно, посмеемся над проделками кумушек, давших себе слово выдать ее замуж. Но ведь она, бедная, слабая, всего боится. Ведь, наконец, собьют ее с толку, а главное, загрызут, если увидят, что она не поддается на их проделки, и она будет жить одна среди врагов. Поймите же, что это для нее смерть и гибель выйти там замуж! Я знаю, что если б малейшая надежда в судьбе моей – и она бы воскресла, укрепилась духом и, получив письмо отца (с разрешением), уехала бы в Барнаул или в Астрахань. Что же касается до меня, то, конечно, мы были бы с ней счастливы. В браке со мной она была бы всю жизнь окружена хорошими людьми и хорошим, большим уважением, чем с тем чиновником. Я сам ведь буду чиновник и скоро, может быть. Я уверен, что могу прокормить семью. Я буду работать, писать. Ведь если не будет теперь никаких даже милостей, все-таки можно будет перейти в штатскую, взять 14-й класс поскорее, получать жалование, а главное, я могу печатать, даже incognito печатать. Буду с деньгами. Наконец, ведь это всё не сейчас, а к тому сроку дело уладится. Знаете, что я ей отвечал и чего прошу у нее? Вот что: что так как раньше окончания траура, раньше сентября то есть, * она не может выйти замуж, то чтоб подождала и не давала томурешительного слова. Если же до сентября мое дело не уладится, то тогда, пожалуй,пусть объявит согласие. Согласитесь, что если б я бесчестно и эгоистически действовал с ней, то повредить бы ей не мог просьбой подождать до сентября. К тому же она любит меня. Бедненькая! Она измучается. Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке бог знает с кем. Она в положении моей героини в «Бедных людях», которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!). Голубчик мой! пишу Вам всё это для того, чтоб Вы действовали всем сердцем и всей душой в мою пользу. Как на брата надеюсь на Вас! Иначе я дойду до отчаяния! К чему мне жизнь тогда! Клянусь Вам, что я сделаю тогда что-нибудь решительное! Умоляю Вас, ангел мой! А если Вам когда-нибудь понадобится человек, которого надо будет послать за Вас в огонь и в воду, то этот человек готов, этоя, а я не покидаю тех, кого люблю, ни в счастье, ни в беде, и доказал это! и потому, ангел мой, 4-я просьба.Ради Бога, не теряя времени, напишите ей в Кузнецк письмо и напишите ей яснее и точнее все надежды мои. Особенно если есть что-нибудь положительноев перемене судьбы моей, то напишите это ей во всех подробностях, и она быстро перейдет от отчаяния к уверенности и воскреснет от надежды, напишите всю правду и только правду.Главное, подробнее. Это очень легко. Вот так: «Мне передал Ф<едор> М<ихайлович> Ваш поклон (она Вам кланяется и желает счастья), – так как, я знаю, Вы принимаете большое участие в судьбе Ф<едора> М<ихайловича>, то спешу порадовать Вас, есть вот такие-то известия и надежды для него…» и т. д. Наконец: «Я много думал о Вас. Поезжайте в Барнаул, там Вас примут хорошо» и т. д. Вот так и напишите, да еще: она писала мне, что Вы, уезжая, ей написали. Очень рада и благодарна, что Вы ее не забыли, но пишет, что ничего не видно из письма Вашего, что ей хорошо будет в Барнауле, что Вы даже не пишете, согласен ли Барнаул принять меня, и что она не знает поэтому: не примут ли ее с досадою, как попрошайку, когда она явится туда. Верно, Вы были в хлопотах и расстройстве сами, когда так неполно и вскользь ей написали. Понимаю это и не ропщу на Вас. Но, ради Бога, поправьте теперь дело. Для меня, для меня это сделайте, мой ангел, брат мой, друг мой! Спасите меня от отчаяния! ведь Вы больше чем кто другой могли бы понять меня!








