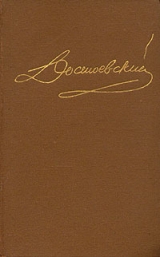
Текст книги "Том 15. Письма 1834-1881"
Автор книги: Федор Достоевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 86 страниц)
84. M. M. Достоевскому *
26 марта 1864. Москва
Москва, 26 марта/64
Любезный брат, у Черенина я достал 3-го дня «Эпоху», которую он неизвестно как получил так скоро, и 1½ дни читал я ее и пересматривал. Вот мое впечатление: издание могло бы быть понаряднее, опечатки бесчисленные, до крайнегонеряшества, ни одной руководящей, вводной, хотя бы намекающей на направление статьи, кроме статьи Косицы (хотя и хорошей, даже очень, но для 1-го номера нового журнала – недостаточной). Знаю, что всё это от запрещения «Ряда статей». * Но мне-то тем нестерпимее, потому что эти 2 номера решительно имеют теперь вид сборника. Есть и ёрничество, совершенно, впрочем, извинительное, когда издаешь 2 номера на скорую руку, а именно: роман Шпильгагена, * «Процесс» * и «Записки помещика»; * все три статьи занимают целую половину 2-х книг. Жаль, что не читал Ержинского. Если хорошо – так всё спасено, а если нехорошо, то очень плохо. Теперь о хорошей стороне: все статьи, которые я прочел, занимательны (Шпильгагена я не читал; может, и хорошо. Я говорю только об ужасном объеме). Обертка пестра, и названия статей завлекательны. Некоторые статьи очень порядочны, то есть «Призраки» (по-моему, в них много дряни: что-то гаденькое, больное, старческое, неверующееот бессилия, одним словом, весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия много выкупит, я перечел в другой раз). Статьи Страхова, Ап. Григорьева, * Аверкиева, * «Что такое польские восстания», компиляция из Смита, * «Ерши» * и «Бедные жильцы» Горского, * даже Милюкова * мне очень понравились. В защиту на все нападения на Горского можно сказать, что это совсем не литература и с этой точки глупо рассматривать, а просто фактыи полезные. Не читал еще «Савонаролы». Очень бы желалось знать, какого рода эта статья. * Но всё это меркнет оттого, что запрещен «Ряд статей». Ради Бога, проси Страхова выправить свою статью в цензурном отношении для следующего № или написать новый «Ряд статей». Как можно скорей статью руководящую!
Пожалуюсь и за мою статью: опечатки ужасные и уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, то есть с надерганными фразами и противуреча самой себе. Но что ж делать! Свиньи цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду,– то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, – то запрещено. * Да что они, цензора-то, в заговоре против правительства, что ли?
Если не эффект, то любопытство номер произведет наверно. А это хорошо. Вообще же номер – очень порядочный, взяв в соображение время. Насчет же разнообразия я даже и не ожидал, что будет такое. Одно жаль, что никак не разберешь, какого мы направления и что именно мы хотим говорить. * Прошу тебя, голубчик Миша, отвечай мне как можно скорей и подробнее о том, что сказали про журнал. Здесь еще публика не получала, и потому ничьего мнения еще не слыхал.
Марья Дмитриевна до того слаба, что Алек<сандр> Пав<лович> не отвечает уже ни за один день. Долее 2-х недель она ни за чтоне проживет. Постараюсь кончить повесть поскорее, но сам посуди – удачное ли время для писанья?
Не слыхал ли чего о Паше? Кроме одного письма – ничего не написал, а я велел каждую неделю. Что с ним делается, как он живет? Ради Бога, урвись как-нибудь или поговорить с ним, или пошли к нему на квартиру, что там делается? Это негодяй какой-то!
Вот что еще, брат: он, пожалуй, будет еще потом меня упрекать за то, что я его не выписал в Москву, чтоб проститься с матерью. Но Марья Дмитриевна положительно не хочет его видеть и сама тогда прогнала из Москвы. Ее мысли не изменились и теперь. Она не хочет его видеть. Чахоточную и обвинять нельзя в ее расположении духа. Она сказала, что позовет его, когда почувствует, что умирает, чтоб благословить. Но она может умереть нынче вечером, а между тем сегодня же утром рассчитывала, как будет летом жить на даче и как через три года переедет в Таганрог или в Астрахань. Напомнить же ей о Паше невозможно. Она ужасно мнительна, сейчас испугается и скажет: «Значит, я очень слаба и умираю». Чего же мучить ее в последние, может быть, часы ее жизни? И потому я не могу напомнить о Паше. Хотелось бы мне, чтоб он знал это, если можешь, вырази это ему как-нибудь, но не пугай тоже очень (хотя его, кажется, не испугаешь).
Еще одна важная очень просьба: как умрет Марья Дмитриевна, я тотчас же пришлю телеграмму к тебе, чтоб ты немедленно отправил Пашу, непременно в тот же день, в Москву. Невозможно, чтоб он и на похоронах не присутствовал. Платье у него всё цветное, и потому очень надо, перед отправлением,успеть ему, где-нибудь в магазине готовых плат<ьев> <…> [70]70
Здесь и далее подлинник поврежден (оборван).
[Закрыть]черное – сюртюк, штаны, жилет <…> дешевейшую цену.Всё это я тебе <…> прошу и умоляю тебя как единственного моего друга, сделай это и окажи мне эту великую услугу в моем тяжелом положении немедленно, как получишь телеграмму. А она будет, может быть, скоро.
NB. Да когда будешь отправлять Пашу, то в толчки гони его ехать, а то он, пожалуй, выдумает какую-нибудь отговорку и отложит до завтра. Приставь к нему в тот день для наблюдений кого-нибудь. Ради Бога.
Пишешь, что отправил в понедельник деньги, – еще не получал.
Я всё не совсем здоров, то есть не прежнею болезнию, а остатками, то есть, главное, слабостью. Устаю ужасно, а отчего бы, кажется?
Прощай, голубчик, письмо невеселое, будь здоров. Обнимаю тебя и всех твоих.
Твой весь Ф. Достоевский.
85. M. M. Достоевскому
5 апреля 1864. Москва
5 апреля/64.
Друг мой Миша!
Напишу тебе два слова.
Повесть моя, если б только силы, да досуг, да без перерыва,могла бы быть написана в этом месяце, но уж отнюдь не в первой половине. * Это во всяком случае. Теперь рассуди: книгу за мартнадобно выдать непременно в апреле. Неблаговидно начинающему журналисту являться с мартовской книгой в мае. Могу ли я кончить и поспеть? По всем признакам – нет. И главное – перерыв, который не от меня зависит и за последствия которого я не могу ручаться. * И потому, голубчик мой, обращаюсь к тебе: как можно скорей напиши мне: к которому числу, самое позднее,надо иметь тебе в руках повесть? По ответу твоему буду судить – кончу иль не кончу. Во всяком же случае, возьми в соображение могущие быть обстоятельства, которые остановят работу и которые не от меня зависят.
Напиши мне тоже: есть ли у тебя что-нибудь в отделе повестей на март кроме моей и что именно?
Мое соображение такое: можно явиться и без известных имен в этом отделе. Об моей повести можно уведомить (я думаю, совершенно не надо), что напечатается в апрельской книжке. Наконец, хочется хорошенько написать и не комкать как-нибудь, а главное, что я, хоть бы, может быть, и мог окончить, но ни сил (физических), ни обстоятельств благоприятных к тому не имею.
И потому я решил так.
До получения от тебя ответа буду усиленнои настойчивопродолжать повесть (будь что будет). Если напишешь, что можно, за нужду,и обойтись без моей повести, то я тотчас же ее отложу и успею-таки в этот номер ( наверно,если скоро ответишь) написать что-нибудь в критику (не о Костомарове, так как эта статья велика).
Если ж напишешь, что нельзя обойтись, – буду писать повесть. Впрочем, по числу, тобой означенному для срока присылки, сам решу, что возможно, что невозможно, и только в случае совершенной невозможности оставлю повесть.
Я сознаю, брат, что теперь я тебе плохой помощник. Наверстаю потом. Теперь же положение мое до того тяжелое, что никогда не бывал я в таком.Жизнь угрюмая, здоровье еще слабое, жена умирает совсем, по ночам, от всего дня, у меня раздражены нервы. Нужен воздух, моцион, а и гулять некогда и негде (грязь). Мое теплое (слишком ватное) пальто мне уже тяжело (вчера было +17 градусов в тени). Да что описывать. Слишком тяжело. А главное, слабость и нервы расстроены.
А между прочим, только на тебя и надежда. Брат, деньги у меня текут как вода. Поверь, что расходы огромные. На себя копейки не трачу, летних калош не соберусь купить, в зимних хожу. Не могу существовать без денег. Поддержи же меня теперь, в слишком эксцентрическом положении, и поверь, что скоро заработаю.
Читал на публичном чтении. * Читал и Островский, который, хоть и приветливо, но как бы с обидчивостью,заметил мне, что прежде ты присылал ему «Время», а теперь «Эпохи» не выслал. Я обещал тебе передать. Если находишь нужным, пошли ему билет на Базунова.
Видел Чаева. Он спрашивал меня, какой был твой ответ насчет его драмы «Александр Тверской»? Напиши, пожалуйста. (Стихи хороши. Драмы же я сам еще не читал, а о рекомендации в «Дне» я писал тебе.)
Прощай, обнимаю тебя, ослабел ужасно и едва пером вожу. Теперь 12 часов, а к ночи я делаюсь ужасно слаб и не работаю (что очень худо; прежде лучшаяработа была по ночам). Прощай, голубчик.
Твой Ф. Достоевский.
Прочел половину «Загадочных натур». По-моему, ничего необыкновенного. Натуры совсем-такине загадочные, слишком обыкновенные. Где дело касается до современных идей, то видна молодость и некоторое нахальство. Много истинной поэзии, но какое же и колбасничество. Хорошо только, что не скучно.
Ты скажешь, может быть, чтоб я присылал по частям повесть. Но ведь мне, главное-то, нужно крайний срок знать и повесть поспешностью не испортить.
Пожалуйста, не церемонься и меня не жалей. Мне ведь всё равно что ни писать, только бы кончить. Хотелось бы только повесть кончить получше.
86. M. M. Достоевскому
13–14 апреля 1864. Москва
Москва, 13 апреля/64.
Милый друг мой Миша,
Сегодня получил твои два письма: одно с деньгами 100 руб. и с припиской в две строки, за что (то есть за письмо и за приписку) благодарю тебя от всего сердца; а другое письмо, от 10 апреля, на которое спешу отвечать. Я уже писал тебе о моей повести в двух письмах. Что она не готова и что я оставил тебя в самое критическое время (время первых книг журнала) без повести и без статей, * – я сам слишком мучительно знаю, друг мой милый. Но что же делать, всё это внешний фатализм; всё это не от меня зависело. По году жизни бы отдал за каждую книгу журнала, только бы этого не было. Я в положении ужаснейшем, нервном, больном нравственно и только тащу с тебя деньги, потому что траты мои не уменьшаются, а увеличиваются. Всё это меня мучит, мучит, и я не знаю, чем это кончится. Но о деле: что я писал о повести, то и теперь пишу: повесть растягивается; очень может быть, что выйдет эффектно; работаю я изо всех сил, но медленно подвигаюсь, потому что всё время мое поневоле другим занято. Повесть разделяется на 3 главы, из коих каждая не менее 1½ печат<ных> листов. 2-я глава находится в хаосе, 3-я еще не начиналась, а 1-я обделывается. В 1-й главе может быть листа 1½, может быть обделана вся дней через 5. Неужели ее печатать отдельно? Над ней насмеются, тем более что без остальных 2-х (главных) она теряет весь свой сок. Ты понимаешь, что такое переходв музыке. Точно так и тут. В 1-й главе, по-видимому, болтовня; но вдруг эта болтовня в последних 2-х главах разрешается неожиданной катастрофой. Если напишешь, чтоб я присылал одну 1-ю главу, – я пришлю. Напиши же непременно. Пожертвовать такими пустяками я еще могу и пришлю главу. Но вот что: ты сам писал, что хочешь выдать к празднику книгу. Когда ж присылать? Неужели ж выйти после праздников? * Это задержит подписку. Теперь о подписке. Брат, я уверен и твоя собственная опытность должна бы научить и тебя, что теперь подписка уже почти проходит и что если б мы в каждом номере выдавали бы по Тургеневу, то и тогда бы не подняли сильноподписку. У тебя есть большая вещь Зарубина. Печатай ее. Это недурно. * Возьми у Милюкова рассказов и проч. * Похлопочи только о критике, главное, о критике. Направление наше, конечно, для публики несомненно, но статей-то, специальноразрабатывающих направление, мало. О, конечно надо, необходимо надо, чтоб март был даже лучше первых двух номеров. Но что же делать? Да и на подписку за нынешний год уже нельзя надеяться. Но зато мы последующими номерами возьмем; целым годом возьмем и зато к концу года выработаем великолепную подписку на будущий год. За это отвечаю. Деньги же на этот год доставай здесь у тетки. Ты, вероятно, получил уже мое ответное письмо на этот вопрос. Было бы сумасшествием не испробовать (имея столько вероятностей на успех) этот заем! Издавай же книгу скорее, до Пасхи, и приезжай на Святой сюда.
Кстати: достань для марта, если возможно, статью у Горского, с бойким заглавием. * Вот такие-то статьи и читаются публикой. Я видел, как в Москве эту статью стар и мал читали и об ней говорили. Это ясно, это понятно. Это и заманчиво. Статью же Тургенева всё, что называется массой, не хвалит, а таких людей как песку морского. * «Загадочных натур» тоже побольше. * Обещай, что в будущем номере навернобудет продолжение «Подполья». Объяви, что я был болен. * Я читал в газетах объявление о выходе мартовской книги «Отеч<ественных> записок», одно это объявление – прием микстуры.
О Чаеве я тебе писал уже раз и всё ждал ответа. Написал с полстраницы; помню это, как то, что я живу. Ты верно проглядел, или письмо затерялось. О драме этой я лично не имею понятия. Читал он ее здесь на всех литературных чтениях. Аксаков в газете «День» хвалил стихи. Чаев – человек образованный и смыслит русскую историю. Островский сказал, что драматизма нет, но что это хроника,а стихи прекрасные и есть удачные сцены. Драма его была давно уже послана к Боборыкину, Дмитриев (повесть «Лес» и проч.), его приятель, писал ему на днях, что берет его драму от Боборыкина и несет в «Эпоху». * Боборыкин не решался напечатать ее всю, а хотел печатать отдельные сцены. Чаев не согласен. Просил он с Боборыкина 100 руб. с листа. Я сказал, что ты этого ни за что не дашь во всяком случае. (Да и нельзя давать.) И поэтому, если получишь от Дмитриева, не печатай не условившись.Чаев сам хотел тебе писать. Человек он очень хороший. Но драму его прочти со вниманием. Ведь, может быть, и действительно всё-то вместе и тяжело. А такие вещи не дают подписчиков. Ну вот и всё о Чаеве.
2) Теперь о Страхове: как бы он отлично сделал, если б еше прежде хоть две строчечки писнул мне об этом деле. Уезжая, я с ним говорил, что по первому требованию Боборыкина – деньги у тебя готовы. Но вот у тебя и требуют. Я ужасно бы желал знать, как это у них там происходило. Тут не простое любопытство, а честь. Не хотел бы я, чтоб Боборыкину представлялось, что я надулего. Бог видит, что я, несмотря ни на какие обстоятельства, отдал бы сперва туда мою повесть. Если же не дал, то не хочу,чтоб осмеливались подсмеиваться надо мной за 300 р. Если б еще я не брал оттуда 300 руб., то я бы наплевал на насмешку и, если б случились такие обстоятельства, – отдал бы туда повесть. Но когда редакция «Библиотеки» сама связала меня не то что обещанием, а честным словом и деньгами, то уж тогда ей бы не следовало допускать на меня насмешки на страницах своего журнала:куплен, дескать, отвертеться и обидеться не смеешь, повесть все-таки дашь. * Нет-с, я своей личности и свободы моих действий за 300 руб. не продаю.
И потому я ужасно бы желал знать подробности, то есть каким образом и при каких словахБоборыкин потребовал денег? Ужасно бы мне не хотелось отдать эти 300 р. без личных объяснений с Боборыкиным. Написать письма отсюда к Боборыкину я в настоящую минуту не могу: ведь Бог знает, что там произошло и на что я должен отвечать? Хотелось бы это знать сперва. Но там наверно что-нибудь произошло: иначе Ник<олай> Николаевич не стал бы требоватьс тебя денег. Бывши в Петербурге, я корчился от болезни и мне было не до «Библиотеки». Помню, Николай Николаевич меня подбивал ехать к Боборыкину, но у меня на то и времени и здоровья не было и… еще было кое-что, что помешало мне ехать. А именно: если только Боборыкин тогда уже знал хоть кое-чтоо том, что я обиделся, то, мне кажется, самая простая, самая простейшая учтивость требовала, чтоб он сделалсам первый шаг, – не к извинению, а к простому объяснению. Но он и этого не сделал. И потому, ради Бога, передай от меня Николаю Николаевичу, не может ли он для меня,слишком искренно его любящего, сделать так: хоть на несколько минут отдалить Боборыкину отдачу денег. Я понимаю очень хорошо его прескверное, двусмысленное положение, в которое я его поставил (то есть не я, а сам Боборыкин и все обстоятельства). Он был посредником между Боборыкиным и мною в самом начале займа. Он передавал туда мое честное слово, да и посредничеством своим как бы самгарантировал Боборыкину этот заем. Если Боборыкин сердится, обижается и требует денег, то Николаю Николаевичу, разумеется, мучительно неприятно. И потому, если только он видит себя действительно вкрайнем двусмысленном положении, – то пусть отдает; а ты выдай деньги, так и быть, хотя мне может быть из-за этого бесславие: ведь я, отдавая молча деньги, как бы соглашаюсь, что я действительно надул Боборыкина. Но если только возможно хоть капельку повременить,то упроси Николая Николаевича на это. Тем временем узнай от него, от моего имени, об обстоятельствах дела. Надеюсь, он тебе не откажет всё в подробности сообщить, ведь мне бы он, верно, не отказал (я не претендую на самую полную его откровенность и не смею требовать, чтоб он сообщил всё, что было личномежду ним и Боборыкиным). Узнав, не было ли тут чего-нибудьи что именно было, я бы сочинил Боборыкину письмецо, самое утонченно-вежливое, оправдательное и безо всякой обиды, переслал бы тебе для передачи Николаю Николаевичу незапечатанным. Ник<олай> Николаевич сам бы его контролировал, то есть в том смысле, чтоб не было чего щекотливого, касающегося собственно Ник<олая> Николаевича (так как он все-таки был посредником в этом деле), – и тогда, с приложением денег, всё бы это было отослано Боборыкину через редакцию журнала «Эпоха» или, если возможно, доставлено через Ник<олая> Николаевича. Одним словом, я очень прошу: 1) уведомить меня (в случае, если еще возможно ждать отдачей денег), как смотрит на это дело Боборыкин. 2) Не обвиняет ли он меня гласно?Не было ли для меня чего оскорбительного, равно каки для Николая Николаевича? И потому сообщи эту часть моего письма Николаю Николаевичу. Что он скажет окончательно, то и будет. Повторяю: если ему будет хотя малейшаятягость от задержки платежа, то пусть немедленно берет у тебя деньги и отдает. Если же можно повременить, то пусть прежде бы я узнал это дело обстоятельнее и там уж поступил как мне следует.
Я бы и без задержки мог написать Боборыкину. Но, во-1-х (я уже упомянул это выше), обстоятельств теперешних, может быть очень щекотливых, не знаю, а во-2-х) не знаю, как посмотрит на это Николай Николаич, который в этом деле был посредником. Одним словом, эта история запутанная.
Да вот еще кстати: пусть не винит меня Николай Николаевич, что я сам ему не пишу. Если б он всё знал, как я здесь живу, то он понял бы, что я до сих пор не успел собраться написать ему об этом деле. Да и теперь у меня столько на шее дел, что дело с Боборыкиным совсем и на ум не просилось. Николаю Николаевичу я хотел было писать по прочтении его статьи в «Эпохе». * И наверно бы позабыл написать о Боборыкине, если б написалось письмо к Ник<олаю> Николаевичу.
Прощай, брат. Обнимаю тебя, будь здоров и бодр,
а я твой весь Ф. Достоевский.
Вторник, 14 апреля. Вчера, в 2 часа ночи, кончил это письмо. Потом Марье Дмитриевне стало очень худо. Она потребовала священника. Я пошел к Александру Павловичу и послал за священником. Всю ночь сидели, в 4 часа причащали. В 8 часов утра я лег отдохнуть, в 10 меня разбудили, Марье Дм<итриев>не в эту минуту легче.
Из денег 100 р., присланных тобою, ко 2-му дню праздника ни гроша не остается. Вот моя жизнь.
Надеюсь, друг милый, что о Боборыкине я написал удачно. Ник<олай> Николаич, может быть, прочтя это, и повременит. Я, впрочем, писал правду. Иначе я бы и сам не мог решить вопроса. Но я-то, я-то, который в такое время только тяну с тебя деньги. Никогда я не переживал времени более мучительного.
Повесть Аполлинарии посылаю отдельно. Обрати внимание. Печатать очень можно. *
87. А. М. Достоевскому
29 июля 1864. Петербург
29-го июля/64. Петербург.
Любезнейший брат Андрей Михайлович,
Спешу удовлетворить твою просьбу, хотя времени ни капли. Все дела брата легли естественно на меня, и я, вот уже скоро три недели, ног под собой не слышу. * Брат Миша умер от нарыва в печени и от последовавшего при этом излияния желчи в кровь. Вот болезнь. Болен он был давно. Доктора сказали, что года два. Но ведь с больной печенью можно долго ходить, не обращая на нее внимания, особенно если много дела. А дела у него была всегда бездна. Прошлого года запретили журнал. * Это его тогда как громом поразило и произвело вдруг такое расстройство во всех его Делах, грозило такой грозной катастрофой, что он весь последний год был постоянно в тревоге, в волнении, в опасениях. Трудно это всё тебе объяснить подробно. Вот в нескольких словах: дела его давно еще, вследствие войны * и последовавшего затем денежного кризиса и упадка общего кредита, – пошли очень худо. Накопились большие долги. Начали мы издавать журнал, затратили деньги, но без долгов не обошлись. Зато было со второго же года 4000 подписчиков, след<овательно>, 60 000 руб. оборота, и так продолжалось всегда, есть и теперь для «Эпохи». Но долги всё не могли уплатиться. Оставалось их, всего-навсе, старых и новых, – тысяч 20, когда запретили «Время». Подписку брат уже успел истратить, заплатив долги. Но при аккуратной выплате долгов – оставался кредит и необходимые обороты (о которых долго объяснять), при которых можно, без затруднений, довести годовое издание до конца с честию. Вдруг всё рушилось, рушился и кредит с запрещением журнала. Год был трудный, и здоровье брата крепко потерпело. Наконец выхлопотал он право издания «Эпохи». Но издавать пришлось в убыток; ибо всем 4000 подписчиков надо было выдать книгу за 6 рублей, а не за полную подписку (15 рублей). * Но брат распорядился хорошо; занял * и имелв виду в продолжение года один верный оборот (заведение своей типографии на 2/3 в кредит, что и начал уже) и посредством этого оборота мог довести журнал до будущей подписки очень хорошо. По его расчетам через 1½ года не было бы ни копейки долгу. Но Бог судил иначе. За три недели с небольшим перед смертию он слегка заболел – рвотой, расстройством желудка, и потом вдруг разлилась желчь. Надо сказать, – он пренебрегал и хотя советовался с докторами и лекарство принимал, но не соглашался перестать работать и засесть дома. Дача у них в Павловске. Он часто ездил в город, хлопотал по журналу, по типографии, по делам. Я хотел ехать по нездоровью за границу, получил паспорт и съездил на неделю в Москву. Воротясь из Москвы в конце июня, с ужасом увидел, что болезнь, которую он называл пустяками, провожая меня в Москву, усилилась. Наконец Бессер (очень знаменитый здесь доктор) напугал его, сказав, что это очень серьезно и надо лечиться. Брат засел на даче. Я за границу не поехал, ездил в Павловск каждый день, а он поминутно порывался в город и ждал выздоровления. Наконец стал слабеть. В воскресенье, 5-го июля, ему стало вдруг легче. Бессер не терял надежды, хотя и объявил, что нарыв в печени. Да мы все никто и не предполагали худого исхода, совершенноникто, даже доктора. Но вдруг он, обрадовавшись, что ему легче, – стал вечером заниматься делами. В понедельник вечером ему доставили одно известие о запрещении цензурой одной статьи. * На другой день он мне сказал, что чувствует себя очень дурно и всю ночь не спал. В его состоянии не надо было совсем заниматься какими бы то ни было делами. Малейшая неудача, какое-нибудь неприятное известие, и, в болезненном состоянии его, это яд. Он из мухи слона мог сделать, не спать и тревожиться всю ночь. Позвали Бессера, и тот, отведя меня в сторону, вдруг объявил мне, что нет никакой надежды, потому что в эту ночь произошло излияние желчи в кровьи кровь уже отравлена. Бессер сказал, что брат уже ощущает сонливость, что к вечеру он заснет и уже более не проснется. Так и случилось: он заснул, спал почти спокойно и в пятницу, 10 числа, в семь часов утра скончался, не проснувшись. Были три консильума. Употреблены были всесредства. Привозили докторов из Петербурга, – ничего не помогло.
Сколько я потерял с ним – не буду говорить тебе. Этот человек любил меня больше всего на свете, даже больше жены и детей, которых он обожал. Вероятно, тебе уже от кого-нибудь известно, что в апреле этого же года я схоронил мою жену в Москве, где она умерла в чахотке. В один год моя жизнь как бы надломилась. Эти два существа долгое время составляли всё в моей жизни. Где теперь найти людей таких? Да и не хочется их и искать. Да и невозможно их найти. Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя.
Все дела семейства брата в большом расстройстве. Дела по редакции (огромные и сложные дела) – всё это я принимаю на себя. Долгов много. У семейства – ни гроша и все несовершеннолетние. Все плачут и тоскуют, особенно Эмилия Федоровна, которая, кроме того, еще боится будущности. Разумеется, я теперь им слуга. Для такого брата, каким он был, я и голову и здоровье отдам.
Дела представляются в следующем положении: журнал имеет 4000 подписчиков. В будущем году будет наверно иметь еще более. Следовательно – это, по крайней мере, 60 000 годового оборота. В два года семейство может уплатить вседолги и, кроме того, само прожить не только не нуждаясь, но и хорошо. Я остаюсь в сущности редактором журнала. От правительства, кроме того, назначен еще и другой. * На третий год семейство уже может откладывать тысяч по десяти в год – цель, к которой стремился брат, потому что она верная, и которую так отдалило прошлогоднее запрещение журнала. Но весь нынешний год издается себе в убыток, так как большей части подписчиков выдается он за 6 руб., а не за 14 руб. 50 к.; в виде вознаграждения за недоданные им прошлого года 8 нумеров запрещенного «Времени». Этот год для брата был трудный. Но он в начале года занял в Москве 9000 у тетки (на два года сроком) и 6000 руб. у Александра Павловича (акциями, которые и заложил здесь на 5000). На это он стал заводить свою собственную типографию, которую имел намерение заложить тысяч тоже за 5. (Она стоит 10.) Таким образом, он надеялся довести дело до конца (то есть до будущей подписки, которая бы дала minimum 60 000) успешно. Того только и надо было. Здешних долгов, кроме того, до 8000. Но он умер, и хотя Эмилия Федоровна уже назначена опекуншей, журнал утвержден как собственность семейства, но с братом исчез во многом и кредит его. Одним словом, всего-навсе в наличности у нас 5000 руб., которые следует получить за заложенные акции, тысяч до 3, которые еще придется получить в этом году, да типография, только отчасти оплаченная. Затруднение в деньгах есть, но с Божиею помощию мы дойдем благополучно. Теперь вот что скажу тебе, любезный брат. Никогда еще это семейство не было в более критическом положении. Я надеюсь, мы справимся. Но если б ты мог дать взаймы хоть 3000 руб. (те, которые достались тебе после дяди и которые ты, верно, не затратил) семейству на журнал до 1-го марта и за 10 процентов, то ты бы сделал доброе и благородное дело и помог бы и утешил бедную Эмилию Федоровну чрезвычайно. Отдача к 1-му марту – вернейшая. Я готов тоже за нее поручиться. Теперь как хочешь. Рассуди сам. Нам очень трудно будет, хоть я твердо уверен, что выдержу издание до января. Лишних 3000 нас бы совершенно обеспечили. * Но как хочешь. Александр Павлович не побоялся дать брату весной. Пишу это от себя. Эмилия Федоровна кланяется тебе. Писать она еще никому не может. Прощай. Размысли о том, что я написал тебе. Дело будет доброе и благородное и в высшей степени верное. Мой задушевный и братский поклон твоей супруге * и поцелуй твоим детям. *
До свидания, голубчик.
Твой брат Ф. Достоевский.
Кстати: ты неоднократно винил нас всех, что тебе ничего не пишут. Брат все последние два года был постоянно в тревоге. Я же жил последний год подле больной в чахотке бедной моей Маши. Нынешним летом я рассчитывал ехать за границу в Италию и в Константинополь и на обратном пути, через Одессу, думал прогостить у тебя три дня в Екатеринославе, хотя бы пришлось сделать крюку. *








