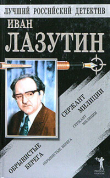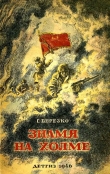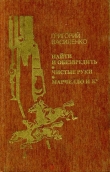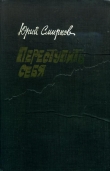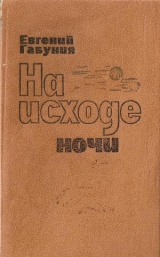
Текст книги "На исходе ночи"
Автор книги: Евгений Габуния
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 36 страниц)
Непривычно пустынными выглядят улицы испанской столицы в субботнее утро. Те, у кого есть загородные дома, уехали на уикэнд еще в пятницу, ну, а другие (их большинство), сидят в городских квартирах. Нашему автобусу не страшны никакие автомобильные пробки, и он без всяких задержек выбирается на загородное шоссе, ведущее на север. По его обеим сторонам мелькают нарядные виллы, окруженные низкорослыми соснами и кипарисами. На зеленых лужайках пасутся черные упитанные бычки – будущие герои и жертвы корриды. Мирный, идиллический пейзаж, залитый теплым декабрьским солнцем. Вдали, на вершинах скалистых холмов, подернутых голубоватой дымкой, виднеются грозные силуэты средневековых замков. Кастилья, суровая и прекрасная, прокаленная солнцем земля, сердце Испании. На стрелке дорожного указателя мелькнули слова: «Лас Кампас, Гвадаррама». Знакомые, с детства врезавшиеся в память названия. Именно здесь, на ближних подступах к Мадриду, развернулись тяжелые, ожесточенные бои. Вспоминая об этом, смотришь на идиллический пейзаж другими глазами. Например, глазами очевидца и участника событий тех лет Михаила Кольцова. В «Испанском дневнике» он пишет:
«Поселки Серседилья и Гвадаррама – последние перед линией фронта. Здесь разбито три четверти зданий. Почти сплошь пепелища и развалины. Вот от сгоревшего дома уцелела буквально только каменная калитка, и на ней на одном гвозде висит закопченная табличка: «Застраховано от огня». Валяются телеграфные столбы, провода, пустые гильзы и стаканы из-под снарядов.
В этом сложном нагромождении скал, ущелий, леса вот уже скоро месяц идет напряженная борьба. Ни разу здесь не было затишья. Фашисты загипнотизированы близостью столицы. Всего пятьдесят километров, да и того меньше. Стоит только прорваться вниз в котловину, – и уже можно схватить за горло Мадрид, правительство, республику. Республиканцы понимают это. Они понимают, чего может стоить ничтожный промах, зевок.
Орудий с обеих сторон не так много. Но горная акустика разносит канонаду стократным эхо по ущельям, создает фантастический, поистине адский грохот.
Каждый день с раннего утра до поздней ночи маленькие группы людей крадутся по склонам, ползут по каменным утесам, стараясь обойти, отрезать, подкараулить друг друга, захватить еще одну скалу, еще один пригорок, держать под огнем еще одну ложбинку».
Автобус продолжает наматывать на свои колеса серую асфальтовую ленту, и вдруг впереди возникает гранитный крест на вершине горы. До него далеко, но даже на расстоянии чувствуешь его размеры. Исполинский крест будто осеняет всю долину Павших, ибо именно так называется долина, через которую лежит наш путь. Долина Павших в годы гражданской войны… В недрах горы, на которой установлен крест, вырыта огромная пещера для подземной церкви. Говорят, что она больше собора святого Петра в Ватикане, считавшегося до сих пор самым большим в мире. Крест и церковь сооружены по приказу Франко в память о погибших в гражданскую войну. Всех погибших, и с той, и с другой стороны. Примечательная подробность: на строительстве грандиозного памятника, призванного по мысли диктатора, стать символом «национального примирения, национального единства» (разумеется, на основе франкизма), использовался рабский труд тысяч узников фашистских застенков, согнанных со всей страны. Чего стоят после этого громкие слова о национальном примирении возглавившего фашистский мятеж черного генерала, руки которого обагрены кровью лучших сынов и дочерей испанского народа! Когда пришел конец и самому каудильо, выяснилось, что в подземной церкви для него было заранее приготовлено место для погребения – по соседству с прахом основателя фаланги Примо де Ривера. Поневоле закрадывается мысль, что одержимый патологической манией величия «генералиссимус», сооружая помпезный мемориальный комплекс, преследовал цель в первую очередь обессмертить самого себя. Недаром он никогда не говорил: «Когда я умру», а только: «Когда меня не станет».
По странной прихоти (или закономерности) истории подземный собор, где нашли последнее прибежище оба покойных диктатора, расположен в непосредственной близости от Эскориала, в котором находится Пантеон испанских монархов. Строгий серый каменный четырехугольник в гордом одиночестве стоит в окружении гор Сьерра-де-Гвадаррама. Это и есть знаменитый Эскориал, монастырь святого Лаврентия, крепость, резиденция испанских королей, величайший религиозный центр Испании, который испанцы в прошлом почитали как восьмое чудо света. Во время гражданской войны за этот дворец-монастырь разгорелись жестокие бои. Одержимые желанием во что бы то ни стало захватить Эскориал, франкисты не остановились даже перед бомбежкой национальной святыни, каковой они почитали (на словах, разумеется) монастырь. В «Испанском дневнике» есть такие строки:
«Взятию Эскориала, овладению знаменитым монастырем… в лагере испанского фашизма придают особое, мистическое значение. Изворачиваясь в объяснении долгого стояния под Мадридом, Франко среди прочего заявил, что взятие Эскориала, величайшего религиозно-исторического центра Испании, будет политически равносильно и даже важнее взятия Мадрида. Сейчас в знак особой любви к Эскориалу Франко бомбардировал его с воздуха».
Спустя многие годы другой генерал, американский, разглядывая в бинокль древний вьетнамский город, изрек:
«Прежде чем освободить этот город, его нужно уничтожить!»
Извращенная, дьявольская логика фашизма не знает государственных границ, национальных различий.
Некоторые авторы, описывая монастырь, называют его мрачным, неприветливым, сумрачным. Позволю себе не согласиться с этим мнением. Он скорее строг, даже величествен, но отнюдь не мрачен. Что побудило короля Филиппа II воздвигнуть этот суровый, под стать скалистым горам, дворец-монастырь? Существуют две версии. По одной он построен в честь победы над французами в день святого Лаврентия. Этот Лаврентий был причислен к лику святых за свою мученическую смерть – его сожгли заживо. Согласно другой версии, при битве с французами испанцы случайно разрушили монастырь святого Лаврентия, и Филипп, искупая грех, воздвиг Эскориал и назвал его именем святого. Так или иначе, но дворец-монастырь был построен в сжатые для XVI века сроки – меньше чем за двадцать лет. Его сооружали и украшали лучшие строители, художники и скульпторы не только Испании, но и других стран. Осмотр мы начинаем с библиотеки, стены которой расписаны фресками, изображающими семь муз. На стеллажах, обтянутых мелкой сетчатой решеткой, тысячи старинных фолиантов в кожаных переплетах. На стендах посреди зала выставлены самые знаменитые экземпляры, среди которых почетное место занимает книга святого Августина и «Новый завет». На изготовление этой книги ушло восемь килограммов золота. В библиотеке собраны книги и рукописи на многих языках не только религиозного содержания, но по истории, географии, медицине, математике. Они не лежат мертвым грузом, их изучают ученые разных стран, в том числе и наши, советские. Гид упомянул одного советского ученого, который написал книгу об Авиценне и подарил ее экземпляр библиотеке.
С огромного, во весь рост портрета на нас хмуро, высокомерно и подозрительно смотрит человек в костюме испанского гранда. У него надменное изможденное лицо иезуита. Это король-тиран Филипп II. Его королевское величество очень недовольно тем, что какие-то чужеземцы нарушили его уединение. Именно уединения искал он в стенах монастыря-крепости, уединения и безопасного убежища от мерещившихся ему повсюду заговорщиков. Спускаемся на первый этаж, в королевские покои. Тесные, скромно обставленные комнаты-кельи, ничего общего не имеющие с привычными королевскими покоями. Вот уж поистине уничижение паче гордости! Вместе с тем монарх-отшельник отнюдь не забывал о государственных делах, держа в страхе и повиновении с помощью святой инквизиции своих подданных. Здесь же, в своем любимом детище, нашел он последний приют. Гранитная лестница ведет вниз, в склеп под главным алтарем. Горящие свечи в руках ангелов бросают мягкие блики на матовые, черного мрамора, стены восьмигранного мавзолея. Скорбно склонил голову распятый на кресте бронзовый Христос. В массивных, тоже черного мрамора, саркофагах, установленных в четыре «этажа» в нишах, вечным сном спят испанские монархи – Габсбурги и Бурбоны, правившие Испанией на протяжении веков. Бронзовые буквы на саркофагах извещают, «кто есть кто», точнее, «кто есть где». На трех гробах надписи отсутствуют, они свободны. Еще свободны. По свидетельству М. Кольцова, в 1936 году пустовал только один.
«Его приготовили для Альфонса XIII. Кандидат хотя и в преклонном возрасте, но низложен и где-то за границей играет на бирже.
Я долго стою здесь, соображаю, что можно сделать, но ничего придумать не удается. Другого сюда тоже не положишь. Так и пропадает хороший мраморный гроб».
Саркофаг, о котором писал, Кольцов, «не пропал». В январе 1980 года сюда перенесли останки Альфонса XIII, который так и умер за границей, в изгнании. На черном мраморе его гробницы алеет букетик гвоздик, возложенный каким-то обуреваемым ностальгией монархистом. Цветы в этом сумрачном, полном почти мистического ужаса Пантеоне выглядят странно и неуместно. Королевская усыпальница подавляет, гнетет своей торжественной, мрачной роскошью и являет собой полную противоположность скромным королевским кельям. Вслед за Кольцовым задаю себе вопрос: кто будет покоиться в пустующих гробах? Очевидно, Хуан Карлос и королева, греческая принцесса София. И что вообще должен чувствовать человек, глядя на собственный гроб? Ведь короли – тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.
Здесь, … где покоились останки его предков, стоял четвертый по счету Карлос.
Он смотрел не без испуга
На гробницы. В строгом стиле.
Литеры обозначали
Имена усопших предков.
Тут же рядом дожидались
Коронованных владельцев
Два еще свободных гроба.
На одном из них стояла
Надпись:
«Дон Карлос Четвертый»,
На другом: «Мари-Луиза».
Пять минут стоял он в склепе,
Подчиняясь этикету,
С жаром до трехсот считая.
А затем что было духу
Прочь бежал из Пантеона.
Лион Фейхтвангер. «ГОЙЯ»
Прямое, как стрела, шоссе, ведет от Мадрида на юг, разрезая надвое Кастильское плоскогорье. В пейзаже преобладают серый и зеленый цвета и еще цвет охры – излюбленные краски Эль Греко. В город великого художника, легендарный Толедо, мы и держим путь. Пологий подъем – и автобус останавливается у самого края обрывистого скалистого берега Тахо. Там, за рекой, на холме в беспорядке раскиданы дома, над которыми доминирует громада дворца Алькасар. Позже, когда я увидел в доме Эль Греко его картину «Вид Толедо», то понял, что художник именно отсюда, с этой точки, увековечил свой город. Лента реки здесь делает крутой изгиб, почти целиком окружая холм, создавая иллюзию острова. Однако откуда взяться острову в самом сердце Кастильи, посреди суровой, выжженной земли? Но Толедо – действительно остров. Остров старины, средневековья, в котором, кажется, остановилось время. Когда бродишь не спеша по его узким, таинственным улочкам, любуешься ажурными воротами, увешанными щитами и арбалетами, поднимаешься по деревянным ступеням дома Эль Греко, то город постепенно берет тебя в плен. Толедо обладает какой-то таинственной магией, только ему присущим очарованием, это самый испанский из всех городов, в которых пришлось побывать. И в то же время здесь сохранились следы и других эпох. Военное сооружение, воздвигнутое вестготами…. Мост через Тахо, «сработанный еще рабами Рима…» Синагога – одна из древнейших в Европе…
Центр города – площадь Сокодавер. Немного воображения – и уже видишь торжественную процессию монахов в зловещих черных одеждах. Жарко пылают факелы, колышется хоругвь с вытканными золотом королевским гербом, крестом и мечом – эмблемами святой инквизиции. Скованные ужасом, с трудом переставляя ноги, позади монахов бредут обреченные – в высоких шутовских колпаках, грубых желтых рубахах. Толпа, до предела заполнившая площадь, затаила дыхание. Оглашается акт веры – приговор святой инквизиции. Палач зажигает костер. Жадные языки пламени все ближе, все неумолимее подкрадываются к несчастным. Площадь оглашается душераздирающими воплями горящих заживо еретиков. Толпа, содрогаясь и замирая от ужаса, пожирает глазами жуткое зрелище – аутодафе.
Так шпионила повсюду
Инквизиция. Над каждым,
Словно страшный рок зловещий,
Тяготела. Нужно было
Лицемерить. Даже с другом.
Было страшно поделиться
Вольной мыслью или шуткой.
Даже шепотом боялись
Слово вымолвить… Но только
Эта вечная угроза
Придавала серой жизни
Прелесть остроты. Испанцы
Инквизиции лишиться
Вовсе не хотели, ибо
Им она давала бога.
Правда, бог тот был всеобщим,
Но особенно – испанским.
И они с упрямой верой,
Тупо, истово, покорно
За нее держались так же,
Как за своего монарха.
Лион Фейхтвангер. «ГОЙЯ»
Могущество тайного судилища инквизиторов было так велико, что его жертвой стал даже Бартоломе Карранса, архиепископ Толедский. Дела давно минувших дней?.. Нет. Палачи Франко возродили мрачную славу инквизиции, подвергая в застенках жестоким пыткам противников фашистского режима.
Мы покидали Толедо, город, над которым не властно время, под вечер. Причудливые длинные тени дворцов, соборов и замков делали его еще таинственнее и романтичнее.
Жемчужина ИспанииПосле державного величия Мадрида с его изменчивой, дождливой и ветреной погодой, после сурового и гордого Толедо Севилья ослепила ярким солнцем, белыми и розовыми домами, улицами, обсаженными стройными пальмами и апельсиновыми деревьями, усыпанными оранжевыми плодами. Есть в этом южном городе какая-то легкость, артистичность, он, словно шампанское, пьянит легко и радостно.
Ни с одним испанским городом не связано столько легенд, как с Севильей. На каждом шагу вас поджидают знакомые неожиданности. Идем по широкой, вполне современного вида улице мимо двухэтажного, выкрашенного в бежевый цвет, строения. Обычное, ничем, в общем, не примечательное здание в стиле барокко. Да разве барокко в Испании кого-нибудь удивишь? Так и прошли бы мимо, если бы не слова гида. Оказывается, именно здесь находилась табачная фабрика, где по воле воображения Проспера Мериме свертывала сигары своенравная красавица Кармен. Возле вот этих ворот стоял на карауле ефрейтор Хосе, охраняя женщин от пылких испанских мужчин. Пока я восстанавливал в памяти историю их трагической любви, из ворот выпорхнула веселая стайка девушек. Они даже не взглянули в сторону иностранцев и промелькнули, громко постукивая каблучками, независимые, стройные, красотки, современные Карменситы в джинсах или мини-юбках. «Студентки, – пояснил гид, – сейчас здесь один из факультетов Севильского университета».
Узкая улочка, причудливо извиваясь в каменном ущелье, ползет вверх. Улочка так и называется – Ла Сьерпе – Змеиная. По ней вел в тюрьму, но так и не привел арестованную Кармен ефрейтор Хосе. Здесь, в этом древнем квартале Макарена Севилья предстает в своем, так сказать, чистом виде, воспетая и прославленная Пушкиным и Мериме, Бизе и Россини, Бомарше и Мурильо… Порой кажется, что перед тобой не город, а огромная роскошная оперная декорация: так неправдоподобно, сказочно живописны старинные улочки, белые дома, увитые зеленым плющом, уютные внутренние дворики – патио, кованые фонари, ажурные решетки балконов. И я бы не удивился, если бы на балкон вышла, кутаясь в мантилью, прекрасная донна, чтобы благосклонно выслушать серенаду благородного идальго: «Я здесь, Инезилья, стою под окном, объята Севилья и мраком и сном…» Увы, времена прекрасных дам и благородных рыцарей давно прошли, даже здесь, в сердце романтической Севильи, где «ночной зефир струит эфир, шумит, бежит Гвадалквивир», где даже сами названия улиц дышат экзотической стариной: Вида (Жизнь), Агуа (Вода), Глория (Слава), Атауд (Гроб), Хамердана (Потрошенная)… Поначалу даже не верится, что здесь вообще обитают люди. Но стоит присмотреться, и понимаешь, что обитатели этих «оперных» домиков, простые севильцы, живут своей, вполне современной жизнью с ее радостями и печалями, заботами и тревогами. Экзотика, столь милая сердцу туриста, для них оборачивается другой стороной: отсутствием в старых домах коммунальных удобств. Дворов, а тем более детских площадок, здесь нет, ребятишки гоняют мяч прямо посреди улицы.
Из квартала Макарена хорошо просматриваются каменные кружева порталов, башен и башенок кафедрального собора – самого большого в Испании. Мне довелось повидать немало храмов, в том числе и те, что превзошли своими размерами Севильский – святого Петра в Ватикане и святого Павла в Лондоне, и потому собор запомнился не столько архитектурой, многочисленными скульптурами великомучеников, распятиями и т. д. Под его высоченными сводами недалеко от алтаря, в каменном склепе, покоятся останки Христофора Колумба. Как известно, после своих плаваний в «Индию» он поселился в Вальядолиде, в Испании, где и умер. Его прах перенесли в Севилью, отсюда на остров Санто-Доминго у берегов Центральной Америки, потом – на Кубу, и наконец, в 1902 году великий мореплаватель нашел последнее пристанище в Севилье, в этом каменном склепе. Таким образом, Колумб уже после смерти совершил еще одно, четвертое плавание к берегам Америки. (Заметим в скобках, что существуют и другие версии относительно места захоронения первооткрывателя Америки.) С великого открытия Колумба и начинается завоевание Нового света испанскими конкистадорами. Многие тысячи писем, карт, донесений и других документов, относящихся к этому периоду, хранятся в архивах замка Алькасар, бывшей резиденции испанских католических королей – титул, присвоенный им папой римским.
«Здравствуй, товарищ!»Шоссе послушно повторяет изменчивый рельеф местности, плавно поднимаясь на склоны холмов и так же плавно спускаясь в долины. С кинематографической быстротой меняются пейзажи. Словно маленькие солнца, оранжево светятся среди густой зелени апельсины. По склонам ровными рядами бегут виноградники. Далеко, почти за горизонт уходят оливковые плантации. Одинокие пинии высоко и гордо взметнули ввысь пучкообразную крону. Под сенью пальм и эвкалиптов прячутся белые и розовые виллы. Их сменяет беспорядочное нагромождение каменных домиков с плоскими крышами. Они стоят близко, почти касаясь друг друга, как бы образуя один огромный дом. Это деревня. Непривычный, экзотический пейзаж, но в то же время как будто уже виденный раньше. Где? Ну конечно же, в Алжире или Ливане. Сходство с Ближним Востоком дополняет необычный, красноватый, гранатовый цвет земли. Отсюда, от арабского слова «гранат», и пошло название этой южной провинции – Гранада. Земля, давшая миру Федерико Гарсиа Лорку, «гренадская волость», увековеченная нашим Светловым. Прекрасная далекая земля, за которую пошел воевать украинский парень. Сколько лет прошло с той поры, когда Светлов написал свое знаменитое стихотворение, а жизнь гранадских крестьян не изменилась, а если и изменилась, то к худшему. Трудно, невозможно поверить, что в этом благословенном уголке земли люди голодают. Неужели земля не может прокормить земледельца? Конечно, может, и с лихвой, но все дело в том, что она принадлежит не тем, кто ее возделывает, а помещикам, которым стало дешевле и удобнее использовать машины, чем труд наемных батраков. Безработица, словно раковая опухоль, поразила и сельскую местность. В печати приводилась такая чудовищная цифра: триста тысяч крестьян Андалусии голодают. Таков один из зловещих парадоксов технического прогресса при капитализме.
Острым уступом нависает над главным городом провинции – Гранадой – высокий холм. С его вершины хорошо просматривается не только весь древний город, но ближайшие к нему подступы; еще дальше сверкают под солнцем снега Сьерры-де-Гвадаррамы. Именно из этих выгодных стратегических соображений арабский халиф Аль-хаммар в тринадцатом веке повелел построить здесь касабу – крепость. Каменной квадратной глыбой она охраняет вход во дворец халифа, названный позже его именем – Альгамбра. Правильнее будет говорить не об одном дворце, а о целом дворцовом комплексе. Теперь Альгамбра во многом утратила свое былое великолепие, подвергаясь перестройкам после реконкисты – изгнания мавров из Испании, однако многое осталось нетронутым, как при арабских халифах. Таким предстает перед многочисленными туристами тронный зал. Стройные, украшенные затейливым орнаментом колонны подпирают высокий деревянный потолок. Орнамент своим рисунком напоминает цветущее дерево и символизирует вечно живое древо жизни. Искусно инкрустированный разноцветными породами ливанского кедра потолок – это символ неба. Он и в самом деле походит на усыпанное звездами ночное небо. Высота потолка – восемнадцать метров, столько же – от мозаичного пола до земли. Таким образом, халиф находился как бы между небом и землей. Тоже красноречивая символика.
Внутренний дворик с фонтаном посредине окружают колонны, похожие на стволы пальм; сводчатые арки своими очертаниями наводят на мысль о пещере. Созерцание живительных струй фонтана, «пальм» и «пещер» в летнюю жару создавало иллюзию прохлады.
Медленно спускаемся вниз, и снова попадаем на узкие, забитые автомобилями, пропахшие отработанным бензином улочки. Они живут своей жизнью. В многочисленных магазинчиках и лавочках ассортимент рассчитан в основном на туристов: керамика, статуэтки тореадоров, ножи-навахи и, конечно, Альгамбра во всех возможных видах. Возле одной из таких лавок мы остановились, привлеченные ярко-красной Кармен с кастаньетами в руках. И вдруг над самым ухом раздалось: «Буэнос диас! Здравствуй, товарищ!» Всякие люди встречаются за рубежом, в том числе и «товарищи» в кавычках. Однажды на Пирейской набережной к нам привязался один из таких бывших товарищей, бывший русский, чтобы попытаться всучить грязную антисоветскую газетенку, и конечно, тут же получил от ворот поворот. «Здравствуй, товарищ!» – вторил незнакомец – невысокий, даже щуплый человек средних лет. Его глаза смотрели доброжелательно и приветливо: «Давно не встречал советских русских. Ведь вы же советские, не так ли?» Он говорил медленно, с сильным акцентом, отчетливо произнося каждый звук – так говорят иностранцы на чужом языке. «Да, мы советские, в вы откуда узнали?» – Он улыбнулся: «Гранада – маленький город, здесь новости распространяются быстро. И еще вы, компаньерос, должны знать, что у вас здесь, в Эспанье, много амигос… как это по-русски… друзей. Мы помним ваших добровольцев. Замечательные ребята. Герои…. – Он задумчиво помолчал. – Вместе воевали. Потом – Москва, там и научился вашему языку. Вскоре партия послала на подпольную работу в Эспанья. Теперь, когда Франко в могиле, мы, коммунисты, действуем открыто. Много, очень много работы. Франкизм еще не похоронен». Прощаясь, он протянул руку. Рука была маленькой, сухой, но крепкой, рука друга, рука трудовой Испании.
…Поздний вечер. Гостиница, в которой мы живем, расположена на том же холме, что и Альгамбра, только еще выше. Отсюда, с балкона, город и замок – как на ладони. Далеко внизу мигают огни Гранады, подсвеченные прожекторами дворец и сады Генералифе (райские сады) кажутся еще романтичнее и таинственней. Я любуюсь открывшейся картиной, и само собой возникает в памяти прелестное шутливо-ироническое стихотворение Козьмы Пруткова «Желание быть испанцем».
Тихо над Альгамброй.
Дремлет вся натура.
Дремлет замок Памбра.
Спит Эстремадура.
Дайте мне мантилью;
Дайте мне гитару;
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару.
Дайте руку верную,
Два вершка булату,
Ревность непомерную,
Чашку шоколату.
Закурю сигару я,
Лишь взойдет луна…
Пусть дуэнья старая
Смотрит из окна!
В этом стихотворении мастерски спародирован набор расхожих штампов, представлений, так сказать, «испанщины», ассоциирующихся с далекой, романтической страной и с Пиренеями.
«Мы никогда не знали этого народа, – пишет Кольцов в «Испанском дневнике», – он был далекий и чужой, мы с ним никогда не торговали, не воевали, не учились у него и не учили его.
В Испанию и раньше ездили из России одиночки, чудаки, любители острой, горьковатой экзотики.
Даже в голове развитого русского человека испанская полочка была почти пуста, запылена. На ней можно было найти Дон-Кихота с Дон-Хуаном (которого произносили по-французски – Дон-Жуан), Севилью и сегедилью, Кармен с тореадором, «шумит, бежит Гвадалквивир» да еще «тайны мадридского двора».
Культура Древнего Рима, итальянского Возрождения – прекрасная культура. Она оплодотворила искусство всего мира и нашей страны. Но, неизвестно почему, она попутно заслонила от нас Испанию, ее литературу, живопись, музыку, ее бурную историю, ее выдающихся людей. А главное – ее народ, яркий, полнокровный, самобытный, непосредственный и, что удивительнее всего, многими чертами поразительно напоминающий некоторые советские народы.
И вдруг этот, долго прозябавший в нижнем левом углу материка, никому по-настоящему не известный народ сухих кастильских плоскогорий, астурийских влажных гор, арагонских жестких холмов – вдруг встал во весь рост перед миром».
И в то же время оба наших народа издавна испытывали чувство взаимной симпатии. В чем ее истоки? Однозначно ответить трудно. Ясно, однако, что немалую роль сыграло то, что испанский и русский народы единственными в Европе оказали достойный отпор воинству Наполеона, которого в Испании называли не иначе, как Наполевор. Богатая, самобытная культура и история Испании вдохновили наших Пушкина, Глинку и Римского-Корсакова на создание таких шедевров, как «Каменный гость», «Арагонская хота», «Испанское каприччио».
В испанском народе жива память о братской помощи, которую в трудные, трагические дни фашистского мятежа оказала ему первая и в то время единственная страна социализма. Бок о бок с бойцами республиканской армии сражались три тысячи советских добровольцев, небо Мадрида охраняли «чатос» – курносые, как любовно называли испанцы наши истребители «И-16». Братство, скрепленное кровью, не забывается.
Возвратимся снова к «Испанскому дневнику». В нем есть такие строки:
«Перед огромным амфитеатром зрителей, внешне бесчувственно нейтральных, внутренне перепуганных, фашистские убийцы хотят, как опытные тореро деревенского быка, заколоть, прикончить этот народ, убить все достойное, гордое, честное в нем, оставить в живых только тех, кто пойдет обратно в рабство, кто покорно поцелует руки господам.
Народ не животное для убоя, палачи ошибутся. Израненный, окровавленный, он раньше или позже раздавит, растопчет безумных палачей».
Время, о котором пророчески писал наш замечательный публицист, наступило. Палачи ошиблись. Им не удалось поставить испанский народ на колени. Он снова встал во весь рост перед миром. Газеты полны сообщений о бурных политических демонстрациях, выступлениях испанских коммунистов, трудящихся за мир, социальный прогресс, за лучшую жизнь. Бурлит Испания, и в этом своем бурлении с каждым днем становится ближе и понятнее советским людям.
Путешествие в другую страну – всегда открытие. Таким счастливым открытием стала для меня Испания. В нее влюбляешься сразу, что называется, с первого взгляда. Не нужно много времени, чтобы поддаться обаянию ее народа, чей творческий гений с такой мощью проявился в картинах Веласкеса и Гойи, трудолюбие – в цветущих апельсиновых рощах Андалусии, мужество и гордость – в героическом отпоре поработителям, простодушное благородство и мудрость – в бессмертных страницах «Дон-Кихота», бурное жизнелюбие – в полной огня и сдержанной страсти арагонской хоте. Здесь, под небом Испании, я не раз вспоминал пушкинские строки: «Благословенный край, пленительный предел» и дивился художественной проницательности великого поэта, никогда не бывавшего в Испании.
Покидая чужую страну, испытываешь сложные, противоречивые чувства. Чужую?.. Но ведь она стала понятнее и ближе за те немногие дни, что я провел на этой гостеприимной земле. Ну а чувства… Тут и сожаление, что не успел впитать, насытиться впечатлениями до «упора», «дойти до самой сути», и легкая грусть расставания с полюбившимися тебе людьми, и радость от предвкушения новой встречи с Родиной.
Адиос, Эспанья! Здравствуй, Москва!
1982 г., декабрь