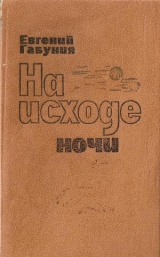
Текст книги "На исходе ночи"
Автор книги: Евгений Габуния
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 36 страниц)
На исходе ночи
УРОКИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Как давно замечено, цель поэзии – идеал, а не нравоучение. Тут под словом поэзия имеется в виду художественная литература вообще, как, впрочем, и все искусство. И тем не менее, художественное освоение окружающего мира, пусть самое причудливое по форме, пусть утонченное, усложненное, несет в себе и своеобразный урок жизни. Всегда. Хотя и разного уровня значительности и глубины. И это лукавое заявление классика: «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего» – тоже несет шутливо-издевательский заряд, ведь и в этом – поучение.
Есть область литературы, где уроки нравственности, социальной справедливости преподаются отчетливей, прямей, может быть, в несколько огрубленной форме, – это детектив, где добро и зло сталкиваются особенно откровенно, остро, порой концы этих полюсов искрят, обжигают. О детективном жанре говорят часто несколько снисходительно; здесь, мол, больше литературных штампов и шаблонов, меньше требуется искусства от автора. Но и все другие роды, виды, жанры имеют свои штампы, ведь и в посредственной «деревенской», «военной», «лирической», «интеллектуальной» прозе кочуют из книги в книгу свои стандарты, целые блоки, маски, штампы. Нет, я бы не сказал, что детективная литература отличается некой облегченностью, бедностью художественных средств. Более того, часто детективный сюжет создает особую тягу, и автору нет нужды тратить порох на жемчужные, дымчатые красоты и изыски. Здесь чаще поэзия добывается с помощью достоверности характеров и положений, открытия больших и малых тайн профессии, ремесла, которым увлечен герой произведения, в данном случае следователь, работник милиции и прокуратуры.
Евгений Габуния, у которого, разумеется, есть свои просчеты, интересен именно этим – поэтизацией работы тех, кто действует в сфере службы справедливости. Он подчас даже дотошен в описании исполнения самого дела своих героев, и это никогда не бывает скучным – в этом достоверность, подлинность. Занимательность его вещей основана не только на сюжете, не только на загадке: кто преступник – этот или тот, – а на столкновении характеров и интересе, возникающем из прозаических подробностей, которых не придумаешь – их можно только подсмотреть в жизни. Без этих подробностей сочинение – лишь, по меткому выражению, «художества плетень».
Не желая бросить и тени на тех писателей, у которых в книгах больше фантазии, вымысла, чем реальных событий, отмечу верность Габуния увиденному и изученному жизненному материалу. Таково свойство его дарования, для которого в этом больше плюсов, так как, питаясь достоверностью, оно не опускается до копирования фактов. Такой детектив мне дороже кабинетной «захватывающей» интриги с невероятными виражами. Описывать простые действия очень трудно. Читая произведения Габуния, чувствуешь, что ему довелось вплотную общаться с прообразами своих персонажей. Он одухотворяет документ. Особенно показательна в этом отношении повесть «Ангел пустыни». Пока это лучшая его вещь.
Известен в республике Е. Габуния как очеркист, в особенности интересны его путевые записки, которые он привозит из поездок за границу.
Несколько слов об авторе этой книги. Евгений Габуния родился в Грузии, воспитывался в семье на русской культуре. После окончания Ленинградского университета много лет назад получил назначение в Кишинев, где сделался авторитетным журналистом, а затем – прозаиком. Здесь он нашел вторую родину, прикипел к Молдавии, и она, ее люди вошли в его книги.
Николай Савостин
На исходе ночи
Повесть [1]1
© «Кодры» №№ 11—12, 1984.
[Закрыть]
ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕГО НАРЯДА
Вечерняя планерка, или как ее привыкли называть в колхозе – наряд, затянулась. Люди, набившиеся в тесный кабинетик, нещадно дымя самокрутками, сосредоточенно слушали председателя. Председатель, мужчина лет сорока, в военной гимнастерке, сидел за обшарпанным письменным столом, изредка заглядывая в листок, испещренный цифрами.
– Задания ясны, товарищи бригадиры? – спросил он. – Есть вопросы? Нет вопросов? – Он помолчал. – Еще раз хочу напомнить: не сегодня завтра сеять начнем, вон теплынь какая стоит… Сев – это все равно что наступление, а вы, товарищи бригадиры, есть не кто иные, как командиры. Продумайте все до мелочей, поговорите с каждым колхозником, проверьте плуги, сеялки. Трудовые обязательства мы должны, просто обязаны выполнить, и не только выполнить, но и перевыполнить. Это, товарищи, вопрос политический. Как называется наш колхоз? – спросил он, ни к кому не обращаясь, и сам же ответил: «Заря новой жизни»! Об этом названии всегда помнить надо, ко многому обязывает.
Председатель встал, оправил гимнастерку, перетянутую широким офицерским ремнем, подошел к окну, приоткрыл его. Постоял, вдыхая чистый, пахнущий весной воздух.
– Да, если так пойдет, через день-два сеять пора. – Он широко улыбнулся. Улыбка преобразила его худое, озабоченное лицо. Оно сразу стало молодым, почти юным. – Мы всем докажем… Фактами, исключительно фактами мы можем убедить единоличника, что другою пути кроме колхозного, у него нет и быть не может. Вопросы есть? – еще раз спросил председатель.
– У меня есть! – поднялся мужчина в сером ватнике. – В народе говорят: день сева год кормит. Вот я и не могу взять в толк, когда же мы успеем посеять? В сроки никак не уложиться. Тягла не хватает, да и какое, если говорить начистоту, это тягло? Отощали лошадки, смотреть жалко. Плугов опять же – раз-два, и обчелся. Нет, не уложимся. – Он сокрушенно покачал головой. – Что там ни говори, а единоличному хозяину куда легче. Он свои два гектара день и ночь пахать-сеять будет, сам поголодает, а лошадку накормит. Одно слово – свое, а не казенное, как в колхозе. Встречаю недавно Георге Капраша, вы его все знаете, хозяин исправный… Он и спрашивает: «Что, Василий, к севу готовитесь?» – «Да, говорю, скоро начнем». А он ухмыльнулся так нехорошо: «Посмотрим, цыплят по осени считают. Не будет из чего плачинты печь, приходи осенью, так и быть, угощу. И остальных ваших голодранцев-колхозников приводи, на всех хватит». Очень мне обидно было слышать такие слова. Ответил ему, как положено: обойдемся, значит, и без твоих, Георге, плачинт, а сам подумал: может, и правду говорит Капраш?
Василий сел, и в комнате заговорили все разом. Его маленькая речь никого не оставила равнодушным, задела за живое. Председатель слегка постучал ладонью по столу, призывая к порядку.
– Значит, на плачинты Георге Капраш звал? – спросил с недоброй усмешкой. – Это мы еще посмотрим, кто кого будет угощать плачинтами и всем прочим, что к ним полагается. Ишь, какой добренький, а сам куркуль куркулем. А насчет тягла и всего остального ты, Василий, вопрос правильно ставишь. Только об эмтэесе почему-то позабыл. Директор твердо обещал прислать три трактора, СТЗ называются, в Сталинграде их делают. А как назвал товарищ Сталин трактор? – председатель обращался уже не к одному только Василию. – Трактор – это снаряд, взрывающий старый мир! – вот как говорит товарищ Сталин. А у нас не один, а целых три таких снаряда будет, залпом ударим по старому миру. Дай только время – такое завернем, что этот куркуль Капраш сам прибежит в колхоз записываться, а мы еще подумаем, принимать его или нет. И без его плачинт обойдемся. Все у нас будет, и не казенное, а свое, колхозное, значит – общее.
Тусклая лампочка, одиноко свисающая с потолка, вдруг начала быстро мигать.
– Костаке-моторист сигнал дает – по домам пора, – послышался чей-то голос. – Засиделись, мол.
Председатель отвернул рукав гимнастерки, взглянул на трофейные немецкие часы.
– В самом деле, пора кончать. Все свободны, а я еще посижу, надо на завтра кое-какие бумаги в райком подготовить.
Он приподнял стоящую на столе керосиновую лампу с треснутым закопченным стеклом, взболтнул, чтобы убедиться, есть ли в ней еще керосин, пододвинул чистый лист бумаги, взял карандаш и стал сосредоточенно писать, заглядывая в блокнот. Минут через десять лампочка, подмигнув на прощание, погасла, и председатель зажег керосиновую лампу.
Дверь, противно скрипнув на несмазанных петлях, отворилась. Председатель всмотрелся в дверной проем, стараясь разглядеть в полумраке, кто бы это мог пожаловать в такое позднее время. Ночной гость сделал несколько шагов, и он узнал участкового уполномоченного МГБ лейтенанта Иона Пынзару.
– А, лейтенант! Заходи, присаживайся. Не спится или случилось что?
Пынзару, не снимая новенькой шинели, сел, достал матерчатый кисет, не спеша свернул самокрутку. Закурив, сказал:
– Да нет, Тимофей Иванович ничего не случилось. Служба, сами знаете. Обход села делаю. К вам вот на огонек заглянул. Не помешал? Смотрю, засиделись вы сегодня. Ночь на дворе.
– И у меня тоже служба, дорогой. За день не успеваю. Райком, понимаешь, требует к утру справку о подготовке к севу. Сижу, сочиняю, – он показал на исписанные листки сероватой грубой бумаги.
Участковый понимающе кивнул:
– Ясно, Тимофей Иванович, однако и отдохнуть не мешает. Тепло у вас, – без видимого перехода продолжал Пынзару, – я посижу, погреюсь, если можно, конечно, а вы работайте. Я тихо…
Получив согласие, он снял шинель, аккуратно повесил ее на гвоздик у двери и присел к печи. Председатель снова взялся за карандаш, и в комнате установилась такая тишина, что было слышно слабое потрескивание в лампе сгоравшего керосина. За окном раздался какой-то шорох. Председатель, занятый составлением справки, ничего не услышал или просто не придал этому шороху значения. Пынзару же сторожко вскинул голову, прислушался и, на ходу расстегивая кобуру пистолета, стараясь не стучать сапогами, выскользнул из кабинета. Постоял на крыльце, вглядываясь в ночную мглу, потом медленно обошел вокруг приземистого здания правления.
Над селом стояла глубокая ночная тишина. Смутно белели размытые сырой темнотой пятна крестьянских домов. «Почудилось, верно, или собака бродячая пробежала», – подумал участковый и возвратился в кабинет председателя. Тот лишь сейчас заметил, что лейтенант уходил, и поинтересовался; где он был.
– Да так… По нужде, – пробормотал Пынзару.
Председатель собрал со стола бумаги, спрятал их в старый офицерский планшет.
– Однако, действительно пора. Засиделись мы с тобой, товарищ лейтенант. – Он взял планшет, надел старую шинель со следами погон. – Завтра с утра прямо из дому в район поеду.
Пынзару, прежде чем выйти, оглядел комнату, задержал взгляд на черном квадрате окна.
– Вы бы, Тимофей Иванович, Анице сказали, чтобы занавески хоть какие повесила, все ведь просматривается.
– Просматривается, говоришь? А мне скрывать нечего от людей. Пусть смотрят, кому интересно. Занавесочки… – Он поморщился. – Ты еще про ковры забыл. Не до занавесочек сейчас, лейтенант, колхоз поднимать надо, а там видно будет. Может, и до занавесочек дойдет очередь.
– Вы меня не так поняли, Тимофей Иванович, – чуть смущенно произнес участковый. – Не для красоты занавески требуются… Чтобы с улицы не видно было. Мало ли что случиться может. Время ведь какое…
– Какое? – горячо перебил лейтенанта его собеседник. – Замечательное время, дорогой товарищ, я бы сказал – историческое время мы с тобой переживаем. Посмотри, что вокруг делается! Фашистов побили, бояр прогнали, у людей будто крылья за спиной. Не у всех, правда, – уже другим, озабоченным тоном закончил председатель.
– Вот об этом самом я и толкую, Тимофей Иванович. – Пынзару словно ожидал этих слов. – Не по нраву пришлись кое-кому новые порядки, всем недовольны, все им не так. А колхоз – ну просто поперек горла стал. Людей мутят, по злобе могут на все пойти. Одно слово – кулачье. Как бы чего худого не случилось, Тимофей Иванович, и вам не мешало бы поиметь это в виду.
Председатель слушал участкового молча, только желваки на его худом, успевшем к ночи зарасти черной щетиной лице упрямо заиграли, в глазах зажегся недобрый огонек.
– Ты за кого меня принимаешь, лейтенант? Неужто думаешь, что я кулачья испугался? Фронт весь прошел, труса не праздновал, а тут, среди своих… – Он только махнул рукой.
– Зря вы так, Тимофей Иванович, – несколько обескураженно сказал Пынзару. – Оперативная обстановка…
Он не успел досказать, потому что председатель снова перебил:
– Что ты затвердил – оперативная обстановка, оперативная обстановка… Хватит, уже слышал. На фронте – вот где была обстановочка, и ничего, живой, как видишь, остался. Зацепило, правда, пару раз. Ты пойми: нельзя мне, коммунисту, фронтовику, председателю колхоза, их бояться, никак нельзя, просто невозможно. Ты подумал, что люди скажут?
Председатель и участковый вышли в коридор, попрощались со стариком – ночным сторожем, дремавшим на скамейке, и оказались на улице. Мындрешты давно уже спали. Ни в одном из домов не светилось окно. Откуда-то издалека до них донесся приглушенный туманом собачий лай и тут же смолк. Размокшая от недавнего дождя глинистая земля налипла на сапоги, и они стали тяжелыми, ноги скользили, разъезжались в разные стороны.
На углу, возле полуразвалившегося каменного забора, председатель остановился.
– Тебе, кажется, налево, Ион?
Однако тот не уходил, нерешительно топтался на месте.
– Хочу еще раз обойти участок, Тимофей Иванович, так что нам как раз по пути.
– По пути, говоришь? – недоверчиво переспросил председатель. – Может, и так, только я дальше пойду один, без провожатых. Не маленький, чтобы меня за ручку водили. А ты неси свою службу, лейтенант. Бывай здоров!
Он повернулся и решительно зашагал в темноту.
– Тимофей Иванович, постойте! – окликнул его участковый.
Пынзару догнал председателя, держа в руке что-то блестящее. «Никак пистолет», – изумился председатель.
– Вот, возьмите, – протянул ему пистолет Пынзару. – Браунинг. Трофейный.
Председатель повертел в руке гладкий, отливающий матовой белизной даже в темноте пистолет.
– Да ты, Ион, никак спятил, что ли? Зачем мне эта игрушка? Они мне, знаешь, как надоели за четыре года.
– Возьмите, Тимофей Иванович, – настаивал Пынзару. – На всякий случай. Неспокойно в селе. Всякое может быть. Я давно вам хотел его дать.
– Ладно, спасибо, как говорится, за заботу.
Председатель сунул пистолет в карман шинели и зашагал прочь. Если бы участковый последовал за ним, то с удивлением увидел бы, что он прошел мимо своего дома и направился дальше, в самый конец улицы, туда, где к селу подступали уже кодры. Остановился возле одного из домов и легонько постучал в окно. В доме раздались торопливые шаги, окно слабо засветилось, и на крыльцо вышла женщина в накинутом на голые плечи платке.
– Заходи, Тимоша, заждалась, думала, не придешь уже.
Женщина бросила быстрый внимательный взгляд на пустынную улицу и осторожно прикрыла за собой дверь.
ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК
Степан Петрович Якуб, плотно поужинав, сидел в тяжелом раздумье за столом. Полстакана самогона, которым он предварил свою трапезу, не принесли желанного облегчения, скорее даже наоборот. Поколебавшись, он взял бутылку с мутноватой жидкостью, налил еще, залпом, не морщась, выпил. Из головы не выходил утренний разговор с председателем сельсовета. Разговор был серьезный, крупный разговор, и ничего хорошего он для Якуба не сулил. «Сволочь, – с ненавистью подумал о председателе Якуб. – Голодранец. Давно ли спину на меня гнул, в пояс кланялся, шапку ломал, когда хлеб приходил взаймы просить. А теперь вон как заговорил: срываешь план хлебосдачи, вола забил и на базаре мясо продал. Саботируешь, говорит, мероприятия Советской власти. Два дня сроку даю, а потом пеняй на себя. Саботажник. Словам-то каким выучился. А что мне дала ихняя власть?»
Тяжелая волна бессильной злобы захлестнула все его существо.
«Да какое ему дело до моего вола? Мой вол, что хочу, то и делаю. Даст бог, недолго осталось уже терпеть эти издевательства. Кончится скоро ихняя власть, сведущие люди сказывали. Вот тогда поговорим по-другому. Снова хозяином стану на своей земле. Эх, хороша была землица, самую лучшую скупал у таких вот лодырей, как этот Настас, нынешний председатель сельсовета. Шестнадцать гектаров, один к одному. Две лошадки, молотилка. Трактор перед самой войной купил. Немецкий, «ланс-бульдог». Красиво назвали немцы, не то, что у этих – сэ-тэ-зэ, чэ-тэ-зэ… Язык поломаешь, пока выговоришь. Где все это теперь? Сначала трактор реквизировали, потом молотилку, землю отрезали. Кулаком я по-ихнему называться стал, чужой труд, говорят, эксплуатирую. А я же, кроме добра, людям ничего не делал, наоборот – помогал. И работу давал, и зерном ссуживал… под проценты, конечно, как все настоящие хозяева, которые цену деньгам знают. А нынче вот кулаком оказался. Всю жизнь добро копил, а получилось – для колхоза ихнего, будь он трижды проклят! – Якуб бросил испуганный взгляд на икону Николая Чудотворца и перекрестился. – Просто смешно: хозяйство без хозяина, все общее. Общее – значит ничье. Пойдут по миру колхознички. Скорее бы, дай-то бог».
Во дворе яростно залаял пес. «Кого еще нелегкая принесла? – с тревогой подумал Якуб. – На своих Гривей так не лает». Якуб заторопился во двор. У калитки стоял высокий молодой человек с большим портфелем в руках. «Неужто уполномоченный по заготовкам из района пожаловал? Их много нынче по селам шныряет, не иначе как Настас направил, будь он неладен». Якуб, не зная, как встретить нежеланного гостя, стоял в нерешительности, ничего не говоря.
– Да это же я, дядя Степан! – громко произнес гость. – Не узнаешь? Значит, богатым буду. – Он рассмеялся.
– Гриша, ты, что ли? – Якуб узнал, наконец, своего племянника. – Извини, глаза уже не те, старею, да и сумерки на дворе. Заходи в дом.
Обнялись по-родственному. В комнате, при свете керосиновой лампы, Якуб долго разглядывал племянника.
– Однако ты вон каким стал. Настоящий мужик. В последний раз ты года два назад приезжал, помнится. – Он снова внимательно взглянул на племянника. – И на мать, сестру мою младшую, еще больше походить стал. Красивая была в молодости, наши, чулуканские парни, прохода не давали, а вышла за другого, на чужой стороне. И правильно. Богатый жених, почему не выйти? Как они там сейчас? Трудные времена настали ведь…
Григорий помолчал, ответил не сразу.
– Неважно, дядя Степан, по правде сказать. Слышал, раскулачивать родителей собираются.
– Да… – Якуб тяжело вздохнул. – Действительно… – Ну а ты-то как поживаешь? В армии еще служишь, в отпуск приехал? Или вчистую отпустили?
Племянник ничего не ответил, молча оглядывая комнату, задержал взгляд на бутылке самогона. Хозяин поймал этот взгляд, спохватился, наполнил стаканы.
– Ну давай. Со свиданьицем! За встречу!
Выпив, Григорий сам отрезал толстый кусок розового сала, с жадностью впился в него крепкими зубами.
– Кушай, Гришенька, не стесняйся. Изголодался, небось, на казенных харчах, – Якуб с притворной жалостью смотрел, как Григорий поглощает еду.
Не переставая жевать, племянник потянулся к бутылке, разлил остатки самогона. Выпили по второй – за все хорошее. Григорий полез в карман, вынул плоский блестящий портсигар, протянул Якубу. Тот толстыми негнущимися пальцами с трудом взял длинную папиросу, повертел в руке, отложил и скрутил самокрутку.
– Не привык я к этим штукам, – как бы извиняясь перед племянником, произнес он.
Григорий только усмехнулся и, затянувшись папиросой, спросил:
– Ну, а ты как живешь, дядя Степан? Вроде неплохо. – Он показал на стол, заставленный тарелками с салом и брынзой. – С голоду не помираешь.
– Не помираю, это ты верно говоришь, Гришенька… Да разве ж это жизнь? – Якубу во всех неприятных подробностях припомнился недавний разговор с председателем сельсовета. – Если так и дальше пойдет, то и по миру пойти можно.
– Чем недоволен, дядя Степан? – Григорий искоса взглянул на своего собеседника.
– Всем, Гришенька, всем. Скажу тебе откровенно, как родному: не дают жить коммунисты. Каждый голодранец командовать норовит, вроде этого Настаса.
– Кто это – Настас?
– Наш, чулуканский, председатель сельсовета. Еще в сороковом году, когда Советы пришли, стал председателем. Война началась – в Россию сбежал. Испугался, что отвечать придется за свою службу коммунистам. А теперь снова председателем выбрали. Измывается над людьми – просто невозможно сказать. Такая злость берет, что в голове все мутится, Гриша.
Разгоряченный самогоном Якуб еще долго изливал душу перед племянником, вспоминая все обиды и оскорбления, нанесенные ему Настасом и другими представителями власти, и под конец сказал:
– Слышал я, недолго продержатся голодранцы со своими колхозами. Говорят, за границей блок какой-то против большевиков создали, Атлантический, что ли. Верные люди передавали. Знающие.
Племянник задумался, спросил после паузы:
– Какие люди?
– Сам же знаешь, Гриша, не все хозяева, я о крепких мужиках говорю, за Прут подались, когда русские войска подходили. Остались, жалко было добро бросать… А тут слух как раз прошел: помирятся американцы с немцами и вместе против Советов войной пойдут. Мне сам нотарь [2]2
Нотарь – делопроизводитель в управе, выполняющий юридические функции.
[Закрыть]говорил, я и поверил, старый дурак. А получилось по-другому. – Он тяжело вздохнул. – Теперь снова разговоры идут: американцы, значит, бомбу какую-то особенную, страшной силы придумали, и скоро конец Советам придет с ихними колхозами! – Якуб снова опасливо оглянулся на икону и перекрестился. – Ты вот, Гришенька, человек молодой, грамотный, военный человек, ты скажи: правда это или просто болтают?
Тот, кому был адресован вопрос, молча, испытующе разглядывал одутловатое, с заплывшими жиром глазками, лицо своего родственника, будто видел его впервые.
– Все верно люди говорят, дядя Степан, атомная бомба она называется. Америка две такие бомбы на Японию сбросила, так от двух городов, побольше Кишинева, один пепел остался. Ты разве не слышал?
Якуб неопределенно пожал плечами: куда, мол, нам, мы люди темные.
– Так вот что я тебе скажу, только по большому секрету, как родственнику: у них, американцев, сейчас еще сильнее бомба имеется. Водородная. В миллион раз сильнее атомной. Понял?
Якуб молча кивнул, задумался.
– И много у них этих самых бомб, Гриша?
– Много… Сколько точно – сказать не имею права – военная тайна. Государственный секрет.
Якуб был поражен услышанным: выходило, что его племянник посвящен в государственные тайны Америки.
– А с нами-то что будет, если они эту бомбу на Молдавию кинут? – испуганно спросил Якуб.
– Не бойся, дядя Степан, не кинут. – Григорий снисходительно посмотрел на дядю. – Нет им никакого смысла. Они эти бомбы для больших городов, таких, как Москва или Ленинград, где заводов много, придумали. В Молдавии другое оружие они применят, пушки особые… стреляют не снарядами, а лучами сонными. Подойдут к Пруту, направят лучи – и готово, все спят, и солдаты тоже. А когда проснутся – они уже здесь. У них знаешь техника какая! Не то что у большевиков.
Якуб, почти протрезвев, во все глаза смотрел на племянника.
– И откуда ты все знаешь, не врешь ли часом?
– Вот тебе истинный крест, дядя Степан! – Григорий перекрестился, повернувшись к иконе. – Я ведь в армии знаешь кем служил? Начальником радиостанции. По радио и получал инструкции.
– Инструкции? – переспросил окончательно сбитый с толку Якуб. – От кого?
– Этого пока сказать не могу, – значительно произнес племянник. – Придет время – узнаешь. Я, – он оглянулся по сторонам и, понизив голос до шепота, продолжал: – выполняю особое задание. Жду связника со дня на день. Он передаст последние указания центра, когда начинать… Думаю, что скоро, как только американцы разгромят коммунистов в Корее. А пока у тебя поживу… Если не возражаешь, дядя Степан.
– Живи… – нерешительно пробормотал Якуб. – Только как бы чего не вышло… беды какой.
Григорий встал, прошелся по комнате, уверенно, бодрым голосом произнес:
– Не дрейфь, не бойся; говорю, – пояснил он, догадавшись, что дядя не понял, что означает «не дрейфь». – Зато потом, когда все кончится, заживем мы с тобой… Снова хозяином станешь, все уважать будут. И мне дело найдется. Давай-ка за это выпьем. По последней.
Якуб нехотя поднялся, пошел за самогоном. Когда выпили «по последней», Григорий как бы между прочим спросил:
– О каких верных людях ты говорил, дядя Степан? Ну, которые про войну тебе рассказывали. Много их?
– Точно не знаю, – после некоторого размышления ответил тот. – Одно знаю точно – не мне одному поперек горла колхозы стали ихние. Конечно, не каждый скажет, что у него на душе. Затаились люди. По домам шепчутся, промеж своих. Не то, что Бодой. Вот это человек! Гайдук! За всех нас борется. И собой видный, ростом тебя повыше будет, храбрости и силы удивительной! Подкову как проволоку гнет. Сам видел.
– А ты разве его знаешь? – с интересом спросил Григорий.
– Филимона? Как не знать! Его многие знают. Он кузню в соседних Мындрештах держал. Цыгане – они ведь больше по кузнечному делу. Хороший был кузнец, со всей округи к нему лошадей водили ковать. Когда Советы пришли – в кодры подался. Не по нутру ему их власть. Слышал я, огромный отряд собрал, Черная армия называется. В страхе коммунистов да активистов колхозных держит. – Якуб злорадно хихикнул. – Побольше бы таких – и духу бы от них не осталось. Ловят его, ловят, а поймать не могут. Вроде заколдованный. Хитрый цыган, и грамоту знает, хотя и не такой грамотный, как ты. – Якуб с уважением посмотрел на племянника.
– Значит, Черная армия называется отряд Бодоя? – задумчиво переспросил Григорий. – Почему такое название?
– Кто его знает, так сам Бодой свой отряд называет, чтобы, значит, боялись больше… Ночью они выходят… И черную одежу носят… чтобы в темноте не видно было.
– И ты, дядя Степан, говоришь, что лично знаешь этого Бодоя?
– Конечно, знаю, зачем мне врать тебе? А что?
– Да хотелось бы с ним познакомиться поближе.
– Это можно… – не слишком уверенно ответил Якуб. – Только не простое дело. Осторожный он больно, недоверчивый. Его доверие надо заслужить. Понимаешь, Гриша?
– Ясно. За этим дело не станет. И вот еще что, – в голосе племянника Якуб уловил начальственные нотки, – познакомь меня со своими друзьями, ну с теми, верными людьми, о которых говорил. И с другими поговори, откровенно, по душам. Поинтересуйся; кто чем дышит. Только осторожно, с умом действуй. Нужна мне парочка хороших ребят помоложе. Да, чуть не забыл: Надя Пламадяла как поживает? В селе или уехала куда?
– Здесь она, куда денется с малым ребенком. Родила ведь Надька недавно, а муж или кто там у нее был, сбежал. Непутевый мужик оказался. Учительствует она в школе. О тебе, кстати, всегда спрашивает, когда встречаемся на улице.
Родственники поговорили еще о разных разностях и отправились спать.










