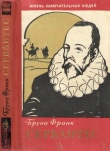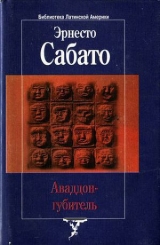
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
– Теория о душе?
– Да, душу помещали в одной из желез. А по существу это два различных ряда.
Доктор Аррамбиде вытянул манжеты сорочки, поправил галстук. На его лице появилось ироническое выражение.
– Два различных ряда?
– Да, совершенно различных. Лучше сказать, кардинальноразличных. Мир материи и мир духа. Псевдоученые утверждают, что в мире духа действует закон причинности. Это нелепость.
– Стало быть, вы верите в обособленное существование духа. Отсюда совсем недалеко до спиритизма. Верно?
– Вы произносите слово «спиритизм», и все превращайся в шутку. В какой-то мере вы ставите меня на одну доску с Тибором Гордоном и матерью Марией [119]119
Известные в Буэнос-Айресе спириты. (Примеч. исп. издателя.)
[Закрыть]. Шутка дешевая, доктор.
– Не сердитесь. Я хотел сказать, что идею существования чистого духа без поддержки плоти, пожалуй, весьма нелегко защитить.
– Я не говорю об обособленной жизни духа. Я лишь сказал, что это два кардинально различных ряда. Пилот и самолет объединены, однако они принадлежат к двум разным мирам. Но я уже говорил, что не желаю спорить. Какой смысл спорить в домашнем кругу двум людям, заранее знающим, что никто из них не убедит другого?
– Значит, я – никто? – возмутилась Беба.
– Ты мои идеи знаешь.
– Ты мне говорил какой-то вздор, безответственные фразочки. Я всю жизнь прошу тебя объяснить теорию относительности.
– Вот именно, – снова вмешался Аррамбиде. – Я полагаю, что предчувствия можно объяснить только с помощью четвертого измерения.
Сабато молчал, внимательно разглядывая пол.
– По-моему, ты мог бы немного снизойти до нас и ответить.
– Я сказал – это бесполезно. Наши позиции непримиримы.
– Но он сейчас тебе кое-что подсказал. Четвертое измерение.
– Да, многие на этом настаивают. Однако материя и дух подчиняются разным законам. Теория относительности применима к физическому миру. Тут нет ничего общего. Объяснять факты духовного мира с помощью геодезии все равно, что пытаться исторгнуть страх зубоврачебными щипцами.
– Вы так считаете? – ехидно спросил Аррамбиде.
– Да, считаю.
– Иногда страх бывает следствием нарушений в работе печени.
– Мне эта теория известна, доктор.
Аррамбиде поднялся.
– Я должен идти к своим больным.
Едва он вышел, как Беба превратилась в настоящую фурию.
– Ну, это уже предел! Карлитос – лучший детский врач во всем Буэнос-Айресе!
– Кто это отрицает? Он может прекрасно лечить понос и при этом считать Уильяма Блейка жалким безумцем.
– О, ты большой хитрец и споришь нечестно. Когда тебе нужно, выдаешь один аргумент. А если не действует, выдаешь противоположный.
– Это ты так думаешь. Ты никогда не слышала, чтобы я объяснял предчувствия теорией относительности. Дело в том, что когда о проблеме пространство – время рассуждают последовательно, дилетанты, считающие себя сверхумными, думают, будто здесь применима теория Эйнштейна.
– А разве это не так?
– Вот видишь, насколько нам бесполезно спорить! Нет, не так. Секунду тому назад ты слышала мой ответ этому достойному врачу о том, что материя и дух подчиняются различным законам. Теория относительности применима к физическому миру. И не применима к духовному. Слышала ты это?
– Что?
– Объяснять, пытаться объяснять страх с помощью геодезии все равно, что пытаться исторгнуть страх зубоврачебными щипцами.
– Пусть так. Ты лучше изложи свою теорию.
– Можешь о ней прочитать, если хочешь.
– У меня нет времени.
– Куда ты все спешишь, никто ведь не умирает.
– Брось, не будь занудой.
– Моя теория, – со вздохом сказал Сабато, – основана на том, что душа может отделяться от тела.
– Только и всего!
– Конечно. Но это, на мой взгляд, единственный способ объяснять предчувствия, ясновидение и все прочее. Почитай, кстати, Фрэзера [120]120
ФрэзерДжеймс Джордж (1854—1941) – английский ученый, исследователь истории религии.
[Закрыть]– все примитивные народы верят, что душа во время сна отделяется от тела.
– Ну что ты, Эрнесто! Это уж чересчур! Получается, что лучшее доказательство какой-либо теории это верования готтентотов! Да это верх безответственности и мракобесия. Да, друг мой, большевики правы. Отсюда один шаг до того, чтобы получать денежки в посольстве США.
– Тогда выходит, что Леви-Стросс [121]121
Леви-СтроссКлод (род. в 1908 г.) – французский этнограф и социолог.
[Закрыть]агент ЦРУ. Посмотри, что он говорит о так называемых примитивных культурах.
– Ладно, оставим ЦРУ в покое. А дальше что?
– Когда душа отделяется от тела, она отделяется от категорий пространства и времени, применимых только к материи, и может созерцать подлинное настоящее. Если это верно, то в снах должны являться не только характерные элементы прошлого, но также видения или символы будущего. Видения не всегда ясные. Почти никогда они не бывают однозначными, точными.
– Почему так?
– Потому что в этих видениях прошлое с его страданиями и воспоминаниями, с его страстями примешивается к будущему, замутняя его и искажая в передатчике, которым является душа, уже перевоплотившаяся в момент нашего пробуждения. Поняла? Она уже входит в тело, и поэтому начинает подчиняться причинно-следственным рациональным категориям. Но даже и тогда сохраняется воспоминание о тайне, хотя это воспоминание неясно и как бы замутнено земной жизнью. Скажу больше: поскольку в будущем предстоит смерть нашего тела, сон иногда являет нам также видения нашего потустороннего бытия. Тогда кошмары – это видения ожидающего нас ада. Ведь это яснее ясного. Разве не так?
– О да, очень ясно. Все, конечно, определяется тем, что готтентоты знают больше, чем мы. Иди, иди в посольство, мне очень нужны доллары.
– Погоди, это лишь первая часть моей теории. То, что обычный человек испытывает во сне, люди незаурядные проживают в состоянии транса – это ясновидящие, сумасшедшие, художники и мистики.
– Вот-вот, сейчас я позову Кодовилью [122]122
КодовильяВикторио (1894—1970) – деятель аргентинского и международного коммунистического движения. В 1941—63 гг. – секретарь ЦК КПА. С 1963 г. – председатель КПА.
[Закрыть].
– В приступе безумия душа испытывает нечто похожее, если не тождественное, тому, что испытывает каждый человек в момент засыпания: она покидает тело и входит в другую реальность. Ты никогда не задумывалась над выражением «быть вне себя»? И над такими словами, как «отчуждение» или «отключение»? Всякий раз, когда мне случалось видеть буйнопомешанного, у меня было жуткое ощущение, что несчастный терпит адские муки. Но теперь я понимаю, что это его душа уже находитсяв своем аду. Его неистовые движения, страдания, гримасы и поведение дикого зверя, окруженного грозными опасностями, его бредовые речи суть не что иное, как непосредственное переживание ада. Он страдает наяву от того, что мы испытываем в самых жутких кошмарах. В некоторых случаях подобное схождение в адские бездны бывает лишь временным. Это у бесноватых. Подумай, какая верная интуиция заложена в древней мудрости.
– Готтентотов?
– Нет, людей, которые проходили сложные испытания, посильные лишь немногим посвященным, и возвращались к нормальной жизни, словно пробудившись от жестокого кошмара.
– Не понимаю, почему – если твоя теория верна – могут существовать люди, которые видят также рай. Ну конечно, они есть, глупышка. У тебя самой разве не бывает блаженных снов? А в домах для умалишенных, разве ты не встречала тихих, улыбающихся безумцев, никому не причиняющих зла? Теперь слушай внимательно, что я скажу. Такое отключение может быть также вызвано по своей воле. Это бывает у мистиков, у поэтов: «Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant!» [123]123
«Я говорю, что надо быть ясновидящим, надо стать ясновидящим!» ( фр.). Из письма А. Рембо к Полю Деменьи 15 мая 1871 г.
[Закрыть]
– Ну, если не застану Кодовилью, позову разоблачителя мистификаторов.
– Хороша, нечего сказать. Не хватает лишь, чтобы ты спустилась на самые нижние ступени позитивизма. А еще смеешься над беднягой Аррамбиде. Думаю, по сути оба вы из одного теста.
Сабато поднялся, чтобы уйти. Он явно был раздражен.
– Нет, нет, и не думай. Теперь тебе не удастся сбежать от меня без объяснений.
– Ну, ладно. Я уже сказал, что некоторые люди могут достигать по своей воле такого отключения или отчуждения. Этому способствует сильное желание и пост, упорство в достижении цели и, разумеется, врожденные способности, небесное или демоническое вдохновение. Подобное дано мистикам. Экстаз. Посмотри, язык никого не обманывает, разве что идиотов. Extasis [124]124
Экстаз – лат. от греч. ек – из, вне и stasis – спокойствие, положение.
[Закрыть]. Выйти из себя, выйти из собственного тела, переместиться в вечность, как, например, йоги. Такая смерть, чтобы возродиться в другом мире, освободившись от временной тюрьмы. То же и с художниками. То, что сказал Платон, на самом деле не что иное, как убеждение древних: поэт, вдохновленный демонами, повторяет слова, которые никогда бы не произнес в здравом уме, описывает видения сверхъестественных мест – точно так же, как мистик. В этом состоянии, как я уже говорил, душа обладает восприятием, отличающимся от нормального, стираются границы между объектом и субъектом, между реальным и воображаемым, между прошлым и будущим. И подобно тому, как невежественным людям являлись видения и они произносили слова неизвестных им языков, невинная, чистая девушка, вроде Эмили Бронте сумела написать такую страшную книгу. Как могла бы ее сочинить душа иная, чем у Хитклифа [125]125
Хитклиф– главный герой романа «Грозовой перевал» (1847) английской писательницы Эмили Бронте (1818—1848).
[Закрыть], подвластная инфернальным силам? Освобождением души художника от плоти в момент вдохновения можно также объяснить пророческий смысл, которого он достигает иногда, пусть в загадочной, символической или двусмысленной форме сновидений. Что отчасти вызвано темнотой, окутывающей тот континент который душа наша видит как бы через мутное стекло, – ведь освобождение от плоти не полно. Отчасти же, пожалуй, тем, что наше рационалистическое сознание не способно изобразить вселенную, которая не управляется ни повседневной логикой, ни принципом причинности. А также тем, что человек, видимо, не способен вынести видения ада. Тут просто действует инстинкт самосохранения.
– Чей инстинкт?
– Инстинкт тела. Я уже тебе говорил, что во сне или в состоянии вдохновения мы не вполне освобождены от тела. И инстинкт самосохранения предохраняет нас масками, как асбестовые костюмы – смельчаков, которым надо входить в пламя пожара. Предохраняет нас масками и символами.
Беба смотрела на него. Смотрела с иронией или с нежностью? Возможно, с той смесью иронии и нежности, с какой матери смотрят на своих детей фантазеров, играющих с невидимыми сокровищами или с собаками.
– О чем ты задумалась? – подозрительно спросил C.
– Ни о чем, дурачок. Задумалась, вот и все, – ответила она, глядя га него с тем же выражением.
– Ну ладно, продолжаю. Богословы много рассуждали об аде и иногда доказывали его существование, как доказывают теорему. Но только великие поэты открыли нам истину, рассказали, что они видели. Вспомни – Блейк, Мильтон, Данте, Рембо, Лотреамон [126]126
Лотреамон(псевдоним, наст, имя: Изидор Дюкас; 1846—1870) – французский поэт, автор двух книг, в которых сочетаются романтическое отрицание буржуазного общества и апофеоз утилитаризма.
[Закрыть], Сад, Стриндберг, Достоевский, Гельдерлин, Кафка. Какой смельчак решится подвергнуть сомнению свидетельства этих мучеников?
Он посмотрел на нее почти сурово, словно требуя отчета.
– Они видят сны за всех нас, – почти выкрикнул он. – Они осуждены, пойми это, осужденыоткрыть людям адские пределы.
Он умолк, воцарилось недолгое молчание. Потом, словно разговаривая сам с собой, прибавил:
– Не помню, где я читал, будто Данте всего лишь передавал идеи и чувства своей эпохи, модные богословские предрассудки, широко распространенные суеверия. Тогда это было бы попросту описание сознания и чувств некой культуры. Возможно, тут есть доля истины. Однако не в том смысле, который выдвигают социологи, изучающие чувство ужаса. Я полагаю, Данте видел. Как все великие поэты, он видел то, что обычные люди предчувствовали менее четко. Люди, смотревшие, как он, худой, молчаливый, ходит по улицам Равенны, шептали с благоговейным страхом: вот идет тот, кто побывал в аду. Ты об этом знала? Буквально так говорили. Это была не метафора – люди верили, что Данте побывал в аду. И они не ошибались. Ошибаются нынешние умники, эти кичливые всезнайки.
Он умолк и, задумавшись, снова уставился в пол.
Беба смотрела на него со слезами на глазах. Когда С. поднял голову, он спросил, что с ней.
– Ничего, глупый, ничего. Только одно – несмотря ни на что я вполне женщина. Пойду купать Пипину.
Начо издали следил за сестрой,
и так они дошли до перекрестка авениды Кабильдо и улицы Эчеверриа. Там Агустина пересекла Кабильдо, направилась по Эчеверриа и, выйдя на площадь, пошла медленней, характерной своей походкой крупными шагами, но теперь словно ступала по заминированной территории. Однако больше всего его удручало, что она то и дело останавливалась и озиралась вокруг, будто кого-то потеряла. Потом села напротив церкви – Начо видел ее при свете фонаря, лицо у нее было сосредоточенное, она смотрела то в землю, то по сторонам.
И тут он увидел приближающегося к ней С. Она быстро встала, С. решительно взял ее под руку, и оба направились по Эчеверриа в сторону улицы Аркос.
Прислонясь спиной к стволу дерева, Начо, закрыв глаза, долго стоял в темноте. Когда собрался с силами, он, не оглядываясь, направился домой.
О бедняках и о цирках
Лежа в постели, Начо угрюмо разглядывает жирафов, мирно и свободно пасущихся на лугах Кении. Нет, он не хочет думать о том. Не хочет, чтобы ему было семнадцать лет. Ему семь лет, и он смотрит в небо над парком Патрисиос.
– Посмотри, Карлучо, – говорит он, – вон то облако – это верблюд.
Не переставая потягивать мате, Карлучо поднимает глаза и отвечает, утвердительно хмыкнув. Время сумерек, в парке царит тишина. Начо обожает эти часы рядом со своим другом – можно побеседовать о стольких важных вещах.
– Карлучо, – говорит он после долгого молчания, – я хочу, чтобы ты мне сказал правду. Ты веришь в Царей Волхвов?
– В Царей Волхвов?
Карлучо не любит, чтобы ему задавали такте вопросы, и, как всегда, когда недоволен, начинает укладывать поровней шоколадки и карамельки.
– Ну же, Карлучо, скажи.
– В Царей Волхвов, говоришь?
– Да, скажи.
– Почем я знаю, Начо, – бормочет Карлучо, не глядя на мальчика. – Я человек темный, необразованный, даже начальную школу не окончил. Работал всегда только на самых тяжелых работах. Батраком был, грузчиком, сборщиком маиса, все в таком роде.
– Ну скажи, Карлучо.
Карлучо даже рассердился.
– Что за муха тебя укусила! Откуда мне знать такие вещи!
Уголком глаз он заметил, что мальчик огорченно опустил голову.
– Слушай, Начо, ты уж меня прости, я твой друг, но знай, что нрав у меня чертовски горячий.
Уложив заново ряд шоколадок, он, наконец, сказал:
– Ладно, Начо. Тебе уже семь лет исполнилось, надо сказать тебе всю как есть правду. Царей Волхвов нет. Все это сказки и обман. Жизнь и так печальная штука, зачем еще друг друга обманывать? Это тебе говорит Карло Америко Салерно.
– Откуда же берутся игрушки?
В голосе Начо звучало отчаяние.
– Игрушки?
– Да, Карлучо. Игрушки.
– Я же говорю, все это сказки. Ты разве не знаешь, что игрушки появляются только в башмаках у богатеньких? Когда был я во-от таким мальчонкой, цари в наши места никогда не заглядывали, только в дома богачей. Теперь ты понял? Это же ясней ясного – Царями Волхвами бывают отцы.
Начо нахмурился и стал выводить пальцем узоры на непокрытой плитами полосе тротуара. Потом взял камушек и, как бы невзначай, швырнул его в дерево. Карлучо, потягивая мате, озабоченно наблюдал за ним.
– Ладно, пора тебе знать, как обстоит дело, – сказал он наконец. – Все одна видимость. Покойный Дзанета, мир праху его, говорил – мир это тайна. И точно, он был прав.
Подошел покупатель, купил сигареты. После долгого молчания Карлучо торжественно изрек:
– Сволочная жизнь! Вот, кабы у нас был анархизм.
Начо взглянул на него с удивлением.
– Анархизм?
– Да, Начо. Анархизм.
– А что это такое?
Карлучо уселся на низенький стул и улыбнулся, задумчиво и мечтательно прикрыв глаза. Наверняка он думал о чем-то далеком, но приятном.
– Был бы здесь Луви, – сказал он.
– Луви?
– Да, Луви.
– А кто это – Луви?
В ответственные моменты, когда Карлучо собирался изложить какую-нибудь мысль, глубоко запавшую ему в душу, он менял заварку мате, двигаясь неторопливо и готовясь к своей речи долгим молчанием, – подобно тому, как, водружая статуи на площадях, оставляют вокруг открытое пространство, чтобы подчеркнуть их красоту.
– Кто был Луви? – повторил он с тем же мечтательным выражением глаз.
И, снова усевшись на низенький стул, принадлежавший когда-то его отцу, объяснил:
– Я тебе уже говорил, что в восемнадцатом году, как раз когда закончилась война, батрачил я в эстансии «Дон Хасинто», хозяйка там была донья Мария Унсуэ Дальвиар. Батрачил вместе с Кустодио Мединой. Тогда-то и появился Луви. Ты небось слышал про линьеру [127]127
Линьера(от диалектального пьемонтского lingera) – вошедшее в буэнос-айресское арго («лунфардо») слово, обозначающее батраков, поденных работников, которые приезжали из Италии и Испании на уборку урожая, а затем возвращались на родину.
[Закрыть], а?
– Линьеру?
– Они, знаешь, приезжали из-за моря с сумкой за плечами, шли пешком вдоль железной дороги. Придут в эстансию, а там для них всегда найдется еда и койка – вот так оно было.
– Значит, они были батраками, вроде тебя и Медины?
Карлучо отрицательно помахал пальцем.
– Э нет, батраками они не были. Линьера – это линьера, а не батраки. Мы, батраки, нанимались на работу по нужде.
– По нужде?
– Ну да, глупыш. Работали, чтобы деньгу заработать. Понял?
– А линьеры не работали?
– Работать они работали, да не ради денег. Никто их не заставлял.
Начо не понимал. Карлучо посмотрел на него и, наморщив лоб от напряжения ума, попытался объяснить получше.
– Линьеры, понимаешь, были свободны, как птицы. Придут в эстансию, сделают кой-какую работенку, коль захотят, а потом знай уходят как пришли. Как сейчас вижу – собрал Луви свои вещички, уложил в сумку, надумал уходить. Дон Бусто, управляющий, говорит ему – может, останешься тут, дружище Луви, работа есть, коли хочешь. Но Луви сказал – нет, дон Бусто, благодарю вас, только мне надо двигаться дальше.
– Надо двигаться дальше? Куда?
– Как это – куда? Разве не сказал я тебе, что линьеры были как птицы? Куда летят птицы? Ты это знаешь?
– Нет.
– Так слушай, что я тебе говорю, глупыш.
Он задумался, тоскуя по былому.
– Так и кажется, что вижу его, – сказал он. – Высокий, худой, борода рыжеватая, а глаза светло-голубые. На плече сумка. Мы все смотрели, как он уходит, – сперва меж домами, потом по дороге. А куда – кто знает!
Карлучо смотрел в глубину аллеи, будто видел, как Луви уходит все дальше в бесконечность.
– И больше ты его никогда не видел?
– Никогда. Может, он уже умер.
– Странное имя Луви, правда?
– Да, имя иностранное. Был он не то немец, не то итальянец, точно не знаю, только не такой итальянец, как мой отец. Вот так-то. Пришел, сделал какую-то работу по механической части, мотор какой-то починил, что-то в молотилке поправил. Все умел. А вечером в бараке для пеонов объяснял про анархизм.
– Анархизм?
– Да, читал книжку, что была у него, и объяснял.
– А что такое анархизм, Карлучо?
– Я же тебе говорил – человек я темный. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я объяснял, как Луви?
– Ну, хоть что-нибудь расскажи. Это была сказка, вроде той, что ты мне рассказывал про Карла Великого?
– Да нет, дурачок. Совсем другое.
Он потянул мате и глубоко сосредоточился.
– Сейчас я тебе задам вопрос, Начо. Слушай хорошенько.
– Слушаю.
– Кто сотворил землю, деревья, реки, тучи, солнце?
– Бог.
– Правильно. Стало быть, все это для всех, все имеют право владеть деревьями и греться на солнце. А вот скажи – должна птица просить у кого-то разрешение, чтобы летать?
– Нет.
– Может она летать туда-сюда и строить гнездо и растить деток – так ведь?
– Ясное дело.
– А когда проголодается или надо птенцов накормить, она ищет для них пропитание и несет им. Разве не так?
– Ясное дело.
– Так вот, человек, объяснял Луви, он как птица. Может свободно ходить туда-сюда. А захочет летать, может летать. Захочет строить гнездо, может его строить. Потому как стебельки и соломка для гнезда, и вода, чтобы купаться или пить, все это божье, и Бог это создал для всех людей. Понял? Если не понял, то мы не сможем продолжать.
– Понял.
– Вот и хорошо. Тогда почему же одни люди могут владеть землей, а другие должны быть батраками? Откуда они взяли свои поля? Они их создали?
Немного подумав, Начо ответил, что нет.
– Вот и хорошо, Начо. Значит, ты хочешь сказать, что они землю украли?
Начо очень удивился. Как так? И воров не посадили в тюрьму?
– Погоди, глупыш, погоди, – горько усмехнулся Карлучо. – Говорю тебе, они эту землю украли.
– Но у кого же они ее украли, Карлучо?
– Почем я знаю? У индейцев, у тех, кто прежде жил. Не знаю. Я же тебе сказал – я человек темный, но Луви все знал. Постой, давай минутку подумаем. Предположим – это только предположение, – что завтра все пеоны исчезнут. Можешь мне сказать, что тогда будет?
– Некому будет работать на земле.
– Точно. А если никто не обрабатывает землю, не будет пшеницы, а без пшеницы нет хлеба, а без хлеба людям нечего есть. И хозяевам тоже. Откуда они возьмут хлеб, можешь ты мне сказать? Теперь слушай хорошенько – сделаем еще один шаг. Предположим также, что исчезнут сапожники. Что тогда будет?
– Не станет башмаков.
– Точно… Теперь предположим, что исчезнут каменщики.
– Не станет домов.
– Правильно, Начо. Теперь я тебя спрошу, что случится, коли завтра исчезнут хозяева. Хозяева не сеют ни маис, ни пшеницу, не делают ни башмаки, ни дома, не убирают урожай. Можешь ты мне сказать, что тогда произойдет?
Начо смотрит на него с изумлением. Карлучо победоносно улыбается.
– Ну-ка, скажи, что случится, коли завтра исчезнут хозяева?
– Ничего не случится, – отвечает Начо, сам пораженный таким выводом. – Ничего не случится.
– Угадал. Теперь послушай, как нам объяснял Луви: сапожникам, чтобы делали обувку, нужна кожа, каменщикам нужен кирпич, пеонам нужны земля, семена, плуги. Верно?
– Верно.
– А кто владеет кожей, кирпичом, землей, плугами?
– Хозяева.
– Точно. Все в их руках. Потому-то мы, бедняки, стали рабами. У них есть все, а у нас нет ничего, кроме рук, чтобы работать. А теперь сделаем еще один шаг, так что слушай хорошенько.
– Слушаю, Карлучо.
– Если мы, бедняки, завладеем землей, и машинами, и кожей, и печью для обжига кирпичей, мы сможем мастерить башмаки и строить здания, сеять и жать, потому как у нас есть руки. И тогда не будет ни бедности, ни рабства. И болезней не будет. И каждый сможет ходить в школу.
Начо смотрел на него во все глаза.
Карлучо перекладывал журналы и сигареты, но думал, видимо, о своем сокровенном. Он напряженно размышлял, однако в голосе не было озлобления – голос звучал спокойно и ласково.
– Понимаешь, Начо, – продолжал он, – все очень просто. Луви по своей книжке все это объяснял и раскладывал на полу всякие вещи. Так и так: этот камушек – фабрика, это мате – машина, а эти фасолины – мы, пеоны. И говорю тебе, объяснял он нам, что тогда не будет больше ни болезней, ни чахотки, ни нищеты, ни эксплуатации. Все должны будут работать. А кто не работает, не имеет права жить. Ну я, конечно, говорю о здоровых мужчинах и женщинах. О детях, о больных и стариках речь не идет. Наоборот, говорил Луви, все, кто трудится, обязаны содержать инвалидов, детей и стариков. Так что один тачает башмаки, другой делает муку, третий печет хлеб, четвертый убирает урожай. И все, что они наготовят, хранится в большом бараке. В том бараке есть все: еда, одежда, школьные учебники. Все, чего душа пожелает. Даже игрушки и сласти для ребятишек, а это им так же нужно, как нам лошадь или сомбреро. Напротив этого барака стоит другой барак – там все это переписано, все на счету. И вот, к примеру, я прихожу и говорю, дай мне пару башмаков такого-то размера, а другой просит кило мяса, еще кто-то – унцию шоколада, а кто и куртку, потому как старая на локтях прохудилась. И каждому дают только то, в чем он нуждается.
– А если богач захочет чего-то побольше и купит себе?
– Говоришь, богач? – удивленно, но строго переспрашивает Карлучо.
– Да.
– О каком богаче ты говоришь, дурья башка? Я же тебе объяснил, что богачей больше не будет.
– Но почему не будет, Карлучо?
– Потому что денег не будет.
– А если у него они уже были раньше?
Карлучо, улыбаясь, отрицательно машет пальцем.
– Если они у него и есть, пусть не надеется, толку от них никакого. Зачем деньги, если все, что тебе нужно, берешь в том бараке. Деньги – это клочок бумаги. Да еще грязный, на нем полно микробов. Ты знаешь, что такое микробы?
Начо утвердительно кивает.
– Вот и хорошо. С деньгами покончено. Пусть дурак хранит их, если хочет. Никто ему не запрещает. Только они ему нигде уже не пригодятся.
– А если кто-то захочет взять в том бараке больше башмаков?
– Как это – больше башмаков? Не понимаю. Надо мне пару башмаков – иду в тот барак, и все в порядке.
– А вдруг кто-то захочет иметь три или четыре пары?
От изумления Карлучо перестает потягивать мате.
– Три или четыре пары, говоришь?
– Да, три или четыре пары башмаков.
Карлучо радостно смеется.
– Зачем же ему три или четыре пары, коли у нас всего две ноги?
А ведь верно. Начо это не пришло в голову.
– А если кто-нибудь придет и ограбит тот барак?
– Ограбит? Зачем? Он что, спятил? Если ему что-то нужно, он попросит, и ему дадут.
– Значит, тогда не будет полиции?
Карлучо с серьезным видом утвердительно кивает.
– Да, полиции не будет. Полиция – это хуже всего. Говорю по опыту.
– По опыту? Какому опыту?
Карлучо сгорбился и тихо, будто не желая об этом распространяться, будто прошлые эти дела он позабыл, повторяет:
– По опыту, и все тут, – и тем прекращает расспросы.
– А если кто-то не захочет работать?
– Пусть не работает, если не хочет. Посмотрим, что он запоет, когда проголодается.
– А если правительство не захочет?
– Правительство? Зачем оно нам, правительство? Когда я был мальчишкой и мы оказались на улице, с голоду помирали, мой старик выбился из нужды, потому что дон Панчо Сьерра взял его на бойню. Когда же я пошел батрачить, правительство тоже не понадобилось. И когда в цирке работал. И когда поступил на мясохладобойню Бериссо, единственно на что пригодилось правительство, это в забастовку наслать полицию и пытать нас.
– Пытать? Что это такое, Карлучо?
– Неважно, малыш, – нехотя ответил Карлучо, с грустью глядя на него. – Я это сказал нечаянно. Детям такое знать ни к чему. Вдобавок, сам знаешь, я человек необразованный.
Карлучо умолк, и Начо понял, что про анархизм он больше не заговорит. Тут пришел покупатель, взял сигареты и спички. Потом Карлучо уселся на свой стульчик и принялся молча посасывать мате. Начо смотрел на облако, размышлял.
– Ты видел, Карлучо? На пустыре Чиклана поставили цирк.
– Чиклана?
Да, сегодня там раздавали бесплатные билеты. Сходим с тобой?
– Не знаю, Начо. Сказать тебе честно, нынешний цирк гроша ломаного не стоит. Время большого цирка кончилось… – Держа мате в руке, он задумался, нахлынула тоска. – Много лет назад… – И, возвратясь к действительности, прибавил: – Наверно, плохонький, маленький цирк.
– Но когда ты был мальчиком, тоже были маленькие цирки. Ты сам разве не рассказывал мне про тот цирк?
– Да, конечно, – добродушно улыбнулся Карлучо. – Цирк Фернандеса… Но настоящих больших цирков, как в мое время, теперь нет. Пришел им конец… Их убил кинематограф.
– Кинематограф? Что это такое?
– Теперь называют просто «кино». Оно-то и убило цирк.
– Но почему, Карлучо?
– Э, ребенку это объяснить слишком сложно. Но поверь моему слову, пришел кинематограф – и все кончилось.
Он заваривает мате и возвращается к своим мыслям. На лице его появляется легкая усмешка с оттенком грусти.
– В восемнадцатом году появился Тони Лобанди… Он занял всю площадь Эспанья.
– Нет, лучше ты расскажи про цирк Фернандеса.
Карлучо сильно потянул мате, словно это усилие помогало ему думать.
– Начать с саранчи?.. Ну ладно… Отец обрабатывал небольшой участочек дона Панчо Сьерры. Дон Панчо был хороший человек. Он не только лечил бедняков, но еще и лекарства давал. Борода у него была седая, длинная – вот досюда. Вроде волшебника он был. Когда рождались дети, мать несла их еще до крещения к нему, и он ей говорил – мол, вот этот будет жить, а этот не будет. Было нас, детей, тринадцать, я тебе уже говорил. Так вот, дон Панчо ей напророчил, что трое не выживут, – Норма, Хуана и Фортуната.
– И они умерли? – с изумлением спросил Начо.
– Ясное дело, – спокойно ответил Карлучо. – Разве я не сказал, что он был вроде волшебника? Так что мама заранее смирилась, потому как дон Панчо ей говорил – вы, донья Фелисиана, не плачьте, смиритесь, на то воля Божья. Но мама все равно плакала и заботилась о бедняжках, а они все равно помирали. Такова жизнь, Начо.
– А теперь расскажи, почему вы ушли из тех мест.
– Старик мой был итальянцем. Тогда, в шестнадцатой году, он потерял все до последнего сентаво [128]128
Сентаво– мелкая монета, сотая доля песо.
[Закрыть]. Сказать тебе честно, ничего нет страшнее на вид, чем туча саранчи. Все небо темнеет, а мы, ребятишки, выбегали и стучали по бидонам из-под керосина. Да где там! Саранчу ничем не проймешь. Как говорила мать, надо молиться, чтобы беда нас миновала, больше ничего не остается. Если опустится саранча на землю, всему конец. Помнится, будто во сне, было мне тогда шесть годков, стучали мы по бидонам изо всех сил. Для нас, ребятишек, то был праздник, но мама плакала, когда начала саранча садиться наземь. И в конце концов, бидоны бидонами, а ничего не помогло. Тогда старик мой закричал – хватит стучать, черт возьми, хватит, и приказал Панчито и Николасу, чтобы прекратили беготню и угомонились, посидели тихо… Старик будто рехнулся, и нам стало очень страшно – молча, как немой, сел он на вот этот маленький стульчик, он всегда сидел на нем, когда мате потягивал. Вот так и сидел под навесом и глядел, как саранча жрет все подряд. Бровью не пошевельнет, несколько дней слова не проронил. А потом вдруг говорит – уходим, старуха, в город, все кончено, грузите вещи на повозку, и мы все бегом выполнять, что приказал отец, потому как он был вроде ненормальный, хотя голоса не повышал. И когда все погрузили и были готовы, мать не захотела выходить из дома, тут старик подошел к ней и спокойно так говорит – выходи, старуха, выходи, не оглядывайся, здесь все кончено, ничего не поделаешь, мы нищие, не повезло нам, попытаем счастья в городе. Но мать от очага ни на шаг не отходит, знай плачет – тогда старик ухватил ее за руку и потащил в двуколку. А когда вышли за ограду и прикрыли калитку, старик остановился, долго так смотрел на ранчо, не говоря ни слова, но, кажется, готов был заплакать потом повернулся и сказал: «Поехали». Так мы отправились в город и свора собак бежала за нами. В ранчо нашем, поверь, и единой вошки не осталось.
Карлучо помолчал и, глядя в землю, сделал несколько глотков мате.
– Ну вот, как я тебе сказал, старик открыл небольшую бойню для скота, который ему давал дон Панчо, и стали мы жить в ранчо, стоявшем в большом дворе, – двор тоже принадлежал дону Панчо.
– И тут приехал цирк?
– Точно. Тогда отец сдал двор цирку за пятьдесят национальных [129]129
В аргентинском просторечии песо называли «национальная монета», или просто «национальная».
[Закрыть].
– Пятьдесят национальных?
– Ну да, пятьдесят песо. Только я говорю о тогдашнем песо, «сильном» песо. Вот они и поставили свой шатер. Центральный столб был в десять вар [130]130
Вара– мера длины в некоторых испаноязычных странах, около 0,9 метра.
[Закрыть], представления давали по четвергам, субботам и воскресеньям. В субботу и в воскресенье – утреннее, дневное и вечернее. Конечно, когда набиралась публика. А порой приходило не более пяти – десяти человек, и тогда дон Фернандес тушил карбидные лампы, расстраивался, пил канью [131]131
Канья– тростниковая водка.
[Закрыть]и колотил донью Эсперансу, свою жену, эквилибристку, и Мариялу, дочку, наездницу. Работал у него еще тони [132]132
Тони(от диалектального генуэзского «toni») – помощник клоуна.
[Закрыть], брат доньи Эсперансы, но когда дон Фернандес бил его сестру, он не вмешивался. Сам дон Фернандес исполнял опасный номер, метал нож.