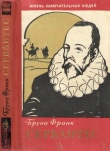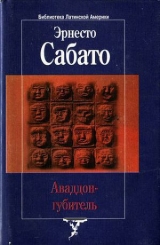
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
– И ты тоже работал в цирке?
– Когда мой старик не видел. Я зажигал лампы, подносил инструменты, все, что скажут. Цирк мне нравился и я хотел с ними уйти.
– И ты ушел с доном Фернандесом?
– Да нет! Разве я мог, если мне только тринадцать исполнилось, и был я в третьем классе… Вдобавок дела у бедняги дона Хесуса шли так дрянно, что он и расходов не окупил. Старик мой немного поддерживал его мясом, они покупали дешевые галеты и так сколько-то дней перебивались, но работы не было, остались они на бобах. Так что когда они свернули шатер, заплатить за наем пятьдесят национальных не смогли, и дон Фернандес хотел оставить моему старику ружье, из которого стрелял в цель в своем номере, но отец сказал – нет, дон Фернандес, заберите свое ружье, как я могу его взять, если оно вам для номера надобно. Так что ушли они, и больше мы их никогда не видели. Однажды, когда я работал в цирке братьев Риверо в Пергамино [133]133
Пергамино– город в провинции Буэнос-Айрес.
[Закрыть], я слышал, что они в конце концов прогорели, продали шатер, ружье и повозку, донья Эсперанса умерла от двустороннего воспаления легких, Мариялу и ее дядя подписали контракт с цирком Фассио, который стоял в Чакабуко [134]134
Чакабуко– город в провинции Буэнос-Айрес.
[Закрыть], а дон Фернандес запил и потому не мог исполнять ни номер с ножом, ни номер со стрельбой в цель.
Карлучо задумался. Тут Начо попросил рассказать, как он ушел с цирком. Робкая, мечтательная улыбка осветила лицо Карлучо.
– Какое время было, Начо, какое время! – начал он свой рассказ. – Сказать по правде, то время мне больше всего запомнилось, то было лучшее время в моей жизни. Было мне уже двадцать два года, я батрачил в эстансии Марии Унсуэ Дальвиар, но когда узнал, что приехал цирк Тони Лобанди, отправился в город. Нелия Нельки в мужском костюме выезжала на белой лошади с длинным, до полу хвостом. А потом появлялся сам Тони Лобанди, другого такого наездника не сыскать, – он вскакивал на круп лошади, которая под музыку кружила по арене, и сбрасывал с себя двадцать пять разноцветных жилетов. А Скарпини, знаменитый аргентинский клоун… А еще был жуткий номер в большущей клетке чуть не на всю арену – африканский лев, укротитель и лошадь, черная, как уголь. А потом показывали знаменитую «человеческую пирамиду» братьев Лопрести… Вот я и сказал, что ухожу с цирком, и будь что Бог судил.
– И тебя взяли в «человеческую пирамиду»?
– Да нет, Начо. Как могли меня взять, коли я ничего не умел? Что такое цирк, по-твоему? Цирк – штука очень серьезная. В общем, взяли меня работником. Я убирал конский навоз, подметал пол, всего понемногу, понимаешь. Короче, батрак. Но когда начиналось представление, мне давали надеть униформу с золотыми галунами и кепи и нас ставили в два ряда, вроде коридора, и по этому коридору проходили атлеты, лошади, дрессированные собаки, клоуны. Потом, когда увидели, что я быстро обучаюсь и сложения ладного, меня взяли в пирамиду. Но случилось это только через три года, когда один из братьев Лопрести помер. Стояли мы тогда в Пергамино, помню как сегодня, Лобанди мне говорит – Карлучо, это твой шанс, а я от счастья сам не свой. Пришлось уйти в темный угол, чтоб никто не видел моих слез. Великая мечта моей жизни. Так началась самая важная эпоха в моей жизни.
Карлучо поднялся, в сумерках он словно начинает светиться, волшебное сияние исходит от его белого как снег трико. Вот они, пять могучих, улыбающихся братьев Лопрести в фокусе цветных лучей. Вот они изящно и уверенно взбираются на стальные плечи Хуана Лопрести. И пока они строят «человеческую пирамиду» на его геркулесовых плечах, дробь барабана драматически напряженно усиливается, пока не доходит до апогея. Потом один за другим они соскакивают с плеч, служивших основанием пирамиды, и барабанная дробь становится все глуше, пока не смолкает совсем. Теперь братья стоят все в ряд и изящно приветствуют аплодирующую публику, и свет постепенно гаснет, и цирк превращается в киоск с газетами и сигаретами, и Карлучо снова становится пожилым человеком, согбенным годами и печалью, словно внутри у него ослабла какая-то загадочная пружина.
– Вот так, Начито… Славное было времечко… Но такой великий цирк ушел навсегда, больше не вернется…
Начо долго на него смотрит, тишина становится все более глубокой. Наконец Начо, хотя он уже это знает, еще раз спрашивает, почему Карлучо оставил цирк.
– Мы стояли в Кордове, когда я повредил себе позвоночник. – Голос его надломился, старик стал потягивать мате и после паузы продолжил: – Лобанди меня оставлял – для тебя, мол, Карлучо, здесь всегда найдется работа, но я сказал – благодарю, дон Лобанди, но лучше мне уйти. Работать уборщиком, будто из жалости, я не хочу. Так и ушел, но мне не хотелось, чтобы меня там, в городе, видели, а тут Кустодио Медина мне и скажи – пойдем со мной на мясохладобойню.
Он уложил поровней несколько газет, поправил ряд шоколадок, стараясь, чтобы Начо не видел его лица. Оба молчали, каждый думал о своем.
Темнота стала почти непроглядной, ночь подкралась незаметно, словно на цыпочках.
Сны коллектива
Дожидаясь своей очереди, на него глядел юноша, сидевший за одним из столиков. Наконец, юноша поднялся и нерешительно подошел к нему. Он хочет поприветствовать С., просто поприветствовать.
– Я читал ваши книги, – запинаясь, сказал он с улыбкой. – Меня зовут Бернардо Вайнштейн.
Очередь была большая, ждать приходилось долго, и ситуация становилась неловкой. Оба были смущены. Он – студент? Нет, служащий. Юноша пристально смотрел на С.
– Вы хотите мне что-то сказать?
Да, конечно, у него есть стольковопросов. Он повторил слово « столько», подчеркнув его слегка, но настойчиво. И внезапно, будто наконец решившись, произнес:
– Например, жестокость…
С. вопросительно посмотрел на него, и Вайнштейн сконфузился.
– Говорите, говорите.
– Вы – приверженец социальных перемен.
Да, разумеется, все об этом знают.
Диалог, едва начавшись, казалось, уже подходит к концу. Юноша не мог сообразить, как примирить два этих утверждения, установить между ними логическую связь. И хотя С. подозревал эти затруднения, однако он тоже не знал, как выйти из положения. Он был раздосадован.
– Мне кажется, вы хотите сказать, что мои романы заполнены жестокими, даже бесчеловечными эпизодами. Разве не так?
Вайнштейн посмотрел на него.
– Наблюдения и мысли Кастеля и Видаля Ольмоса, так ведь? Учительница в «Сообщении о Слепых», не правда ли?
Да, но, Бога ради, пусть С. не примет это за упрек, это не было его намерением, ну как тут объяснить… Он не из тех, кто…
Юноше было очень неловко, он явно раскаивался. Однако С., сделав успокоительный жест, продолжал:
– И то, как согласуются эта жестокость, эти сарказмы Видаля Ольмоса, направленные против прогресса, с левыми убеждениями. Ведь так?
Вайнштейн опустил голову, словно он был виновен в этом противоречии.
– Ну да, чего вы смущаетесь? Вы задали мне превосходный вопрос. Я сам многократно задавал его себе, когда испытывал растерянность, даже стыд из-за того, что способен на столь извращенные мысли.
– Да, но там ведь есть и другие персонажи, – поспешно заметил юноша. – Сержант Coca, Ортенсия Пас, ну и еще…
С. жестом остановил его.
– Знаю, знаю… Но меня больше интересует то, о чем вы раньше сказали. Это трудно объяснить. Мы все противоречивы, но, возможно, романистам это свойственно больше, чем другим. Быть может, потому они и романисты. Я много терзался из-за этой двойственности, но в последние годы, кажется, начал кое-что понимать.
Сеньора, говорившая по телефону, спрашивала о здоровье какой-то девушки (или женщины) по имени Менека, а также о погоде в Сьюдаделе [135]135
Сьюдадела– город в провинции Буэнос-Айрес.
[Закрыть]. Затем она вспомнила, изложила и прокомментировала конфликт с соседом по поводу кота.
Очередь волновалась.
– А потом, когда наконец дойдет очередь, – объяснил С., – или аппарат уже не работает, или соединит неправильно, или монеты проглатывает. Читали вы один из последних рассказов Толстого? Там богатый помещик, чтобы провернуть выгодное дело, пользуется услугами бедняка. Рассказ автобиографический, это доказано. А знаете, что он писал в то же время?
Нет, юноша не знал.
– Свою статью об искусстве. Что есть искусство? Статью морализирующую.
Сеньора у телефона переменила положение, и все подумали, что эта перемена предвещает конец разговора. Увы, она только переместила тяжесть тела на другую ногу. Негодующие реплики становились все ехиднее. Но она была непроницаема для морального давления. Теперь она, видимо, подошла к важной части беседы, к чему-то связанному с опухолью.
– Я упомянул о Толстом, потому что это случай знаменитый и показательный. Нечто вроде практической работы.
– Практической работы?
С., смеясь, объяснил: «Есть у меня такое выражение, не удивляйтесь». Сеньора тем временем, казалось, подошла к заключительной части разговора – наметился некоторый спад его оживленности, все было вздохнули с облегчением. И хотя внезапно этот новый тон (по неизвестной причине, возможно, из-за того, что сообщила ей собеседница из Сьюдаделы) опять стал живей и появились неожиданные варианты плюсов и минусов хирургического вмешательства (как выразилась сеньора), надо сказать, что вскоре этот тон вернулся к нисходящей тенденции и к приветам ряду знакомых обеих беседующих на разных концах телефонной линии. Затем она повесила трубку и, ни на кого не глядя, гордо удалилась. Тут очередь зашевелилась, продвигаясь с неуклюжестью и медлительностью членистоногого животного, взбирающегося в гору с большими затруднениями, усугубленными неудачной структурой этой гусеницы с отдельной нервной системой для каждого из независимых ее колец.
В глазах Вайнштейна была растерянность.
– Поверьте, в последние годы я много мучился, размышляя над этой проблемой. Вы знаете, производились энцефалографические исследования спящих людей. Конечно, в североамериканском университете. Когда человек видит сны, характер волн меняется, поэтому можно узнать, снится ли ему что-нибудь. И каждый раз, как он начинает видеть сон, его будят. Знаете, что происходит?
Вайнштейн смотрел на него во все глаза, словно ожидая решающего открытия.
– Испытуемый может дойти до безумия.
Вайнштейн как будто не понял.
– Вам неясно? Вымыслы во многом сходны со снами, а сны могут быть жестокими, беспощадными, кровавыми, садистскими даже у нормальных людей, которые днем услужливы, любезны. Вероятно, такие сны являются разрядкой. А писатель грезит за все общество. Нечто вроде коллективного сна. Общество, в котором вздумали бы запретить вымыслы, подверглось бы серьезной опасности.
Юноша не сводил с него глаз, хотя выражение их слегка изменилось.
– Конечно, это только гипотеза. Я сам не вполне уверен.
У него снова испортилось настроение – ох, эта сеньора с разговором о котах и фибромах, дядюшках и тетушках и состоянием погоды в Сьюдаделе. Жизнь внезапно показалась ему такой бессмысленной. Та женщина с опухолью, конечно же, умрет. Но что означает вся эта мешанина? Да еще очередь, медлительная, беспокойная и мультицеребральная гусеница! Надеются. Все надеются. На что? Ради чего? Спать, видеть сны.
Засыпая, мы закрываем глаза, а потому превращаемся в слепых. Изумленный, он остановился на этой мысли.
Душа заплывает в великое ночное озеро и начинает свое мрачное странствие, «cette aventure sinistre de tous les soirs» [136]136
это зловещее ежевечернее приключение (фр.).
[Закрыть]. Вероятно, кошмары суть видения окружающей нас жуткой вселенной. И как объяснить эти видения? Лишь посредством неизбежно двусмысленных знаков – здесь нет ни «бокалов», ни «черта», ни «уважаемого господина», ни «пианино». Есть бокалматка, уважчерт, чертматка, матпианино, уважкал, госпокал, пианобокал, бокакал. Есть «анализ» снов, психоаналитики, объяснения этих символов, непереводимых ни на какой другой язык. Ох, не смешите меня, и так у меня колики в животе. Речевая диаррея и только.
И какая наивность! Слепые могут жить спокойно. При объяснении все сводится к нескольким бесцветным и лживым словечкам – все равно что объяснять жестами монголоиду теорию относительности. Разумеется, словами можно конструировать символы. Разве не удалось это Кафке? Но слова эти, каждое в отдельности, не являются символами. Ой, какие колики в животе, Боже праведный!
Незнакомец
Сидел там худощавый брюнет, задумчиво и отчужденно глядя на свой стакан. Бруно была видна часть его лица, словно вырезанного из кебрачо [137]137
Кебрачо– вид южноамериканских деревьев с очень твердой, плотной древесиной.
[Закрыть], – угловатые черты, горестные складки у рта.
Этот человек, подумал Бруно, совершенно и бесповоротно одинок.
Бруно не понимал, почему он кажется ему знакомым, и довольно долго рылся в памяти, пытаясь связать его облик с какой-нибудь фотографией в газетах или журналах. Между тем было, пожалуй, маловероятно, чтобы человек в такой поношенной одежде, явно опустившийся на самую нижнюю ступень, мог бы интересовать прессу. И все же Бруно внезапно подумал, что, возможно, этот тип был связан с каким-то сообщением в хронике происшествий. Посидев за столиком около часа, незнакомец поднялся и ушел. Было ему лет шестьдесят, высокий, худощавый, при ходьбе горбился. Черты лица необычайно жесткие, костюм весь потрепанный, но несмотря на это в его лице и осанке чувствовался некий аристократизм. Шагал он неспеша – очевидно, ему некуда идти, никто его не ждет, и ему все безразлично.
Привыкший наблюдать за одинокими людьми, склонный к созерцанию и бездействию, Бруно подумал: «Это либо преступник, либо художник». Образ этого человека врезался в его память с необъяснимой силой. Несколько месяцев Бруно все думал о нем, но вот однажды ему что-то вспомнилось, появилось смутное подозрение. Он стал перебирать свой архив – то не был архив философа, писателя или журналиста, но, скорее, архив человека, для которого человечество представляет скорбную тайну.
Да, там нашлась фотография незнакомца – то был Хуан Пабло Кастель, который в 1947 году убил свою любовницу.
Вот он, абсолют, подумал Бруно Бассан со спокойной и меланхоличной завистью.
Второе сообщение Хорхе Ледесмы
Очень сожалею, но я должен сообщить Вам нечто такое, что наверняка лишит Вас одной иллюзии. Но не я создал действительность. Я должен Вам сообщить, достойнейший писатель, что Дунай вовсе не голубой, – он грязный, бурый, вода там с глиной, нефтью и дерьмом. Как в нашем Риачуэло, пользующемся куда меньшим престижем в литературе и в музыке, – да что тут поделаешь! Есть две манеры писать. Мне досталась другая: описываемое мной – сущий бардак. Хуже того. Ведь порой я, держа в руке свои брюки, даже не знаю, где моя кровать. У меня все смешивается. К тому же я бездельник. И поскольку мозг у меня небольшой, мне приходился выжидать пока одна мысль выйдет, чтобы могла войти другая.
Трудней всего для меня объяснить – потому что тут нужны рисунки, а я плохой рисовальщик – Закон Голов. Это самая прогрессивная кранеология. Как Вы легко можете себе вообразить, Господь, конечно, не настолько глуп, чтобы предоставлять случаю такое важное в любви дело, как выбор партнера (я имею в виду продолжение рабства в потомстве). Когда случайно рождается гений, это объясняется тем, что все делалось наоборот, что над природой было совершено насилие, – потому-то на одного гения приходятся тысячи идиотов.
Шопенгауэра мать никогда не любила, и, согласно преданию, Дева Мария тоже Иисуса не очень-то любила. Если Вам известны другие случаи, прошу мне сообщить, чтобы я мог продолжить перечень. Меня, например, смастерили, когда моя матушка уже терпеть не могла моего отца. Я не плод любви, я субпродукт тошноты. По причине несовместимости матка определенные сперматозоиды отвергает. Когда началось состязание в беге, я, как дурак, примчался первым и хотел было повернуть назад, но матка уже закрылась. А я там, внутри! Дело дрянь. С самого начала все пошло скверно. И очутился я, одинокий, беззащитный, в мокрой, незнакомой пещере. Снаружи остались триллионы моих братиков, корчившихся от удушья, пока не загнулись. Это тоже есть любовь, господа поэты, воспевающие сумерки, а на самом деле надо бы воспевать су-мокрядь. До сих пор меня преследует то ощущение – ледяной ветер, от которого немеет половина лица, и беспредельное одиночество.
Он смотрел на них с унынием и досадой
Как? Опять надо это обсуждать? Я-то думал, что вопрос был исчерпан уже десять лет назад. Ох, эти псевдомарксисты, делящие литературу на политическую или эстетскую. А поскольку «Улисс» не политическое и не эстетское произведение, его просто не существует. Он, видимо, относится к некоей фауне уродов. Или составляет часть ботаники. В лучшем случае – какой-нибудь утконос. И что же, будем и дальше терять время на эти глупости?
– Но многие ребята спрашивают, обвиняют.
Он пришел в ярость – с таким критерием можно обвинять Белу Бартока [138]138
Бела Барток(1881—1945) – венгерский композитор.
[Закрыть]за то, что он сочиняет музыку, а Элиота [139]139
ЭлиотТомас (1888—1965) – англо-американский поэт.
[Закрыть],– что пишет стихи.
– У меня много дел, а времени мало. Я имею в виду не сиюминутную беседу, а вообще.
– Пусть так, но у вас есть долг.
То был парень с очень резкими чертами лица и тонкими губами, этакий приземистый Грегори Пек [140]140
Грегори Пек(род. в 1916 г.) – американский актер, снимавшийся во многих фильмах.
[Закрыть].
– Кто ты такой? Как зовут?
– Моя фамилия Араухо.
– Обо всем этом я писал десять лет назад.
– Мы читали, – вмешалась девушка в желтом свитере и потертых джинсах. – Речь идет не о нас, мы хотим беседу записать, опубликовать.
– Мне осточертели записи и интервью!
Бруно хотел уйти,
он чувствовал себя неловко. Он смотрел на Сабато – сидит в углу, снимает очки и проводит рукой по лбу усталым, безнадежным жестом, пока эти ребята спорят между собой. Даже между собой у них нет согласия, и они образуют нелепую смесь (что тут делают, например, Марсело и его угрюмый, молчаливый товарищ? По какой абсурдной случайности они тоже оказались здесь?). И эти раздоры, страстное, ироническое несогласие казались сигналом грозного кризиса, трещиной в доктринах. Они обвиняли один другого, как смертельные враги, а между тем все принадлежали к так называемой «левой», однако у каждого, казалось, были причины коситься с недоверием на соседа рядом с ним или напротив, как на тайно или открыто связанного с разведслужбами, с ЦРУ, с империализмом. Он смотрел на их лица. Сколько разных миров скрыто за этими фасадами, сколько существ глубоко различных! Будущее человечество. Какими будут люди? Новый человек. Но как его создать? Вот этот лицемерный карьерист, этот Пуч, которого он среди них видит, а вот такой, как Марсело? Какие свойства, какой ноготок этого маленького скалолаза «левой» могут способствовать лепке Нового человека? Он смотрел на Марсело в поношенной куртке и мятых брюках, внешне такого неприметного, однако снискавшего уважение Сабато. Потому что, как объяснял ему Сабато, перед Марсело он всегда чувствует себя виноватым, как бывало когда-то у него с Артуро Санчесом Ривой, и не потому, что Марсело суров, а напротив – из-за его доброты, молчаливой сдержанности, деликатности. Нет, он не думает, что душа Марсело спокойна, почти наверняка терзается. Но терзания скрыты за его скромностью, даже учтивостью. Бруно было интересно отмечать в лице Марсело черты доктора Каррансы Паса, тот же костистый крупный нос, высокий узкий лоб, большие, слегка влажные, бархатные глаза, – ну прямо кабальеро на погребении графа Оргаса [141]141
«Погребение графа Оргаса» – знаменитая картина испанского художника Эль Греко (1541—1614).
[Закрыть]. Откуда же тогда разногласия? Он еще раз убеждался, как мало значит сходство черт лица. Разногласия, порой непримиримые, порождаются мельчайшими оттенками. Что вещи различаются именно в том, в чем они схожи, открыто еще Аристотелем, прустовской гранью этого многостороннего гения. И действительно, за сходством этих глаз, губ и костистого крупного носа, скрывался глубокий ров разногласий между отцом и сыном. Ров, возможно, естественный, но с годами все углублявшийся. Почти незаметные морщинки у уголков глаз, на веках, в уголках рта, манера наклонять голову и сцеплять руки (у Марсело от робости, словно он просит извинения за то, что они есть у него, и не знает, куда их девать) – вот то, что прискорбно и окончательно разделяло этих двоих, несмотря на их родство и даже (Бруно почти мог это утверждать) взаимную необходимость.
Прекрасно, структурализм!
с иронией заметила девушка в желтом свитере. – Критик из числа Посвященных заменяет слово «история» словом «диахрония», утверждает, что синхроническое описание несовместимо с описанием диахроническим, провозглашает универсальное значение синхронических описаний и, исходя из этого, отрицает возможность придать смысл описанию историческому.
– Да ну! – воскликнул верзила с лицом казака, какие в Аргентине встречаются только среди евреев.
– Как тебя звать? – спросил у девушки Сабато, перебирая в уме: «Зильберштейн, Гринберг, Эдельман».
– Сильвия.
– Сильвия, а дальше?
– Сильвия Джентиле.
В конце концов, не в этом дело. Разве дон Хорхе Итцигсон не говорил, что нигде не видел столько еврейских лиц, как в Италии? К тому же, ее лицо с восточными чертами напоминает лица, какие видишь в Калабрии, в Сицилии. Голову она слегка наклоняла вперед, настороженным движением близоруких, которые могут не заметить, что перед ними яма или верблюд.
Ошибка сделала его более снисходительным. Очень хорошо, что они не читают его книг, это лучшее, что они могут сделать. Парень по фамилии Пуч поспешил сказать, что он-то прочел их все.
– Не может быть, – отозвался С. с легкой иронией. Молодые люди продолжали спорить и обвинять друг друга по поводу структурализма, Маркузе, империализма, революции, Чили, Кубы, Мао, советской бюрократии, Борхеса, Маречаля [142]142
МаречальЛеопольдо (1900—1970) – аргентинский писатель; в 30-е годы занял националистическую позицию, в 60-е приветствовал кубинскую революцию.
[Закрыть].
– Все ясно.
– Что ясно?
Оказывается, этот казак с нелепо пискливым голосом хотел спросить, следует ли вообще перестать писать.
– Как тебя звать?
– Маурисио Соколински, окончание «и», а не «ий», двадцать три года, особых примет нет.
С. внимательно посмотрел на него. Он, случайно, не сочиняет?
– Должен признаться, что да.
И что же он пишет?
Афоризмы. Афоризмы дикаря. Я, знаете ли, грубиян.
Какого рода афоризмы?
– Вы мне сказали, что они замечательные.
– Я? Когда?
– Когда я послал вам свою книгу. Там на обложке в конце мое фото. Вижу, впечатление она произвела не слишком большое.
Да нет же, конечно, помню. Соколински, в конце «и», естественно. Книга интересная. И что еще ты хочешь сказать?
В киосках на улице Коррьентес продаются тысячи журналов, в которых твердят то же самое.
– Что именно?
– Что в литературе теперь уже нет смысла.
– Извини, эти ребята, кто они? – поинтересовался С. – Строительные рабочие, металлурги?
– Конечно, нет. Они писатели, по крайней мере, издают журнальчики.
Понятно.
Что понятно?
– Да ничего, – отозвалась Сильвия. – Было бы логичнее для них перестать заниматься журналами. Ведь этим они не поднимут массы на северо-востоке. Пусть берут в руки винтовку, идут в партизаны. Это было бы логичнее.
– Но даже если предположить, что они пойдут в партизаны, – продолжил ее мысль С., – этот поступок свидетельствовал бы в их пользу, однако не лишил бы значения книги – не книги, вроде трудов Маркса или Бакунина, а литературу в строгом смысле слова. Ведь не потеряла своего значения медицина из-за позиции Гевары. И еще – разве какой-либо из квартетов Бетховена способствовал Французской революции? Так что же, надо отвергнуть музыку за ее неэффективность? И не только музыку – поэзию, почти всю литературу и все искусства. И еще замечу – если память мне не изменяет, марксистская диалектика учит, что общество не созрело для революции до тех пор, пока оно не способно понять, что есть ценного, а значит, достойного для освоения, в том обществе, которое хотят сменить. Мне даже кажется, что это сказал сам Маркс. Эти ребята хотят быть большими марксистами, чем Маркс? Пожалуйста, изложите ваши аргументы.
– Во-первых, – начала Сильвия, – пусть эти парни с улицы Коррьентес…
– А ты-то сама откуда? – перебил ее Араухо.
– Пусть эти парни с улицы Коррьентес, распаляющие друг друга своими однотипными журналами, прекратят писать и возьмут в руки винтовку. Во-вторых…
– Минутку, – перебил ее Сабато, – я эти журналы не читаю. Но настаиваю, что революции подготавливаются не только винтовками. И кто вам сказал, что какой-нибудь из этих журналов ей не помогает?
– Во-вторых, пока они делают революцию, пусть оставят в покое искусство и литературу.
– Это верно, – заметил казак, – но большинство ведь не пойдет в партизаны, они будут уверять, что их воинский долг – помогать из своего окопа.
– Окопа? Какого окопа?
– Литературы.
– Как же так? Разве мы не договорились, что в литературе теперь нет смысла? Что она не помогает разрушить прогнившее общество?
– Верно. Но речь идет об этойлитературе.
– Какой, скажите на милость.
– Той, какую упоминал Сабато. Данте, Пруст, Джойс и тому подобное.
– То есть обо всейлитературе.
– Разумеется.
– Но тогда, – решил вмешаться С., – какая же есть другаялитература?
– Я вам объясню, – ответила Сильвия. – Эти ребята избрали для себя литературу, они действуют в качестве писателей и говорят или притворяются, что с этого, литературного, фронта, будут штурмовать казарму Монкада [143]143
Казармы Монкада в г. Сантьяго-де-Куба атаковал 26 июня 1953 г. Фидель Кастро, что стало первой попыткой борьбы против диктатора Батисты.
[Закрыть]. И вот их «предвосхищение основания» – возможность создания некой Революционной Книги, абсолютной модели, пребывающей в небесах, где Платон незаконно удерживает, в числе других идеальных объектов, лик Фиделя. Исходя из этого, они определяют, какие книги – книги с маленькой буквы – приближаются к тому архетипу, а какие нет.
– Если я правильно понял, – вставил Сабато, – какие– это еще не вся литература.
– Правильно. Ту литературу, то есть всю литературу, эти революционеры помещают в один ящик с шарадами и кроссвордами. Приятные игры. Вне этого ящика остается революционная литература, эффективная, как мортира.
– Один лишь недостаток есть у этой литературы, – заметил Сабато, – тот, что она не существует.
– Вы так считаете? – холодно спросил Араухо.
– Если только не называть революционной литературой прокламации, речи на баррикадах и памфлеты. Или советские пьесы, в которых тракторист-орденоносец вступает в брак с премированной стахановкой, дабы произвести на свет химически чистых детей революции. Небось, не поверите, и у французов когда-то были произведения (о них только рассказывают, потому что они исчезли, стали легендой, настолько были плохи), называвшиеся вроде «Святая Дева Республиканка».
Тут Араухо и Сильвия сцепились в яростном споре.
– Но террористы из левой критики, – сказала Сильвия, – все продолжают искать пятое колесо у телеги, в любом авторе фантастических рассказов они видят колониалиста. И самое смешное то, что сами они литераторы до мозга костей.
– Потому что ни на секунду не перестают писать, – заметил казак.
– И не дают писать другим.
Но что скажет Сабато?
А он слушает их – ему кажется невероятным, что до сих пор еще спорят о таких вещах. Они забыли, что Маркс знал Шекспира наизусть?
– Что и говорить, – поддержала его Сильвия, – Шекспир, он-то написал Революционную Книгу, а ребята с улицы Коррьентес этого не знают.
Ладно, оставим в покое беднягу Карла Маркса, он, видимо, был неисправимым мелкобуржуазнымромантиком контрреволюционеромнаслужбеимпериализмаянки.
– Но в таком случае, – неожиданно спросил парень с индейскими чертами лица, до сих пор благоговейно молчавший, – выходит, что, если не идешь в партизаны, то одними книгами невозможно ничего сделать в пользу революции?
– Мы говорим о беллетристике, о поэзии, – сказал Сабато уже с досадой. – Конечно, для революции можно многое сделать книгами по социологии, книгами критическими – об этом я говорил в самом начале. «Коммунистический манифест» – это книга, а не пулемет. Мы говорим о писателях в точном смысле этого слова. Если кто-то хочет помочь революции манифестом, критикой существующих институций, трудом в периодике или философии, это не только возможно, но даже обязательно, коли ты считаешь себя революционером. Беда, когда смешивают разные планы. Все равно, что утверждать, будто самое ценное у Пикассо – знаменитая голубка, а его женские профили с двумя глазами это, мол, гнилое буржуазное искусство. И это все еще продолжают утверждать советские критики, стражи социалистического реализма.
Кто-то заговорил о выставке Пикассо в Москве.
Неужели? Когда?
Среди молодежи завязался беспорядочный крикливый спор.
– Не будем терять время на этот бесполезный спор, – сказал Сабато. – Я не знаю, устроили в конце концов или же нет выставку Пикассо. Я говорю об официальной доктрине, вот что важно. Не думаю, чтобы голубка предотвратила хоть одну бомбежку во Вьетнаме, но во всяком случае она оправданна. Неоправданно же утверждать, что только это и есть искусство, что именно такого рода плакаты должен делать художник, желающий социальных перемен. Неоправданно смешивать два плана: искусство и плакат. Вдобавок нам порой пытаются внушить, что теперьискусство не может позволить себе такую роскошь, когда мир рушится. Но ведь мир рушился и в эпоху Французской революции, и такой художник, как Бетховен, был революционером настолько, что изорвал свое посвящение Наполеону, когда в нем разочаровался. Однако он все же не сочинял революционные марши. Он сочинял великую музыку. Но «Марсельезу» создал не Бетховен.
– Конечно! – почти закричал Пуч.
Это лицо завораживало Бруно,
каждая угодливая фраза Пуча вызывала у него стыд за весь род человеческий; он знал, что Пуч способен превратиться в доносчика на службе у полиции или пролезть наверх и стать чиновником при этом режиме или режиме с противоположной установкой. И тогда он, в утешение себе, начинал вспоминать Карлоса. Хотя утешение было с долей скорби – ведь он знал, как вредило парням вроде Карлоса существование таких подлецов, как Пуч. Да, Карлос. Разе не он опять стоит рядом с Марсело? Ибо дух повторяется во все новых воплощениях, и Бруно видит почти то же страстное и сосредоточенное лицо Карлоса 1932 года. Лицо человека, глубоко переживающего что-то, чего нельзя открыть никому, даже этому вот Марсело, вероятно, ближайшему другу, хотя их дружба скорее всего основана на молчании и на поступках. С именем Карлоса в его памяти всплыли имена той эпохи: Капабланка и Алехин, Сандино [144]144
СандиноАугусто Сесар (1895—1934) – национальный герой Никарагуа, возглавлявший национально-освободительную войну против войск США, оккупировавших Никарагуа в 1912 г.
[Закрыть], Эль Джолсон [145]145
Эль Джолсон(1886—1950) – популярный джазовый певец в США. Имеется в виду фильм «Певец из джаза» (1927).
[Закрыть], поющий в том забавном фильме, Сакко и Ванцетти. Странная, грустная смесь! Он снова видит Карлоса, чье настоящее имя так и осталось неизвестным, видит, как тот в комнатке на улице Формоса ожесточенно читает дешевые издания Маркса и Энгельса, молча шевеля губами, сжимая кулаками виски, подобно человеку, с трудом отыскавшему и наконец выкапывающему сундук с сокровищем, где он найдет ключ, объясняющий его злополучное существование, смерть матери в нищей халупе среди оравы голодных детей. То был дух религиозный и чистый. Как он мог вообще понять людей? Понять воплощение, падение? Как мог понять нечистую натуру человека? Как мог постичь и принять существование коммунистов вроде Бланко?