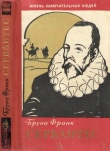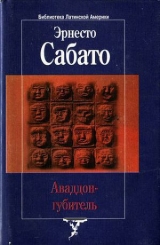
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Перепишу для вас его собственный рассказ: «В ту ночь нас было много – еще ни разу не бывало, чтобы собралось столько народу, как тогда, причем без особого повода и без особой охоты. В тот душный августовский вечер нас одолевала скука. Я был сонный и вдобавок удручен. Вот уже двое суток я не спал, а после долгой прогулки накануне с У. меня одолевал непонятный и неотвязный страх. Друзья начали расходиться, и Домингес, крайне возбужденный, затеял спор с Э., но поскольку спор шел на испанском, мы, остальные, мало что понимали. Вдруг, побледнев и дрожа от гнева, спорщики набросились друг на друга с такой яростью, какой мне никогда не доводилось видеть. Ощутив внезапно веяние смерти, я рванулся удержать Э. Тогда С. и У. навалились на Д., а другие поспешили удалиться – дело принимало дурной оборот. Домингесу удалось высвободиться, но я едва успел его разглядеть – сильнейший удар по голове свалил меня с ног. Друзья подняли меня и хотели увести. Голова у меня кружилась, причем все больше мутилось в глазах, и я просил отвести меня домой, чтобы лечь спать. Но друзья повели меня куда-то в другое место. На их лицах было выражение скорби и ужаса, а я не понимал, что происходит, до той тысячной доли секунды, когда, проходя мимо зеркала, увидел свое окровавленное лицо и вместо левого глаза огромную рану. В это мгновение я вспомнил о своем автопортрете, и при всем смятении моего ума сходство раны с нарисованной пробудило во мне чувство реальности».
Возвращаюсь к душе, странствующей во время сна и способной видеть будущие события, поскольку она свободна от тела, – а ведь именно тело держит душу в темнице пространства и времени. Кошмары – это видения нашего ада. И то, что все мы узнаем в снах, мистики и поэты могут узреть посредством экстаза и воображения. «Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant». И в одном из экстазов, одаренный этой ужасной привилегией художника, Виктор Браунер увидел свое жуткое будущее. И изобразил его. Не всегда видения бывают такими четкими, куда чаще они разделяют загадочную или двусмысленную природу снов. Отчасти из-за темноты, царящей в этих областях страха, которые душа видит как бы сквозь туман по причине неполной дезинкарнации, ибо ей не удалось окончательно освободиться от своей плоти и от связей с материальным настоящим; отчасти же потому, что человек, вероятно, не способен вынести жестокостей ада, и наш инстинкт жизни, инстинкты нашего тела, которое вопреки всему изо всех сил удерживает душу, стремящуюся к безднам, предохраняют нас масками и символами от инфернальных чудовищ и пыток.
В лабораторию я вернулся очень поздно. Гольдштейн уже ушел. Сесилия, которая наверняка ждала меня, собиралась уходить и уже сняла халат. Глаза ее смотрели на меня умоляюще, то были скорбные глаза «идише маме» [249]249
«Еврейской мамы» (идиш).
[Закрыть].
– Все в порядке, Сесилия, – сказал я. – Ничего особенного. Просто сильно болит голова.
Она оставила мне свои замеры и ушла. На пороге еще спросила, не хочу ли я пойти вечером на органный концерт в не помню какой церкви. Нет, не хочу, спасибо. Я смотрел, как исчезает ее маленькая фигурка, семеня мелкими шажками. «Я с ней слишком груб», – подумал я. Когда она поступила к нам, я стал ей доказывать заурядность мадам Кюри, и она чуть не заплакала. Теперь я пообещал себе завтра же доказать ей, что эта женщина гениальна.
Я опять достал трубку с актинием и положил на свой рабочий стол. Глаза, мутившиеся от желания спать, не хотели смотреть, и свет раздражал больше обычного. Погасив лампу, я сидел в пустой тихой лаборатории, еле освещаемой мертвенным светом из соседней комнаты.
Я поднялся, подошел к окну и посмотрел на улицу Пьер-Кюри. Начинал моросить дождь. Меня опять одолевала привычная тревога. Я снова сел и уставился на свинцовую трубку, хранившую грозный актиний. Незаметно для себя задремал, внезапно меня разбудило лицо Ситроненбаума с загадочным, но явно демоническим взглядом.
Глаза мои опять остановились на свинцовой трубке – каким-то образом она была связана с моей тревогой. А с виду такая безобидная. И однако внутри нее происходили страшнейшие катаклизмы в миниатюре, незримые микроскопические миниатюры Апокалипсиса, о котором говорил Молинелли и который в течение веков предсказывался прямо или туманно таинственными пророками. Я подумал, что, если б я мог уменьшиться до размеров лилипута и обитать в атомах, заточенных в этой неподступной свинцовой темнице, и если бы в таком случае одна из этих бесконечных вселенных превратилась в мою собственную солнечную систему, я, объятый священным трепетом, мог быть в этот момент свидетелем грозных катастроф, адских молний, сеющих ужас и смерть. Теперь, через тридцать лет, мне приходят на память эти дни в Париже, когда история исполнила часть зловещих пророчеств. 6 августа 1944 года североамериканцы предвосхитили в Хиросиме ужас светопреставления. 6 августа. День Света, день Преображения Христа на горе Фавор!
Бедный Молинелли – гротескный глашатай истин, столь далеких от его жизни и от его наружности, почти смехотворный посредник между богами тьмы и людьми. «Уран и Плутон – посланцы Нового Времени: они будут действовать, как извергающиеся вулканы, обозначат рубеж между двумя эрами», – говорил он, пристально глядя на меня. И заметьте, эти предсказания были произнесены в 1938 году, когда мы еще не знали, что атомы урана и плутония станут искрами, от которых разразится катастрофа.
Но довольно, лучше не вспоминать эту полную тревог эпоху. В пятницу, когда снова встретимся, я лучше поговорю о том, что происходит со мной сейчас.
Интервью
На днях молодой человек по фамилии Дель Бусто пришел взять интервью для «Семана графика» [250]250
«Неделя в картинках» – буэнос-айресская еженедельная газета.
[Закрыть].
Почему он уехал из Ла-Платы?
Откуда он знает. Вся его жизнь была рядом абсурдных, непоследовательных поступков, но, безусловно, за этим хаосом скрывается некий порядок, он имеет в виду тайный порядок. Оставить Ла-Плату означало для него навсегда покинуть научный мир? Да, возможно, что так. Как бы то ни было, он переехал в Буэнос-Айрес. Энрике Вернике свел его с человеком, сдавшим ему почти за гроши ранчо в сьерре Кордовы. Так он познакомился с доном Федерико Валье, человеком пещер. И как это он мог жить в этом пустынном, безлюдном месте у речки Чоррильос, в хижине без электрического света, без воды, без окон?
Пока он беседовал с Дель Бусто, все как будто упорядочивалось, и из хаоса начинал брезжить свет – черное солнце. Само собой они пришли к разговору о пещерах и подземельях, о Слепых.
– Привратники, – сказал Дель Бусто.
Привратники? Причем здесь привратники? Сабато задал этот вопрос с дрожью, которая, возможно, чувствовалась в его голосе, потому что Дель Бусто озабоченно на него посмотрел. Тогда юноша рассказал ему то, что он уже знал, то, что раньше или позже кто-то должен был ему рассказать. Ему. И все же он слушал гостя с уважительным вниманием.
– Начиная с первого этажа и до верхнего современные квартиры такие чистые, всюду цемент и пластик, стекло и алюминий, кондиционеры. Все безупречно.
– Абстрактно, – уточнил Сабато почти с нетерпением, чтобы сократить рассказ.
– Вот-вот, абстрактно. А внизу крысы. Ночью, на блестящих котлах. Привратник, портье – человек, ведающий шлюзом между двумя мирами.
Сабато молча смотрел на него, затем подтвердил:
– Ну конечно.
Смеркалось, без умолку щебетали птицы, устраиваясь в гнездах.
– Я должен был прийти к вам.
– Да, разумеется.
– Раньше или позже. Слепые всегда меня привлекали, – сказал Дель Бусто.
Выражение его лица уже едва можно было разглядеть, когда он прибавил:
– Я хотел бы, чтобы эта моя работа о привратниках и крысах вышла под вашим надзором, так сказать.
– Моим надзором?
– Да, да, тут нет ничего особенного. Это из-за Слепых. С тех пор, как я о них прочитал, меня это волнует и заставляет обращать внимание на некоторые слухи.
– Слухи?
– Я хочу сказать, на голоса в моем собственном уме.
– Вы пишете?
– Нет, это интервью – первая моя работа. Мне ее поручил Валькер, потому что я назвал ему тему, потому что я хотел вас увидеть. На самом деле я фотограф.
– Фотограф?
«Записывающий свет». И он тоже решился оставить мир света!
Молодой Дель Бусто рассказал ему еще кое-что – результаты своих исследований о борьбе Монетного двора с крысами, пожирающими банкноты. После многих лет расчетов, тщательно разработанных проектов, неудавшихся атак, соорудили мощный бункер из армированного цемента. Опять неудача. Крысы проникли через трубы? Размножились в бункере?
Они поговорили о возможности провести полное исследование в подземельях, подвалах, клоаках, канализационных трубах. Наиполнейшее исследование, и оно, вероятно, даст ужасающие результаты.
Когда Дель Бусто уходил, С. едва не завел с ним разговор насчет привратников. Но ему показалось, что пока это неуместно.
И, пожалуй, не нужно.
Он шел по улице Коррьентес,
как вдруг увидел Астора Пьяццолу [251]251
Астор Пьяццола(1927—1992) – знаменитый композитор и виртуоз, исполнитель танго на бандонеоне.
[Закрыть]. И уже хотел было с ним заговорить, но понял, что обознался, – то была некая карикатура на Пьяццолу. Незнакомец с удивлением остановился, а С. поспешно пошел дальше. Свернул за первый же угол, будто пристыженный, спасающийся бегством. Теперь он шел по улице Суипача. На минуту сделал вид, будто разглядывает витрину, и, успокоившись, направился в кафе что-нибудь выпить. Как раз рядом было кафе «Дядя Карлос». В кассе не было Куна, поэтому он сел за первый попавшийся стол и вдруг увидел улыбающегося ему Пьяццолу.
– Что? Тебя испугала моя щетина? – спросил Астор.
– Нет, не это.
– С тобой что-то неладно?
С. немного поколебался, рассказывать ли, что с ним приключилось, но все же рассказал с таким волнением, которое Астор не мог понять.
– Да это простое совпадение, – сказал он.
С. посмотрел на него раздраженно.
– В городе, где живут почти девять миллионов?
Тут Астор завел разговор о проекте сделать вместе с Сабато буэнос-айресскую мессу.
– Как ты сказал? – рассеянно спросил С.
– Мессу. Буэнос-айресскую мессу.
Нет, не сейчас, очень скверно со здоровьем, очень нервничает. Он посмотрит. Под каким-то предлогом тут же простился и направился в кафе «Олень».
Бруно нашел, что он выглядит неважно, и осведомился о его здоровье.
– Ничего, в порядке, – рассеянно ответил он. Выпил кружку пива и, немного погодя, сказал: – Вы, наверно, думаете, что я преувеличиваю насчет доктора Шнайдера.
– В каком смысле?
– Ну так, вообще… насчет его могущества…
Бруно принялся раскладывать зубочистки.
– Уже много лет, как я потерял его из виду, а теперь он здесь, – продолжал С. – Это точно. Где-то в Буэнос-Айресе.
«Потерял из виду», – подумал он с содроганием.
Бруно выжидающе посмотрел.
– Я вам говорил, как он снова появился в 1962 году?
– Да.
– А рассказывал, как я следовал за ним в метро?
– Нет.
– После той встречи в 1962-м, как помните, я видел его три или четыре раза. Иногда одного, иногда с Хедвиг. Ее-то, конечно, я видел довольно часто, пока она не исчезла. В баре «Цур Пост», где мы, кажется, тоже встречались?
Бруно кивнул.
– Да, оба они исчезли. Но заметьте, у меня постоянно было ощущение, что они где-то здесь, в каком-то уголке нашего города. И что до Шнайдера, так я его снова увидел на углу улиц Аякучо и Лас-Эрас. Но как только он меня заметил, – во всяком случае, я так думаю, – он скрылся в кафе. – С. задумался. – Это был он, я уверен, – пробормотал он себе под нос. – Что касается Хедвиг…
– Ее вы больше не видели?
– Нет, но она в Буэнос-Айресе, не сомневаюсь. Она его орудие. Из-за этого она страдает. Ее угнетает власть этого типа. Или зависимость, а вернее, рабство, с которым она вынуждена мириться. Да, да, именно так, – рабство. Это точное слово. С той оговоркой, что в данном случае раб выше хозяина. Конечно, я имею в виду не общественное положение… Несмотря на ее физический и нравственный упадок… Это бросалось в глаза…
Слова С. звучали все тише, как будто он снова разговаривал сам с собой, меж тем Бруно думал, что и у него складывалось такое же впечатление: она состарилась не только телесно до такой степени, что ее прежние прелести едва угадываются средь запущенности и деградации (как прежние красоты старого парка через покосившуюся ограду, среди руин), но также сломлена духовно, – сказались время и терзания плоти, разочарование и горечь, но более всего рабское подчинение этому мерзкому субъекту, и поэтому лишь в мимолетные и печальные мгновения можно было угадать проблески ее прежнего духа посреди моральных развалин. С. попросил еще пива.
– Не знаю, что со мной. Как будто я сильно обезвожен.
Он задумчиво смотрел на свою кружку.
– В то время, когда вышли в свет «Герои и могилы», он, как я вам говорил, встречался мне, и я начал следить за ним. Пока однажды, после многих бесплодных усилий, не получил результат.
И, глядя на друга, прибавил:
– Результат сокрушительный.
После минутного молчания С. продолжал:
– В тот день мы условились встретиться. Когда расстались, я последовал за ним, пока он не вошел в кафе «Мюнхен» на площади Конститусьон. Я стоял на площади, дожидаясь, пока он выйдет. Простоял около двух часов. Он вышел, когда уже начало смеркаться, и спустился в метро. Я вошел в соседний вагон, чтобы следить за его действиями. На станции Обелиско он сделал пересадку на станцию Палермо, и я опять вошел в соседний вагон. По его поведению мне показалось, что он чего-то ждет там же, в метро. На миг я со страхом подумал – его способности позволят ему узнать, что я нахожусь где-то рядом, и он может меня застать врасплох. Ну что ж, если так случится, я это припишу совпадению. А если он не поверит – тоже благодаря своим особым способностям, – что я теряю? На худой конец он поймет, что я начеку и ни в коем случае не буду легкой добычей, – возможно даже, что я в его глазах вырасту на несколько пунктов. Так я размышлял, как вдруг увидел, что навстречу нам идет слепой с воздушными шарами, постаревший, но по-прежнему, видимо, сварливый и злобный, как в те времена, когда Видаль Ольмос привлек внимание к его личности. Я вздрогнул, вспомнив Фернандо в этом же метро, вовлеченного в такое же преследование, – но кто кого преследует? – и у меня появилось предчувствие того, что произойдет: слепой не прошел мимо Шнайдера, как мимо случайного встречного, – его обоняние, слух, а быть может, некий тайный знак, известный им двоим, побудили его остановиться, чтобы продать шары. Шнайдер купил несколько штук, и тут я опять с дрожью вспомнил, какие на нем всегда нечистые воротнички. Затем слепой пошел дальше. И когда поезд остановился, Шнайдер вышел, я за ним. Но тут же он затерялся в толпе.
С. умолк и надолго погрузился в размышления, – казалось, он забыл о Бруно. Тот не знал, как поступить, но в конце концов спросил С., не хочет ли он уйти или по крайней мере перейти в менее шумное кафе. Что? Казалось, С. не расслышал его.
– Я сказал, что здесь слишком шумно.
– Ах, да. Шум ужасный. Мне с каждым днем все труднее переносить шум Буэнос-Айреса.
Он поднялся, объяснив, что ему надо позвонить. Бруно заметил, что, направляясь к телефону, С. озирался по сторонам. Возвратясь, он сказал:
– Я вам говорил, что дело начало усложняться с тех пор, как я опубликовал «Героев и могилы». Ведь говорил?
Да, он говорил.
– Но когда меня окружили эти славные люди, на том сеансе в подвале, – помните? – мне показалось, что путь расчищается… Конечно, силы такого рода нелегко одолеть. И, кажется, я упоминал, что они меня предупредили: борьба закончится в мою пользу при условии, что я буду готов победить их окончательно. Я это пообещал в тот миг, когда едва не потерял сознание. Рассказывал я вам и об оптимизме, пробудившемся во мне на следующий день. Теперь я понимаю, что он был преждевременным и показательным для наивности, до которой можно дойти вместе с отчаянием, – поверить в людей этого уровня: аборигены, вооруженные палками для защиты от атомной бомбардировки. Но как бы то ни было, они пробудили во мне желание бороться и надежду. М. теперь мне призналась, – раньше она не решалась, – что видела во сне патио в миниатюре, в котором двигались, как во дворике лилипутской тюрьмы, неистово, но беспомощно, суетились карлики, они жестикулировали и, казалось, кричали, хотя крики их, как в немом фильме, были не слышны: в страшной тревоге, даже в гневе, они поглядывали вверх, словно просили помощи. Она мне сказала – это персонажи твоего романа, если ты их не освободишь, они в конце концов сведут меня с ума.
Я молча посмотрел на нее.
– Ради Бога, – взмолилась она.
Ее взгляд меня смутил, в нем сквозили ужас и отчаяние.
– Если ты не будешь писать, я от них обезумею. Они вернутся. Я это знаю.
С тех пор я запирался в кабинете, усаживался за стол, иногда доставал бумаги, ворох страниц, полных противоречий и нелепостей. Буквально с физическим усилием клал их перед собой и тупо глядел, порой по нескольку часов. Когда по какой-либо причине – под каким-либо предлогом – М. заглядывала ко мне, я принимался перебирать эту кучу бумаг или делал вид, будто что-то там правлю шариковой ручкой. И после того, как она выходила из комнаты, я все еще чувствовал ее устремленный на меня взгляд. Понурясь, я шел в сад, но мне не удавалось ее обмануть.
Все это происходило до того, как я познакомился с этими людьми. А после знакомства у меня появились какие-то надежды. И, раздувая огонек, защищая его от ветра, я старался добиться того, чтобы пламя разгорелось.
Сеанс в подвале произвел на меня впечатление, особенно когда белокурая девушка играла пьесу Шумана. Но на другой день появилась мысль о неравенстве возможностей этих замечательных людей и той колоссальной силы. И я начал критиковать то, что произошло в подвале: на определенной ступени обучения эту пьесу играют многие ученики. Разве так уж невероятно, что она могла ее знать и играла под телепатическим воздействием моего собственного желания?
Нечего преувеличивать, все это немногого стоит. Не потому, что я считал их обманщиками, – нет, они были искренни, это добрые люди. И все же я спрашивал себя, действительно ли их усилия оказались совершенно неэффективными. Я замечал улучшения в состоянии моего духа – как у человека, перенесшего тяжелую болезнь, появляется желание что-нибудь съесть, сделать шаг-другой.
Дело в том, что борьба идет непрестанная и беспощадная, с наступлениями и отступлениями. Надо бороться постоянно, не останавливаясь ни на секунду, не успокаиваясь, если захватишь какую-то высоту или если враг ретируется, – ведь это может быть просто уловка. Такую борьбу я веду многие годы, вступая в стычки столь же странные, как та история со статуей.
Окрестные мальчишки смотрели на нее со страхом – это я, конечно, заметил после того, – она стояла почти незаметная среди ветвей, под пальмой в глубине аллеи. И я, видя, что ребятишки и, главное, дон Диас глядят на нее с опаской, понял, что в ней есть что-то зловещее. Однажды я это высказал Марио.
– Но послушай, папа, – укорил он меня тоном, каким говорят с недоумком, – разве ты не знаешь, что ни один актер не работает на сцене, на которой стоит гипсовая статуя?
– Почему?
– Откуда я знаю. Но это всем известно.
В ту ночь я не мог уснуть, пока внезапно все для меня не прояснилось. Как я раньше не догадался? Утром я об этом сказал М.
– Тебе не приходило в голову, что появление статуи на дорожке в то утро очень трудно объяснить? Зачем было ставить эту огромную гипсовую статую, женщину в натуральную величину, в моем саду? Откуда она взялась? Это работа скульптора, не какого-нибудь изготовителя садовых копий, а работа современного скульптора. У кого мог быть подобный предмет здесь, в Сантос-Лугарес, рабочем поселке, жители которого, самое большее, могут украшать свои дома дешевыми поделками? И зачем было ставить ее в саду? Да еще ночью. Тебе ничего не приходит в голову?
Она задумалась – она привыкла опровергать мои бредовые идеи.
– Вспомни. Я уже много лет хочу приобрести статую для моего сада, какую-нибудь из тех копий греческих или римских статуй, которые стоят в парках. Вспомни, я всеми способами старался заполучить одну из тех, что стоят в парке Лесама или в доме из моего романа, в доме на углу улиц Линиерс и Иригойен. Об этом знали многие наши знакомые. Некоторые меня уверяли, что постараются достать такую копию. Даже Пребиш, когда был нашим алькальдом.
– Да, верно.
– И еще вот что. Что мы подумали, увидев статую на дорожке?
– Что это шутка. Дружеская шутка кого-то из знакомых. Поставил ночью статую, чтобы утром мы удивились.
– Правильно. Только ты упустила одну деталь.
– Что именно?
– Этот друг так и не объявился. А зачем ему скрываться? Разве он сделал что-то постыдное? Если статую водрузили здесь, чтобы доставить мне удовольствие, к чему эта скрытность? Напротив, прошли месяцы, а дела наши идут все хуже и хуже, и статуя в этом углу кажется все более зловещей. Уже не раз дон Диас спрашивал, почему я держу в саду эту штуку?
– Да, ты прав.
– Теперь порассуждаем иначе. Предположим, что кто-то хотел причинить мне вред предметом, принесенным в мой дом. Кто-то знавший о моем желании иметь статую. Все очень просто – ночью он ставит статую в саду, желающий навести порчу знает, что я встаю спозаранок и выхожу в сад, он воображает, что я, увидя ее на дорожке, побыстрей занесу в дом. Разве не могло быть так?
Она молча посмотрела на меня. Я потребовал ответа.
– Да, конечно, может, – согласилась она.
Всю ночь я провел в тревоге – лицо этого подобия женщины с пустым взглядом, как у Слепой, все мерещилось мне, будто наяву, злорадно усмехаясь.
Чуть свет я поднялся и поспешил в сад. Она стояла там, среди зелени, и как бы глядела на меня своим отвратительным ликом.
Сперва я хотел убрать ее сам, но она оказалась чересчур тяжелой. Я едва дождался появления дона Диаса в саду, как всегда по утрам, и попросил его помочь. Мы вытащили ее на улицу, потом он сходил к себе домой за веревкой, обвязал статую так, чтобы можно было вскинуть на спину, и сказал, что сам с ней управится, отнесет куда-нибудь.
Куда? Я не стал спрашивать. И, странное дело, Диас тоже мне не сказал.
Сабато пристально посмотрел на Бруно, словно интересуясь его мнением.
– Действительно, очень странно, – отозвался тот, выдержав взгляд Сабато в течение нескольких секунд.
– Разве не так?
Сабато глубоко задумался. Кастель и месть Секты. Насколько он понимал, Фернандо был напуган и решил сбежать за океан. Однако в нелегком кругосветном плавании он не достиг ничего иного, как новой встречи со своей судьбой. Любопытно, что временами он это предвидит и все равно не перестает метаться. Он, Сабато, тоже хотел бы избежать своей судьбы, но непонятная сила вынуждает его день ото дня все больше углубляться в то, чего он хочет избежать. Да, много раз он собирался все бросить, открыть маленькую механическую мастерскую где-нибудь на окраине и, может быть, даже отпустить бороду.
И чем больше ощущал он себя в осаде, с тем более глубокой меланхолией лелеял мысль об этой нелепой перспективе. Да, именно этот глагол – «лелеял». Теперь он предчувствовал, что кульминация всего наступит на этих вот страницах. И хотя точно не знал, кульминация чего, заранее был уверен в том, что месть свершится.
А ведь ему жизнь так интересна! Он хотел бы написать еще о стольких вещах!
И в какой-то мере он может это сделать, лишь бы речь шла только о простых идеях. Те Силы идей не боятся, Боги на них не реагируют. Сновидения, мрачные фантазии – вот чего они боятся.
– А тут еще доктор Шницлер, – сказал он вдруг.
– Разве его зовут не Шнайдер?
– Нет, я говорю о другом человеке. Профессор, оригинал, слишком большойоригинал. Шлет мне письма.
– Письма?
– Да, письма.
– Угрозы?
– Нет, ничего похожего. Это профессор. Начал присылать письма по поводу каких-то моих идей о сексе. – Он пошарил в кармане. – Вот, погляди, последнее.
«В фортепиано, дорогой доктор, звуки низкие (темные) находятся на клавиатуре слева. Высокие, или светлые, – справа. Правая рука играет партию рациональную, «понятную», мелодию. Заметьте, какое значение приобретает партия правой руки у композиторов-романтиков. Ведь так?
Вначале писали сверху вниз, как китайцы, или справа налево, как семиты. В более позднее время письмена «гнотисеаутон», в храме Солнца, идут слева направо. Заметьте, доктор Сабато: первый тип спускался к земле, второй, семитский, к бессознательному или к прошлому; лишь третий, последний, наш – направлен к осознанию реальности.
Геракл на распутье выбирает дорогу направо. Усопшие праведники, по мнению Платона, идут по пути направо и вверх; нечестивые – вниз и налево. Подумайте, дорогой доктор, подумайте. У вас есть еще время, поверьте в человека, который…» И так далее.
– Но я не вижу, чего тебе тревожиться…
– О, у меня печальный опыт. В этих письмах есть что-то, какое-то назойливое стремление встретиться со мной, что-то связанное с миром науки, то есть света, который в конце концов… Тут, знаешь ли, дело в чутье. Его письма, с каждым разом все более уверенные, что-то скрывают под внешней любезностью. И теперь я решил раз и навсегда взять быка за рога. Вот, кстати, – он поглядел на часы, – я договорился встретиться с ним в шесть. Пора идти. Вскоре увидимся.
Доктор Шницлер
Когда он позвонил, то убедился, что в глазок смотрят него, причем смотрят как-то слишком долго. Затем дверь приоткрылась, и из-за нее выглянула голова – гибрид от скрещивания птицы с мышью.
Пискливым, нервным голоском он выразил свою радость, тоже какую-то птичью. Был он очень худой, иссохший за годы, проведенные среди книг. Мышиные глазки поблескивали сквозь круглые стекла очков со стальной оправой, какие опять ввели в моду хиппи, но он-то наверняка купил их полвека тому назад в Германии и сохранил с той аккуратностью, с какой хранил в шкафах книги, стоявшие ровными рядами, словно германское войско, чистые, продезинфицированные, пронумерованные.
Да, так оно и есть – он передвигается быстренькими прыжками птицы, когда ей доводится ходить по земле нервными, короткими прыжками, что-то вроде стаккато в какой-нибудь шутливой партитуре Гайдна. Он показывал гостю книгу сразу на нужной странице, потом ставил с величайшей тщательностью на надлежащее место. С. подумал: если бы этого человека какая-нибудь уважаемая им сила (скажем, распоряжение немецкого правительства) заставила одолжить одну из книг, он испытал бы страдания сверхзаботливой матери, чей сын должен отправиться на войну во Вьетнам.
Заодно он как бы производил смотр своим богатствам, показывая бог весть которую цитату. Потом приотворилась дверь, и через узкую, строго рассчитанную щель просунулся поднос с двумя чашечками кофе, поддерживаемый морщинистыми руками невидимой женщины. Поднос этот без комментариев был подхвачен доктором Шницлером.
Где он видел это птичье лицо с мышиными глазками?
Доктору Сабато кажется, что я на кого-то похож, да? – С мефистофельской усмешкой профессор указал С. на портрет Гессе [252]252
ГессеГенрих (1877—1962) – швейцарский писатель.
[Закрыть]с посвящением.
Верно, верно, – то же лицо преступника аскета, удерживаемого на пороге убийства философией, литературой и, вероятно, некой неодолимой, хотя и тайной, профессорской порядочностью.
Как же он раньше этого не заметил? Наверно, потому, что двойник Гессе все время улыбался, – гротескный брат мрачного убийцы.
– Мы переписывались.
Как жаль, как жаль, что здесь, в Буэнос-Айресе, нельзя достать «Инакомыслие» [253]253
Книга Э. Сабато (1953).
[Закрыть]. Но он сделал в библиотеке фотокопию того, что ему необходимо. И Сабато, объясняя, что, наконец, согласился на переиздание, осторожно спросил, как получилось, что профессор так им заинтересовался. Тот, подпрыгивая, открыл блестящий шкаф и достал оттуда идеально чистую папку.
– Вот, смотрите. Меня, доктор, всегда интересовала ваша позиция.
Немец, подумал он с восхищением. Если немец обнаружит, что кто-то получил степень доктора, пусть даже в каком-то предыдущем воплощении, уже ничто (разумеется, кроме правительства) не заставит его умолчать этот титул. С. иронически попытался намекнуть, что это относится к его предыстории, к его лягушачьему периоду, но Шницлер опроверг это быстрыми движениями указательного пальца, какими стрелка метронома отмечает allegro vivace [254]254
Очень быстро (ит.).
[Закрыть]. Для Шницлера это было все равно, что отрицать существование руки из-за того, что она в перчатке. Бесполезно. С. знал это по долгому опыту.
Да, как он сказал, его всегда интересовала эволюция Сабато.
– Весьма любопытная, доктор, весьма любопытная!
И он изучающе глядел на гостя с хитренькой ухмылкой птицы, «возможно, принадлежащей к масонской ложе», – подумал Сабато. Выражение его лица говорило: «Меня не обманешь», – пока Сабато со всевозрастающей тревогой спрашивал себя, о каком обмане тут может идти речь.
Но еще более любопытен стал ему Сабато, когда он прочитал роман «Герои и могилы». Он ждет комментариев автора. Для чего? Почему?
На секунду воцарилась абсолютная тишина, и эта секунда встревожила Сабато. Он вдруг интуитивно почувствовал, о чем думает этот человек, но поостерегся высказать свои мысли. Напротив, он выслушал комментарий Шницлера, как если бы с величайшей наивностью и впрямь интересовался, что тот мог найти там «весьма любопытного».
Слова профессора звучали сухо и точно. И, хотя это и не было неожиданностью, от заключительной реплики Сабато вздрогнул.
– Слепые, доктор.
Шницлер произнес это, глядя гостю в глаза.
И какого черта он согласился встретиться! Да еще у него дома! И тут же С. сделал вывод: потому что его боялся, потому что от его писем веяло чем-то опасным. С какой целью профессор так настаивал на свидании? В любом случае лучше пойти навстречу опасности, прозондировать невидимые рифы, измерить их, составить карту, – мгновенно пронеслось в его уме, между тем как хозяин сверлил его своими мышиными глазками. Внезапно его осенило, он вспомнил о женщине с подносом. Почему она не показалась?
– Но ведь вы женаты, доктор Шницлер?
Много лет спустя после этой первой встречи он спрашивал себя, что хотел сказать этим «но».
Профессор посерьезнел, как будто просчитывал позицию неприятеля. Потом утвердительно хмыкнул, следя за реакцией собеседника.
Бесспорно, его насторожило «но», так как в речах обоих не было ни одной фразы, оправдывающей этот союз. Наверно, это ему показало (подумал Сабато), что мой ум работает в двух планах: поверхностном плане диалога и в другом – более глубоком и сокровенном. И как чуткий конь на лугу, заартачившись, останавливается, когда почувствует присутствие чего-то странного, невидимого, так и Шницлер явно струхнул до такой степени, что даже не сумел сохранить неизменную улыбку, скрывавшую его подлинные намерения.
– Да, женат, – сказал он, как бы оправдываясь.
И мгновенно вернул улыбку, пока искал на полках книгу какого-то оксфордского профессора.